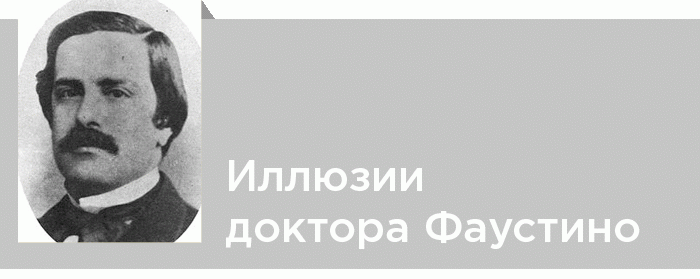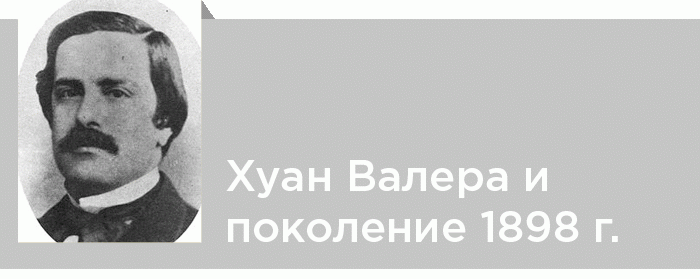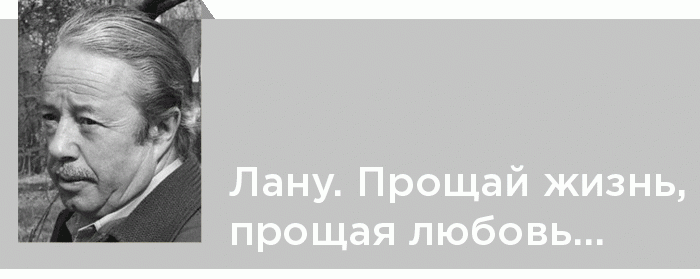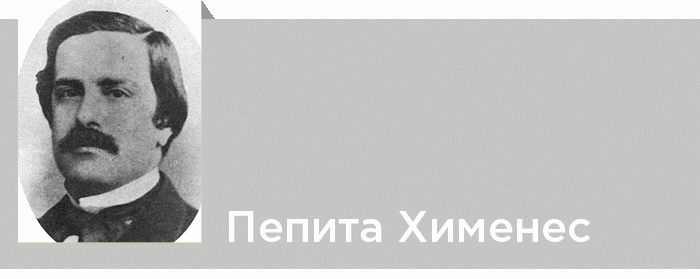Хосе Мария де Переда. Герб и мошна

(Отрывок)
От пышного величия и ослепительного блеска предков у сеньора дона
Робустьяно Трес Соларес-и-де ла Кальсада четырнадцать лет назад оставалось всего-навсего:
сюртук зеленого сукна с пуговицами, обтянутыми черным бархатом;
козловой кожи жилет желтого цвета;
галстук, служивший украшением туалета;
две цепочки от часов, с брелоками, но без часов;
панталоны черного сукна, изрядно поношенные;
полусапожки с дюжиной заплат;
плюшевая шляпа, видавшая виды;
трость с серебряным набалдашником и наконечником, - все это для праздничных дней и особо торжественных случаев.
А для будничных дней:
еще один сюртук неопределенного цвета, с торчащими отовсюду клочьями ваты;
еще один галстук черного бархата, потертого сверх всякой меры;
еще один жилет, из простой грубой ткани, цвета пеклеванного хлеба;
еще одни панталоны, красновато-бурого, "блошиного" цвета и такие
замусоленные, будто ими вытирали пол;
еще одна шляпа, с высокой тульей, на коленкоровой подкладке;
домашние туфли из бычьей кожи;
пара кожаных пастол с застежками на случай дождя.
В качестве особо ценных предметов наряда и отличительных признаков служили:
синий плащ, отороченный у ворота мехом выдры и с прорезями для рук,
обшитыми простой тесьмой;
громадный зонт красного шелка с ручкой, наконечником и толстым латунным кольцом.
В добавление ко всем этим аксессуарам, символизирующим материальное
благополучие как в настоящем, так и в будущем:
дом на четыре ската с крытой галереей и скотным двором (однако об этом нам
еще представится случай рассказать более подробно);
аллея, или, вернее, кольцо старых кривых каштанов вокруг дома;
земельный участок, вплотную примыкающий к аллее с южной стороны,
разделенный с незапамятных времен на три части: луг, сад и клочок пахотной
земли. Именно это обстоятельство и давало повод дону Робустьяно упорно
настаивать, будто у него три владения и будто отсюда происходит фамилия Трес-Соларес.
На самом же деле, еще раз повторяю, у него был всего один весьма запущенный участок, окруженный стеной, утопавшей в зарослях ежевики, колючих кустарников и бузины и такой ветхой, что она нуждалась в подпорках.
Дону Робустьяно принадлежали также:
клочок поля на общинных землях;
мельница, для помола маиса, с одним-единственным колесом, которое
приводилось в движение дождевой водой, скапливавшейся в отводах; проточный пруд был основательно запущен, и казалось, что местные ручейки и речки просто не желали снабжать его водой.
Далее следует назвать предметы, напоминавшие о блеске и великолепии рода Робустьяно:
кресло с гербами, водруженное на почетном месте, у главного алтаря
в приходской церкви;
кляча, редко пребывавшая под кровлей, ибо вынуждена была искать корм свой насущный на проселочных дорогах и в окрестных горах.
И далее. У дона Робустьяно была дочь; высокая, белокурая, блеклая, лишенная всякой выразительности, она не привлекала ни лицом, ни фигурой. Девице едва ли исполнилось тридцать лет, но по виду ей можно было дать и двадцать и все сорок пять. Она отличалась большим самомнением и скорее готова была простить соседям оскорбление действием, чем дерзостное намерение назвать ее просто Вероникой вместо донья Вероника.
Увидев себя в самом конце только что приведенного списка, она, наверно,
сочла бы недостаточно суровой карой повесить меня за столь тяжкий мой
проступок. Однако в этом случае я поспешил бы заверить, что отношусь к ней с тем уважением, которое подобает выказывать представительнице достославного
рода, что если она и значится в самом конце списка, то отнюдь не как один из
предметов, принадлежащих ее благородному родителю, но как второе по значению действующее лицо, которое появляется именно в тот момент, когда это необходимо для вящей ясности повествования.
В гардеробе этой суровой дворянской дщери, - а вернее будет сказать, на
источенной червями дубовой вешалке, - обычно находились:
платье из тонкой алепской ткани, давно утратившей свой первоначальный цвет;
муслиновая шаль, разрисованная букетами цветов;
и шелковая кружевная мантилья с отделкой из тафты, отливавшей всеми цветами радуги.
По воскресеньям Вероника надевала к обедне ботинки со шнуровкой, прическу украшала пером аиста, в руки брала веер, - и в таком наряде восседала на самом почетном месте в церкви, рядом с отцом. В обычные дни она не носила ничего другого, кроме платья из этамина, перкалевого платка и шлепанцев.
Этим исчерпывается перечень того, чем владели наши герои и что, так
сказать, было на виду у всех.
Если теперь заглянуть в их личную жизнь, чтобы и о ней составить себе
кое-какое представление, то сразу же необходимо заметить, что они были
обладателями "Христианского календаря" и дворянской грамоты, завернутой, уж если хотите знать и это, в старые папские буллы.
"Календарь" давал пищу их благочестивому рвению, когда они читали по
вечерам житие святых.
В грамоте они рассматривали гербы и родословное древо, что подогревало их дворянское тщеславие.
Так они питали свой разум.
Что касается плоти, то олья из овощей с крошечным кусочком мяса и ломтики жареной свинины, прозрачные и невесомые, как душа ростовщика, должны были пополнять скудные жизненные соки наших героев.
Ограниченные до крайних пределов теми ничтожными доходами, которые давала им земля, они все же могли позволить себе иной раз роскошь в виде арробы пшеничной муки, которую замешивала сама донья Вероника. Этого хватало как раз на одну выпечку хлеба, да и та растягивалась на три полных недели. Пшеничный хлеб предусмотрительно чередовался при этом с маисовыми пирогами, которыми украдкой, тайно от всех, насыщались достославные сеньоры.
Я уже упоминал о том, что "Христианский календарь" и дворянская грамота
служили духовной пищей и усладой этой семьи, - однако этим еще не все сказано.
Дон Робустьяно предавался и другому удовольствию, которое хотя и не было связано с созерцанием грамоты, все же доставляло ему огромное наслаждение и с точки зрения знатного дворянина имело больше назидательности и важности.
Это удовольствие состояло в том, что всякий раз, когда представлялся
случай, - а дон Робустьяно искал и находил его каждый день, - он собирал вокруг
себя наиболее родовитых и влиятельных соседей и пускался в рассуждения
о блестящих деяниях своих предков, хотя сам не различал ни блеска, ни даже
слабого мерцания их подвигов.
В этих торжественных случаях он начинал объяснять символическое значение знаков на своем родовом гербе: почему, например, лев изображен идущим, а не ползущим; почему именно сойка, а не сова летает над деревом, нарисованным в центре; почему змеи, а не просто обручи стягивают ствол дерева; что должны обозначать на третьем поле горностаи, которых гости обычно принимали за неудачное изображение пятерки червей из колоды дешевых игральных карт; и прочее и прочее.
И отсюда он постепенно спускался вниз по стволу родословного древа, корни которого четко и определенно достигали эпохи королей Альфонсов.
Что касается периода от Альфонсов и далее в глубь веков, то об этом
достойно и красноречиво гласила геральдическая надпись, высеченная на
многочисленных гербах, украшавших дом, - точные копии с того, который
изображался в грамоте. Вот эта надпись:
Раньше, чем дворяне появились,
Чем Адам отцом семейства стал,
Был уже прославлен благородством
Трес-Соларес знаменитый род.
Отсюда-то все и пошло.
Если верить дону Робустьяно, то его предки собирали мартовскую подать,
налоги ко дню святого Мартина, а также военную и провиантскую, сами же они пошлин королю не платили и не приносили ему клятвы верности.
Один из них стал со временем королевским стольником, а другому как-то на
охоте представился счастливый случай предложить его высочеству свой носовой платок и даже, по свидетельству некоторых летописцев, дать ему горсть монет, которыми его высочество пожелал одарить хозяина постоялого двора.
Проездом через область Гор Карл V соблаговолил переночевать во дворце Трес-Соларес, подарив хозяину на память сторожевого пса, своего любимца, что послужило основанием и поводом для водружения двух скульптур, украсивших стену скотного двора по обе стороны ворот. Невежественные деревенские жители, по грубости своей, называли их рылами - то есть, с позволения сказать, свиньями.
Еще позже две представительницы женской линии славного рода Трес-Соларес удостоились сопровождать принцессу королевской крови, а один доблестный муж в течение сорока лет вел тяжбу с самим герцогом Осунским, оспаривая свое право поместить шесть перьев вместо четырех поверх шишака, изображенного на гербе.
Совсем недавно - как говорится, только что не вчера - один из дедов дона
Робустьяно был назначен пожизненным рехидором провинции, а другой - сборщиком торговой пошлины и пошлины за перевоз; отец же его, как всем хорошо известно, в течение многих лет пользовался правом взимать налоги за проезд через мост, за ловлю рыбы с мостиков, перекинутых через три ручейка, протекавших поблизости, и, кроме того, за всех раков, лангустов и даже головастиков, которые
вылавливались в подведомственных ему водоемах; отмечать колокольным звоном прибытие того или иного родственника, встречая его с хоругвями на церковной паперти; занимать почетное место у главного алтаря и быть погребенным близ церкви. Эти права составляли законную, извечную и личную привилегию всех предков дона Робустьяно, включая, конечно, и его отца.
А особо почетная привилегия взимать портовые пошлины? А право по своему усмотрению освобождать от поземельного налога, распределять наряды на общественные дорожные работы, аренды... и много других подобных вещей?
- Но, друзья мои, увы, - и тут его величественный громоподобный голос
становился вдруг скорбным и жалостным, - теперь другие времена, другие
и нравы. Развелись франкмасоны, нечестивая, злокозненная философия французов
распространилась среди народов и ослепила людей; пала инквизиция. Революция подняла голову; появились еретики; четыре геральдические эмблемы, высеченные на каменной плите, перестали уже внушать плебеям уважение. Теперь совершаются святотатственные попытки доказать, что раз все люди - дети одного отца, то все мы якобы равны по положению и по цвету крови. Отрицают, что у нас, людей привилегированного сословия, кровь голубая.
В довершение всех бед право майората оказалось разорванным в клочья, нам
велят жрать Конституцию; но и этого мало: чтобы отнять у нас последнюю надежду, предательская пуля какого-то либерала убивает Сумалакарреги. Чего же еще можно было ожидать от такой чудовищной смуты, от такого неслыханного развращения умов!
Бессмысленная, но жестокая расправа над сотней людей, таких же невинных, как и я, вмешательство нищих голодранцев в общественные дела, ересь, произвол, сумятица... вселенский хаос.
Обо всем этом и о многом другом сообщал дон Робустьяно своим слушателям, прибегая к самому высокому красноречию и напуская на себя такую важность, на которую он только был способен. Все это он делал с двойной целью: во-первых, он удовлетворял потребности духа, а во-вторых, выставляя напоказ столько блеска, он мстил этим грубым землепашцам за те сплетни, которые они распускали потехи ради по деревне, о лишениях и затруднениях, испытываемых отпрысками столь славного рода. Жители деревни, разумеется, пропускали мимо ушей разглагольствования почтенного сеньора, а взглянув на его поношенный казакин, они ни в грош не ставили россказни о прежнем величии, за которое на базаре не выменяешь и полмешка фасоли.
Но дон Робустьяно думал иначе и всегда оставался очень доволен.
В долгие зимние вечера он и дочь свою потчевал теми же рассказами.
Надо было видеть, как раздувалась от тщеславия донья Вероника, слушая хвалы величию своих предков. Какое чувство наслаждения она при этом испытывала! Как смело взлетал ее доселе робкий ум при мысли, что она на много голов выше всей подлой черни, окружавшей ее в деревне, хотя это и был тот единственный мир, который она знала. И вот она уже считала себя знатной и достойной почестей, как истая принцесса.
Все часы, свободные от такого рода бесед, обеда и сьесты, дон Робустьяно уделял прогулкам; когда шел дождь, его длинную сухую и прямую фигуру можно было видеть на балконе с южной стороны дома, куда он выходил не спеша и позевывая; в хорошую же погоду он расхаживал по двору, подбирая и выбрасывая за ограду камни, которые кидали с улицы мальчишки, чтобы сбить с каштанов вожделенные плоды.
Тем временем Вероника штопала чулки, разводила огонь в очаге и, если была уверена, что за нею никто не наблюдает, спускалась в сад за охапкой сухого вереска. Все это она пыталась делать, за все хваталась, но тут же остывала,
ибо, надо вам сказать, что Вероника при всем благородстве своего происхождения
была, помимо всего прочего, столь же ленива, сколь замкнута, боязлива
и подозрительна.
В результате домашнего обучения, которое осуществлял в свое время отец, она едва умела читать, а писала и того хуже. В детстве отец не пускал дочь
в местную школу, дабы оградить ее от крайне нежелательного и опасного общения с целой ватагой девчонок - дочерей простых и грубых односельчан.
Когда она стала уже взрослой девушкой, он не позволял ей участвовать
в сборищах, где молодежь смеется, танцует и веселится; он запретил ей посещать даже домашние вечеринки и посиделки. Чтобы у нее составилось хоть какое-нибудь представление о вечеринках, он сам провожал ее несколько раз к глинобитной стене, из-за которой она могла заглянуть в соседний двор. Что касается посиделок, то она знакома была с ними только по рассказам самого дона Робустьяно и думала о них с отвращением, хотя отец и опускал грубые и рискованные подробности.
Так, лишенная подруг, бедняжка провела детство и достигла зрелой юности; не с кем было повеселиться, некому поверить невинные девичьи тайны. Так, ни разу в жизни ей и не удалось от души посмеяться или хотя бы вспомнить былые шалости и проказы; она жила, не зная сильных страстей, равно чуждая и радостям и скорби. Но хуже всего было то, что она не могла даже осознать и понять свой собственный характер, не говоря уже о характере других людей.
Входная дверь их дома была постоянно на запоре и открывалась только
в крайних случаях. Иногда в дверь стучалась пожилая соседка, сплетница
и болтунья; она оказывала им кое-какие услуги и совершенно необъяснимым образом завоевала симпатию и - что еще более удивительно - дружескоерасположение самого дона Робустьяно; между тем он даже с дочерью был всегда строг, дабы не уронить своего достоинства.
Это была единственная женщина, с которой Вероника держалась откровенно; подпав под ее влияние, молодая девушка решила, что устами приятельницы глаголет истина, и сама превратилась в сплетницу. Выслушивать пересуды этой кумушки и болтать с нею обо всем, что делается на божьем свете (которого, кстати говоря, она совсем не знала), стало привычным занятием благородной девицы.
Нечего и говорить, что она не знала любви, и женихи к ней не сватались;
сердцу ее была чужда такая потребность, да и положение ее менее всего
способствовало появлению нежных чувств. Напичканная до предела
аристократическими предрассудками отца, она не обращала ни малейшего внимания на парней, будто они были существами иной породы. Что касается людей, равных ей по положению и достойных ее, то таковых она вокруг себя не видела, а если бы даже где-то и были подходящие женихи, то они не являлись домогаться ее руки; и по правде говоря, молодую девушку нисколько не тревожило их отсутствие.
Вероника по милости отца вела в своих хоромах растительный образ жизни,
сходный с жизнью каштанов вокруг их дома. Каштаны питались воздухом
и солнцем, Вероника жила скудным хлебом насущным, сплетнями соседки
и разглагольствованиями отца. Она знала, что принадлежит к дворянскому
сословию, а дворянке не пристало исполнять грубую работу, даже если бы ей
грозила голодная смерть. Она знала также, что все окружавшие ее - низкий люд; и так как ее не приучили утруждать себя размышлениями над сущностью вещей и воззрений, то она цепко держалась за всякого рода ложные предрассудки, укоренившиеся в ней так же прочно, как укореняется в земле дерево. Жизнь проходила мимо девушки; ничто ее не трогало, не будило ни мыслей, ни волнения.
Отец и дочь за целый день едва ли обменивались одним-двумя словами, если
только благородному сеньору не приходило в голову вспомнить о своих предках или побранить нынешние времена, когда люди его круга оказались не у дел. А в остальном, если и правда, что они не проявляли взаимной любви, то и отвращения друг к другу тоже не испытывали.
Дон Робустьяно знал наизусть все имена и титулы славных родов в округе
и разбирался до мельчайших подробностей в гербах и геральдических надписях. Он никогда не называл имени, не прибавив к нему названия местности, где жили представители этого рода.
Так, например, он говорил "де ла..." - и сразу было ясно, что речь шла
о семье сеньора дона такого-то, который происходил из такой-то местности.
К некоторым семьям он испытывал, по традиции, сердечную симпатию, к другим же, тоже по наследству, - неукротимую ненависть; но ни те, ни другие не могли похвастаться, что переступали порог дома сеньора дона Робустьяно хотя бы в день его рождения.
Именно поэтому, отправляясь по праздникам на поклон в святые места,
а иногда в соседний город или на ярмарку, чтобы немного рассеяться, он готов был сделать добрый крюк, лишь бы не посетить сеньора де ла А. или де ла Б., как этого требовал этикет, если их дома встречались ему на пути.
Он полагал, что тем самым избавляется от необходимости принимать у себя
посетителей из местной знати.
Поэтому всякий раз, когда на соседней уличке раздавалось цоканье копыт,
а затем следовал стук в дверь, Вероника поспешно выбегала и, изменив голос, кричала в замочную скважину:
- Нету дома!
Солгав таким образом, она продолжала стоять, крепко ухватившись за щеколду обеими руками, побаиваясь, как бы через щель под дверью не заметили ее шлепанцев.
Если посетитель не уходил тотчас же, она добавляла с беспокойством:
- И целый месяц не вернется!
Если стоявший снаружи продолжал настаивать, то она испуганно говорила:
- Дома никого нет, а ключи увез с собой дон Робустьяно!
Тогда посетитель сразу же удалялся, а отец, наблюдавший эту сцену, говорил ей с лихорадочным нетерпением:
- Ну а теперь - наверх. Только тихо. И пусть там хоть дверь вышибают.
Бедный сеньор испытывал муки ада всякий раз, когда оказывался в столь
затруднительном положении. Надо сказать, что по характеру своему он был
приветлив, гостеприимен и общителен и сердце имел доброе, но гордость, коварная родовая гордость и пламенное ревнивое чувство к престижу своего славного рода были сильнее его, и он никак не мог пойти, на то, чтобы обнаружить перед благоденствующими, по его мнению, соперниками по грамотам и гербам картину тлена, нищеты и запустения некогда славного дома.
И действительно, внутренние достопримечательности дома сеньора дона
Робустьяно больше нуждались в подпорках, чем годились для осмотра.
Кстати, именно здесь будет уместно вставить обещанное описание внутреннего убранства дома. Так вот. Дом состоял из трех частей: нижней, главной и верхней.
В нижнем этаже находились приемные залы, широкая колоннада и винный погреб. Второй этаж был разделен длинным коридором на две равные части, южную и северную. В южной половине было три комнаты, две из которых служили спальнями, а третья - гостиной, носившей в семье название "парадного зала", и вот почему.
Согласно утверждениям дока Робустьяно, в этом зале его предки принимали
клятвы верности от своих вассалов, здесь обсуждались и заключались договоры в присутствии высоких договаривающихся сторон, после того как улаживались споры, постоянно возникавшие между знатными сеньорами из-за вопросов этикета и хозяйственных дел; здесь, наконец, совершались все торжественные акты, которые содействовали возвышению исторических заслуг славных предков дона Робустьяно.
Именно поэтому владелец относился к "парадному залу" с благоговейным
трепетом: не входил туда без сюртука, не плевал на пол и разрешал открывать двери в парадные покои только в крайне необходимых случаях.
В остальном же в зале не сохранилось особых признаков его прежних высоких предназначений, если не считать двух закопченных портретов, на которых с первого взгляда нельзя было разобрать ни лиц, ни одежды, хотя знатный сеньор и уверял, что это были точные изображения двух его дедов; здесь стояли обитое кожей кресло, с изображением герба на спинке, три хромых стула с такими же гербами, источенный червями стол орехового дерева, украшенный грубой резьбой, а на лепных украшениях потолка виднелись темные пятна и следы разрушений от сырости.
Такова история "парадного зала", таково его внутреннее убранство. Что
касается двух соседних с ним комнат, то о них мало что можно сказать: они были так же пусты и неприглядны, как и "парадный зал"; там стояли кровати с высоким, почерневшим от времени изголовьем, вешалка в комнате Вероники, по одному дубовому стулу у каждой кровати, распятие и дешевая гравюра с изображением святой Варвары над изголовьем в комнате дона Робустьяно и, наконец, вешалка для платья и головных уборов.
Северная половина состояла из того же количества комнат, что и южная, но
одна из них оказалась без настила еще в тот год, когда Вероника появилась на свет; в другой в скором времени обвалился потолок, не выдержав напора зимнего ветра, который ворвался прямо сквозь крышу и увлек за собою в комнату балки, листы жести, черепицу и рухлядь, находившуюся на чердаке; третья комната в далекие добрые времена служила столовой и гостиной, но давно уже лишилась половины внешней стены, - каждую осень дон Робустьяно вынужден был заделывать зиявшую дыру сухими ветками дрока, обмазывая их глиной и грязью, добытой близ дома. Это был единственный доступный ему способ ремонта, но и он не спасал от немилостей неба: сквозь дыру настойчиво прорывался злой зимний ветер. К счастью, кухня, которая находилась в довольно безопасном месте в конце коридора, все еще оставалась пригодной: бури и ненастье пощадили ее.
Таким образом, дону Робустьяно ничего другого не оставалось, как постепенно перебираться в южную половину, по мере того как северная подвергалась разрушению. В конце концов несчастный сеньор оказался владельцем только половины дома и, хотя эта половина была велика, а пожитки скудны, он в ней едва мог повернуться.
Чтобы понять всю несуразность этого положения, нужно заметить, что каждая комната походила на поле битвы. О чердаке и говорить не приходится, ибо он был в таком состоянии, что, казалось, готов рухнуть от одного только взгляда.
Однако следует упомянуть о хранившемся там богатстве, - в представлении
дона Робустьяно, оно обладало значительной ценностью: на чердаке с давних пор ржавели два металлических предмета - остатки доспехов славного предка, которому довелось сражаться под Сан-Кинтином. Готов поклясться, что это были тазы или колодезные бадьи, но если знатный сеньор утверждал обратное, он, очевидно, знал, что говорит.
Во дворе (который, как мы знаем, примыкал к южной стороне дома) стоял
флигелек, весьма тесный, но все же годный для жилья; дон Робустьяно называл его беседкой и хранил там в стенном шкафу фамильные документы и две-три книги с описанием его родословной; рядом помещался стол из каштанового дерева, на нем лежал бювар из грубо выделанной бараньей кожи и стояла чернильница из желтой меди. Напротив флигелька, под навесом, хранились дрова, а рядом с навесом, у колодца, валялась доска для стирки белья.
Добавьте ко всему, что было уже описано, - балконы, тянувшиеся вдоль стен, гербы лепной работы над каждой дверью, невысокую зубчатую башню, увитую плющом и открытую всем ветрам, - и вы получите полное представление о том, каков был дом сеньора дона Робустьяно Трес-Соларес-и-де ла Кальсада внутри, снаружи, снизу и сверху, - дом, или дворец, как именовали его жители деревни, названия которой у меня нет охоты и права упоминать.
Мы сказали уже о том, что дон Робустьяно время от времени совершал поездки в город, на ярмарку или на богомолье, но не лишним будет описать, как он это делал. Все его внимание и до и после поездки было поглощено ничтожными мелочами, игравшими важную роль в его скудной, замкнутой жизни.
Задумав совершить подобного рода путешествие, уже за четыре-пять месяцев до срока он начинал обсуждать предстоящее событие с Вероникой, бредил им по ночам, непрестанно думал о нем, жевал и пережевывал во всех подробностях. И только после многонедельной борьбы и жестоких сомнений он отваживался наконец принять окончательное решение, словно речь шла о каком-то необычайном героическом предприятии. Начиналась суматоха: Вероника производила тщательный осмотр отцовского парадного платья: она просматривала каждый шов, каждую пуговицу, каждую ворсинку; чинила кальсоны, латала жилет, штопала рубашку, обметывала петли, с помощью слюны и щетки выводила пятна, разглаживала и расправляла каждую морщинку, каждый рубец. Принимая во внимание ветхость и почтенный возраст одежды, ей приходилось все это производить с величайшей осторожностью и такой четкостью движений, словно это была тончайшая паутина или золотая фольга.
Всем этим занималась Вероника.
Дон Робустьяно в свою очередь смазывал сапоги свиным жиром, затем выставлял их на солнце дня на два на три, и когда они приобретали требуемую эластичность, в дело пускалась щетка и сапожная мазь, которыми почтенный сеньор орудовал до тех пор, пока на его сухой коже не выступал обильный пот, а на коже сапог не проступал еле заметный глянец с буроватым отливом. Он тщательно осматривал все принадлежности для верховой езды и при помощи вощеного шпагата пытался починить
все эти жалкие остатки былого величия. Но больше всего сил иизобретательности он затрачивал на то, чтобы до блеска начистить позеленевшие медные пластинки с гербом, украшавшие налобник, нагрудные ремни и стремена.
Молодой парень, сын одного из арендаторов дона Робустьяно, исполнявший во время подобных путешествий обязанности пажа и стремянного, за день до отъезда обычно чистил пучком соломы плотно свалявшуюся шерсть коня, который вынужден был разыскивать себе пропитание где и как придется (о чем мы уже упоминали) и являл собою весьма жалкий вид, ибо за время скитаний успевал изрядно вываляться в уличной грязи и пыли.
В день отъезда дон Робустьяно вставал с рассветом; ввидуисключительности
события он давал меру маиса одру, затем принимался седлать его, прилаживая куда полагается дорожные сумки и плащ, клал около кормушки исправную уздечку; и пока смирный конь лакомился рассыпанным на дне кормушки зерном, сеньор тщательно и не спеша облачался в парадное платье, о котором мы уже упоминали, и съедал вареное яйцо; между тем стремянный, уже в накинутой на плечи куртке и в своем лучшем костюме, расправлялся на кухне с завтраком. Наконец оба выходили во двор. Здесь они взнуздывали коня; дон Робустьяно для проверки разок-другой
тянул за подпругу, потом, нацепив на правый сапог шпору, трижды крестился и, перед тем как сесть верхом, говорил пажу:
- Смотри не забудь делать все, что полагается. Особенно когда приедем на место. Там, как ты знаешь, сразу же шляпу долой, одной рукой берешься за стремя, другой за недоуздок. Я хоть и стар, но еще достаточно ловок; однако если у нас не будет согласованных, слаженных движений, то может случиться, что я не слезу, а свалюсь с седла. Что за печальная картина, если человек моего возраста и положения вдруг скатится под ноги собственной лошади! Кроме того, держись на почтительном расстоянии... ну и прочее, о чем я говорил тебе уже тысячу раз.
И действительно, уже много раз говорилось о том, что на безлюдных уличках или горных тропах слуга может еще, куда ни шло, вставить словцо или решиться на какое-нибудь замечание без особых при этом церемоний, но боже сохрани, если он позволит себе что-либо подобное, пренебрегая правилами этикета, у городской заставы или на многолюдных проезжих дорогах. Только в случае крайней нужды ему дозволялось обратиться к своему господину на людях и то, конечно, при непременном условии почтительного величания его сеньором доном, - словом, при строжайшем соблюдении правил, одобренных его знаменитым земляком, славным доном Пелайо, Инфансоном де ла Вега. А как великолепно держался в седле дон Робустьяно!
Горделиво подбоченившись правой рукой, он в левой, на уровне груди держит поводья; брови подняты, губы плотно сжаты; полное безразличие ко всему, что происходит вокруг, - все внимание занято только тем, чтобы отвечать на приветствия прохожих. Так он и ехал: глубоко, почти по пояс утонувший в седле между свернутым плащом на передней луке и дорожными сумками сзади. Время от времени он хмурил брови и вперял свой взор в негнущуюся шею лошади, делая вид, что обеспокоен ее горячностью, будто она и впрямь была способна проявить какую-либо резвость.
На расстоянии вытянутой руки от стремени, с левой стороны, шествовал слуга с курткой и хозяйским зонтом на плече, стараясь приноровиться к неспешному и размеренному ходу одра.
Иногда они делали привалы в тени какого-нибудь каштана, и парень спешил
пропустить глоток-другой... воды из ближайшего родника. Наконец они прибывали к намеченной цели, откуда обязательно надлежало добраться домой раньше, чем зайдет солнце, ибо владетельный сеньор, и по причине знатности своей и в силу своего характера, не решался путешествовать ночью безоружный, в сопровождении лишь подростка-пажа.
Возвращаться домой с туго набитыми дорожными сумками было непременным правилом всех людей, равных ему по высокому происхождению.
Дон Робустьяно набивал сумки листьями салата-латука или иной зеленью такого же рода, которая и обходилась дешево, и сумку раздувала изрядно.
Пространные его рассказы о совершенном путешествии длились несколько дней кряду.
- По дороге встретил одного франта, - начинал дон Робустьяно, обращаясь к дочери. - Он странно и пристально на меня взглянул. Вероятно, знает меня. А важные особы, повстречавшиеся мне в пути, даже голову из экипажа высунули, чтобы получше меня рассмотреть. Кажется, я знаком с дамой, что проехала мимо меня верхом па лошади. Издали мне показалось, что дом известного в округе сеньора весьма запущен. Из нас семи, сидевших за круглым столом, трое наверняка были титулованными особами; один из них очень любезно передал мне жаркое. Остальные показались мне людишками так себе. Представь себе, теперь носят такого покроя сюртуки, что люди в них похожи на кукол; маркиз, мой сосед справа, тоже надел модный сюртук. В соседнем селении воздвигают дворец; я было подумал, что его строят для знатной семьи, но оказалось, его сооружает для себя - ты только вообрази! - простой откупщик.
Если путешествие совершалось в Сантандер, то последующие комментарии, хотя
и носили тот же характер, отличались большими подробностями, и дон Робустьяно
никогда не забывал упомянуть о том, что благодаря его искусству лошадь
промчалась галопом по одной из главных улиц, отчего вся знать, которая в это
время прогуливалась, обратила на него внимание, и немало важных персон
приветствовали его, в том числе и некий господин, опиравшийся на жезл
с кисточками, - не иначе как высокое должностное лицо.
Я полагаю, что читатель, ознакомившись со всем, что здесь изложено, получил
все необходимые сведения о преславном доне Робустьяно. Поэтому я охотно опускаю множество других подробностей, которые могли бы дополнить картину.
Итак, наш герой, которого я вам представил, был вполне доволен своим
положением.
Я хочу это подчеркнуть на тот случай, если мелкие подробности, рассказанные мною, вызовут у иных читателей сомнение в этом факте, который, замечу мимоходом, не должен поражать тех, кто уделилнеобходимое внимание нравственным устоям знатного сеньора.
"Революции, грубый материализм нашей эпохи", уничтожив права и привилегии, которые способствовали пополнению кошельков и житниц его предков, вымели начисто пыль фамильных пергаментов, - вот уже сто лет, как за них никто не дает и полушки. Вся надежда на поддержание прежнего величия заключалась в жалких доходах с оскудевшего майората, которому на полях наносили ущерб сорняки и головня, а дома - ржавчина и тлен.
Но тщеславие его пока еще не страдало, он не унижался еще перед мужланами, выпрашивая у них кусок хлеба, чтобы утолить голод; и родословное древо, почитаемое семьей, оставалось девственно чистым, без посторонних черенков и прививок, революционный молот еще не осквернил его славных гербов. Словом, дон Робустьяно сохранил в чистоте свой род, у него были пища и кров. Украшенный гербами дом укрывал его от стужи зимой и давал прохладу летом. Другими словами, у него было все, чего мог желать по нынешним временам высокородный бедняк, обладавший своеобразным характером и причудами, которыми он в высшей степени гордился.
Критика