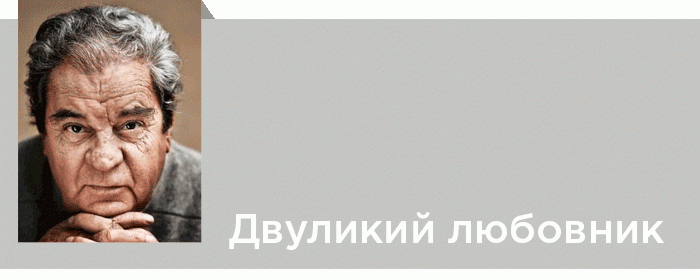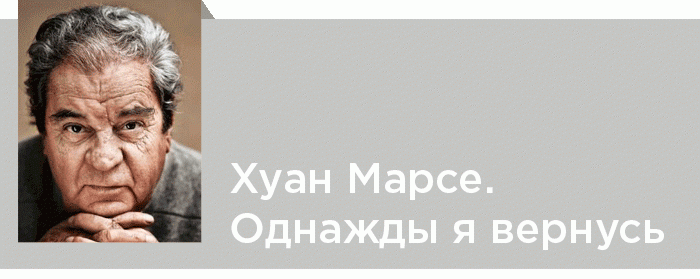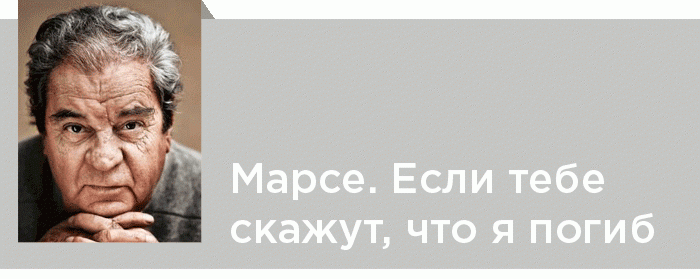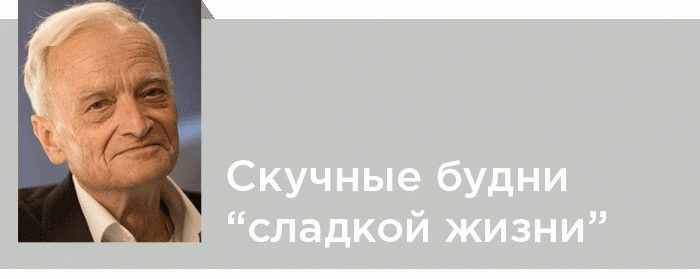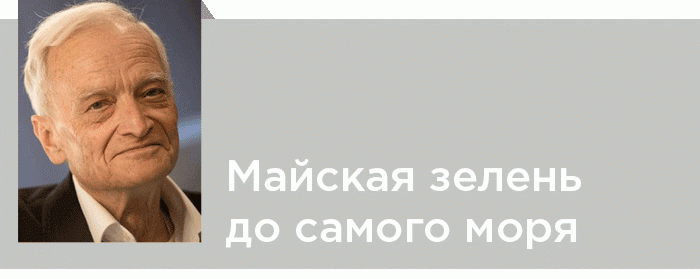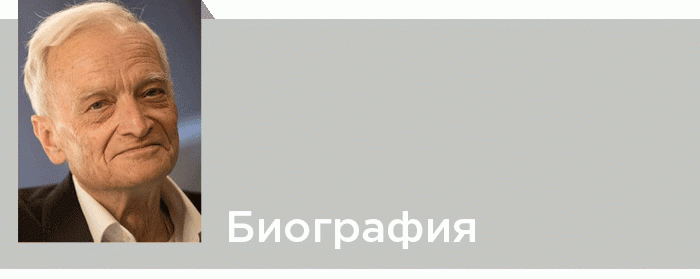Луис Гойтисоло. Поверка
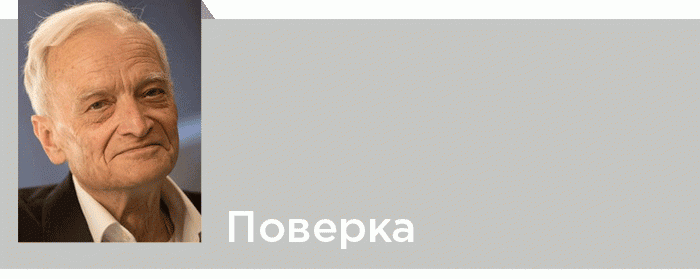
(Отрывок)
І
Отзвуки взрывов гремели в долине долгим громом, и над холмами, в дыму, будто сочащемся из леса, слабо сверкали молнии пушечных залпов. Два мотоцикла и грузовики защитного цвета медленно продвигались по дороге, а на развилке солдаты возились около пушки. Офицер скакал на белом коне то вверх, то вниз, размахивая саблей; офицер на белом коне.
Рамона завела патефон, поставила пластинку, тетя Пакита пластинку сняла, иголка заскрежетала по диску. Патефон все не мог остановиться, диск вертелся, пока не кончился завод. Сидели в одной из первых комнат, в гостиной, окна были плотно занавешены. Говорили шепотом. Кирие, элейсон, Кристе, элейсон. Зато столовая выходила на галерею, залитую светом. Кильда с семьей была на первом этаже, Фелипе сказал, что они закрыли окна матрацами.
Вроде бы комитетчики ушли из деревни, говорили они.
Когда вышли на улицу, еще громыхали где-то залпы, одиночные выстрелы. Они распахнули окна, обнимались, смеясь и плача; а на улице кричали и пели, размахивали руками, бегали, толкались, провожали солдат до площади. Солдаты все были высокие, шагали бодро, скатка на ремне, котелки и альпаргаты покачиваются в такт, рекой текут винтовки, локти движутся взад-вперед. Кильда обхватила Рамону, Рамона тоже заревела, никто не обращал внимания. Повсюду кучами валялись брошенные вещи, старое платье, книги, битая посуда, школа стояла пустая, весь пол был усыпан соломой. В казарме милисиано тоже было пусто, Фелипе и Падритус нашли там сардинки и сгущенку, а в саду, в какой-то машине, — настоящий бинокль. Колонна буро-зеленых грузовиков, проезжавшая деревню, застряла у развилки. Смотри-ка, марокканцы, говорили они.
Маршировал и Фелипе, и сам Падритус. Нет, и впрямь хорошо, говорил отец. Занимались на футбольном поле, винтовки были деревянные, в завершение прошли строем, береты красные, рубахи синие. За полем стояли облетевшие тополя. Нет, и впрямь хорошо. Командовал ими толстенький сержант, папа заходил к нему по утрам поболтать на солнышке, в саду, у военных. Сад был большой, мокрый, истинная чаща, еловые ветки нависали шатром над островками сухой, темной земли.
А вот эта шишка и есть бомба.
От бомбы погиб Пере Пекатс. То и дело случались несчастья. То и дело говорили мальчикам: если дернешь взрыватель или станешь играть снарядами, или прицелишься в кого, или поднимешь с земли гранату, и так далее. Они устроили под лестницей тайничок, под крыльцом, выходящим в огород; там были два штыка, винтовка без затвора, русская шапка, пробитая пулей каска, противогаз, блестящие патроны, а главное, пули — для пистолета, для пулемета, для винтовки. И еще местные ребята понасобирали всякого, приходилось в землю зарывать. Кто-то говорил, деревенские ловят жаб, начиняют порохом и взрывают. Фелипе научился доставать порох из патронов. Им больше нравилось устраивать взрывы в долине, у Красного Луга, чем воровать капусту и свеклу у Пере Пекатса.
Нравилось им больше, но свекла была вкусная, если ее помедленней есть, волокнистая, сочная, хоть и кормовая. Они срывали самые крайние, большие, бледно-розовые, вроде свинок, размахивали ими, и Фелипе кричал: Пере Пекатс! Пере Пекатс! Или пробирались на четвереньках между плотными рядами капусты, призывая того же Пере Пекатса. Пере Пекатс выскакивал, бранился, но бежать за ними не мог, сильно хромал. На других огородах было опасней. Падритус и Фелипе забирались на дерево, Рамона подставляла юбку, ловила груши и яблоки. Каштаны уносили в корзинке, прикрыв грибами из лесу. Пилата и Ньевес нанизывали землянику на тонкие стебелечки, съешь все сразу, будет вкусней. Ручеек водопадом струился вниз, сверкая на солнце, Пилата разувалась, трогала воду ногой. Фелипе ловил сачком раков. Ньевес с ними не ходила. Камни были скользкие, и внизу, сквозь озерцо стоячей воды, просвечивали липкие, рыжеватые листья. Когда смеркалось, тихие заводи мутной воды становились жутковатыми. Пилата ходила к милисиано на танцы.
Слабая лампочка отражалась в оконном стекле, одиноко светила под матовым колпачком. Здоровенный, краснолицый, зобастый Мон принес двух белок и зайца; Кильда, носатая и черная, как ведьма, склонилась над плитой. Папа сказал, это не заяц, это лиса, сказал он. У какой-то тетки, она пришла с Кильдой, он выменял окорок на курицу. Тетка торговалась, говорила, окорок совсем тощий. Вынула из корзины, за лапки, курицу с горделивой головкой, положила себе на согнутую руку, стала гладить взъерошенные перья, курица нахохлилась, сердито глядя на нее. Из кухни вела дверь на галерею, поля были белые от снега. Кильда запускала ножницы в куриное брюхо, опаляла жертву на огне и, смеясь, нашаривала среди потрохов желтую гроздь. А как-то раз утка без головы бегала по кухне, на красно-черном фоне очага.
Кильда приходила помочь Ньевес, когда надо было зарезать какую-нибудь птицу. Она жила внизу, вечно куталась и, унося кулек еды, съедала на ходу самый толстый ломоть. Мон-Охламон был ей женихом; он раздобыл где-то солдатский шлем и винтовку.
Шел снег. Они пробирались сквозь снегопад, сгорбившись, уткнувши в воротники красные, замерзшие носы, засунув поглубже руки в карманы, конец кашне болтался сзади, свисали растянутые носки. Школа была у шоссе, Фелипе волей-неволей проходил мимо сеньора Дауниса. Сеньор Даунис был совсем худой, ходил в длинном узком пальто, полы загибались кверху. Он был чахоточный, его велели остерегаться. И Поре Пекатса, Падритус сказал, тот швырнул в него на площади камнем. Пере Пекатс ходил на площадь, в кабачок. Вечно бранился и грозил кулаком. Говорил сам с собой, хромал, на все и на всех злился.
Сеньор Даунис жил тихо, старался, чтобы эти, из комитета, не замечали его. И священник так жил, там, за прудом, и две монашки, которые скрывались на ферме у Видаля. Отец говорил, в Барселоне его чуть не расстреляли за то, что он ходил к мессе и владел фабрикой. У сеньора Дауниса была куча детей, с ними никто не играл, все из-за чахотки, они очень голодали. Он был вдовец. Говорили, река уже замерзла.
Божественный Моцарт, сказала тетя Пакита.
А Рамона поставила пластинку. Она сидела на плетеном диванчике, у самого патефона, болтала ногами. Тетя Пакита спрашивала, с чего бы это ей так худо. Она приходила по вечерам, послушать радио, иногда — вместе с сеньорой Лурдес, худой и белобрысой, брови не свои, нарисованные. И тетя и Лурдес все смотрели по справочнику, водили пальцем по дорогам, снимали очки, склонялись над картами. Говорили друг другу вполголоса: красные, обыск, выгнали, посадили, прячется, истинно верующий. Лампа стояла на столе, абажур был оранжевый, с бахромой.
Дедушка радио не слушал’. Он сидел за столом, задумчиво жевал, ко всему равнодушный, словно кактус, словно камень, поросший мхом. Бабушка суетилась, подавала, платье на ней было в белых и черных цветах. Они выходили на площади из машины и гуляли неспешно, под руку. Дедушка явился в пижаме из спальни, на лице у него отпечатались пуговицы подушки, глаза еще не совсем открылись, седые волосы торчали во все стороны, он прокашлялся. На третье подали арбуз, огромные алые ломти, и дедушка выплевывал на тарелку черные косточки, одну за другой. Столовая прохладно зеленела, тени листьев трепетали на потолке. Рамона танцевала в гостиной, все ей хлопали. Она заводила патефон, ставила пластинку и танцевала. Потанцуй с Рамоной, говорили ему.
Душенька моя, сказал отец.
Окно гостиной выходило на улицу; солнце здесь бывало только утром. Мебель была темная, стулья — с плетеными сиденьями, пластинки клали прямо на столик у стены, одну на другую. Песенок было много: «Рамона», «Матонкики», «Каррасклйс» и еще всякие. Футляры почти все одинаковые — серые, бумажные, с синим рисунком, негры играют, пары танцуют.
А «Рамона» — это про нашу Рамону?
Долина у Красного Луга звалась Конной Лощиной, там было много зелени, и по склону вниз шла тополевая аллея. В глубине, закрывая самый ручей, росли густые, колючие кусты. Через ручей был перекинут замшелый и темный деревянный мостик. Падритус расстегивал и спускал штаны. Рамона снимала штанишки, валилась в траву. Гляди-ка, говорила она. Они рассматривали, как у нее что, сравнивали, сопоставляли. По очереди трогали друг друга, Лало последний.
Если идешь вдоль ручья, дойдешь до реки. Там открывались поля и луга, росли деревья с облезлыми, темными, толстыми стволами. Река текла вниз, пенилась, шумела, приходилось орать. Пилата ходила с ними; она поднимала юбку и мочила ноги в холодной, пенистой воде, в талом снеге. Заводи были ниже. Вода звенела по всей лощине, и в росе играло солнце, ах, солнышко в росе. Другой склон зарос буком, а повыше, над темными елями и над рвами окопов, торчали острые и голые скалы. А раки едят утопленников.
Пилата гладила в кухне, на столе у тети Пакиты. Она рассеянно напевала, отвечала что-то, спрашивала. Зуб во сне выпадет — отец умрет, а уж коренной — тогда дедушка. Она румянилась, красила губы, завивалась, подводила глаза, цвела цветком. Ходила к милисиано на танцы. Ньевес не ходила, у нее был жених. Музыку было слышно с улицы, но чтобы увидеть пары, приходилось залезть в темный сад, спрятаться у самой земли, под изгородью; калитка всегда была открыта. Танцевали они в ярко освещенной зале с хрустальными люстрами, какие- то парочки выходили к балюстраде, кричали, смеялись, шептались. Если ты меня любишь, я не помню себя... Рамона споткнулась, танцуя, ослепленная отблеском стекол.
Фелипе с одним милисиано говорил. Небо в тот день было светлое, начинался холод. Милисиано разожгли костер у ограды и ели что-то прямо на земле, из закопченного котелка.
Проголодался, а? — спросил милисиано.
Потом еще: вот чечевица; хочешь — ешь, хочешь — нет.
Он был небритый, в помятой фуражке, плащ накинул на плечи. Другой ковырял штыком сапог.
Подошли еще какие-то люди. Собрались у дороги, под каштанами, дым потянулся туманом к небу, но долетел лишь до голых ветвей. Были тут и беженцы, закутанные во что-то темное. И колонна пленных. Проходя мимо окон залы, они глядели туда и показывали, что им хочется есть. Одного ударили прикладом. У Кильды, внизу, поселилась женщина с ребенком, у него один глаз был больше другого. Говорили, что они из Малаги.
Главное, далеко не уходите, сказал папа.
Говорили, что русские подбили самолет, истребитель, он упал на рельсы и горел. Местные ребята нашли мертвого, он плавал в заводи реки, весь в грязных колючках. Осталось от него мало, нельзя разобрать, красный он или нет, а может, дезертир. Или русский. Плавал он поверху, вода там тихая, чистая, словно воздух, а дно как мармелад. Падритус сказал, он сам это видел, а тетя Пакита его шлепнула, зачем выдумывать. Они шептались, склонившись к радио, а в зале невесть для чего плясала Рамона. Фелипе не ходил в школу; он вернулся, сильно взволнованный, и жевал свеклу.
Да, в Конной Лощине у Красного Луга орудуют беспризорные ребята. Есть и другие, в поселке, в деревне. Какие-то, из Пуч-Сек, поймали Падритуса и сказали, если словят опять, худо ему придется. Кроме того, следили за сеньором Даунисом. Когда стемнеет, было нетрудно с ограды его сада перескочить на галерею, а там уж, как можно тише, влезть на окно и ждать, и ничего не дождаться. Нет, один раз они подглядели, как сеньор Даунис, совсем голый, сидит в постели. Где-то глухо громыхало, люди говорили, это пушки.
День был чистый, светлый, солнце мягко освещало бурые поля и белые острые скалы. В столовой дрожали стекла, сквозь голые ветви деревьев ярко сверкали вспышки, и было видно, как дымятся холмы. Ехали мотоциклы, грузовики защитного цвета, орудия, мотоциклы с коляской. Офицер на белом коне размахивал саблей. Пере Пекатс лежал в кустах, подорвался на гранате. Какая беда, говорили все, он напился, вот и влип, а может, это марокканцы, они не поняли, что он им кричал.
А этот спал рядом с гостиной, ходил в форме, в очках, в красном берете. Я капеллан, сказал он. Священник. Ньевес приготовила ему ванну. Он что-то рассказывал, полуобняв Фелипе, все смеялись. Сидели они за столом. Он вынул стеклянную банку, груши в сиропе. У него все было, бананы, консервы, а в аюнтамьенто распределяли пайки.
В погожий зимний день на залитой солнцем площади служили мессу. Многие были в красных беретах и синих рубахах; болтали друг с другом, пели хором какие-то песни, и смешные, и чувствительные. Пели «Лицом к солнцу», по двое, по трое, ликовали. Ты знал, победа за тобой, когда, в слезах изнемогая, молилась деве пресвятой твоя невеста молодая. Невеста мо-ло-да-а-я...
Сеньор Даунис обнимался с папой, сеньорита Лурдес снова и снова рассказывала, как ее отец погиб в Африке, когда его собирались произвести в майоры. На ступенях храма темнела сутана отца Паскуаля. Сверкали сабли и штыки, отливали золотом петлицы, курился ладан, сияла славой победа.
Дядя Педро привез подарки. Вот виды Генуи, я сам снимал, вот пластинки, тут все гимны. Он был в форме, в зеленом берете, в каком-то плаще. Говорили все сразу, сидели в саду, на залитой солнцем траве. Кресла были плетеные, играл патефон. Какая-то тетя курила.
А Барселона самый большой город?
А кино там есть, а порт, а парк, а трамвай, а метро?
А красные еще в Вальфоске?
А звери в Вальфоске есть?
Сеньорита Лурдес стала давать уроки рукоделия и немецкого, тетя Пакита предложила учить музыке девочек из дачного поселка. Они возвращались с прогулки, им стало жарко, свитера они завязали вместо пояса, медленно прошли с песней под окнами, юные, крепенькие, держась за руки, ну прямо пять свежих роз. Погода была дивная, весенняя. Рдели розовые бутоны, сверкали первые цветы.
Ушли колонны грузовиков, щетинящихся штыками, танки, орудия, все как есть, только толстый сержант остался. Пилата у них уже не служила, тетя Пакита искала другую девушку. Пилату обрили за то, что красная. Тетя Пакита хлопотала, и ее выпустили, только велели уехать из деревни. Говорили, когда она садилась в машину, она плакала, а голова у нее была повязана платком. Ньевес говорила.
Они устроили званый завтрак. И бабушка, а дядя Педро привез двух ягнят. Бабушка стряпала и плакала, согнулась, седые волосы торчали из пучка. Ты уж мне сердце не трави, сказала она. Ньевес и Кильда ей помогали, тетя Пакита бродила туда-сюда и говорила: не утруждай себя, все и так хорошо, ты у нас молодец. Гостей пришло много, и Рамона танцевала в гостиной, и все ей хлопали, и то, и се.
Критика