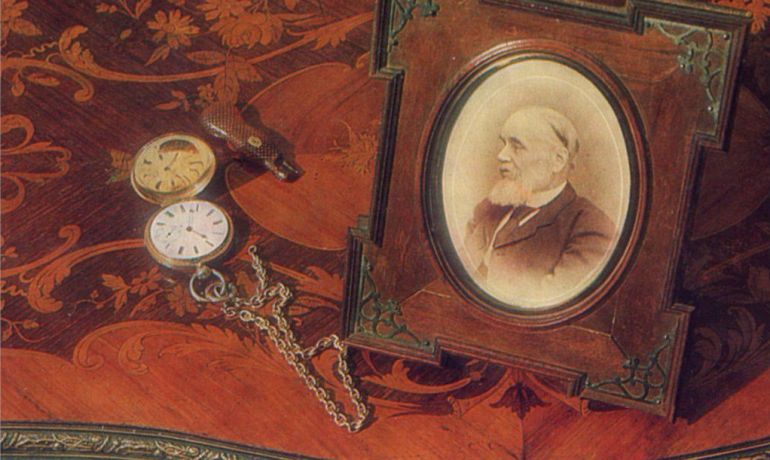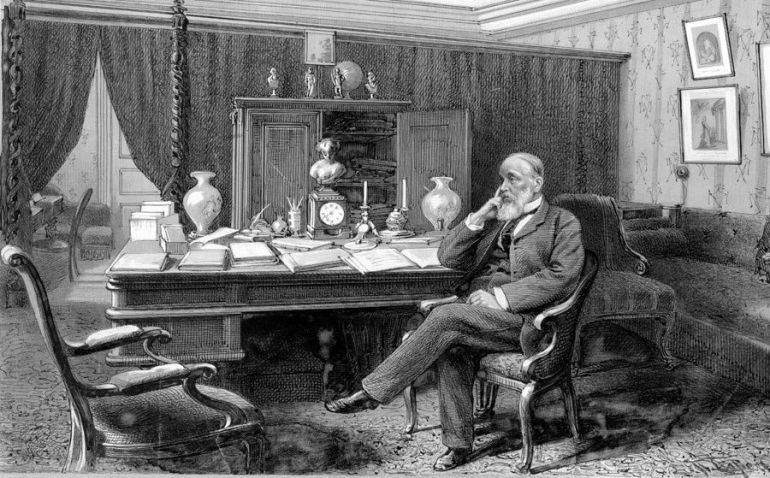О «поэтическом языке» И.А. Гончарова
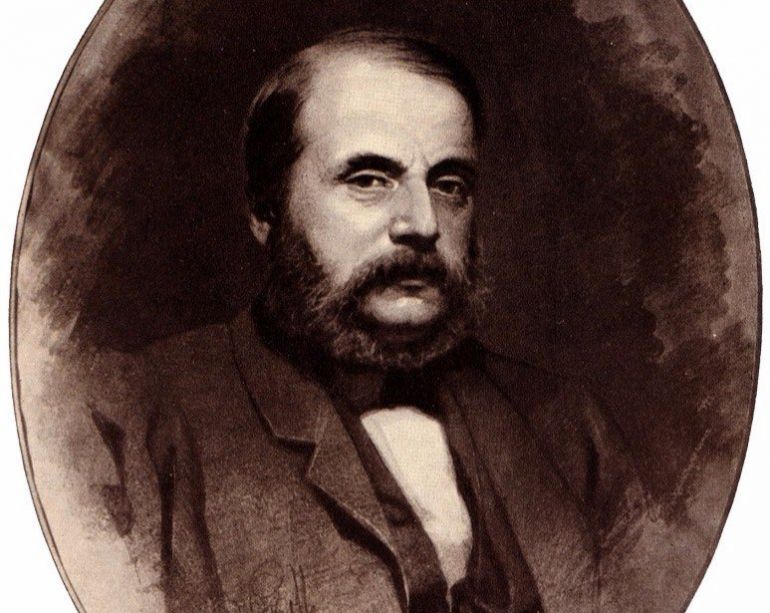
Л.В. Чернец
... Не могу и не умею ничего писать иначе, как образами, картинами,
и притом большими, следовательно писать долго, медленно и трудно.
И.А. Гончаров. «Лучше поздно, чем никогда»
С дорогими ему людьми Гончаров любил беседовать не только устно, но и письменно. «А Вы, мой друг, терпите мои письма, будьте в этом случае козлом отпущения, — просил писатель И.И. Льховского (13 июня
Единственное, чему приносилась в жертву дружеская переписка, — это литературный труд, творчество. «Но мне все-таки хочется поговорить с Вами — и я краду даже времени у своих тетрадей», — пишет Гончаров 4 июля
Чаще он предупреждает о том, что его регулярные письма (из Мариенбада и других немецких курортов, куда он бежал из Петербурга в надежде найти «тишину, чтоб чутко вслушиваться в музыку, играющую внутри меня, и поспешно класть ее на ноты») должны печалить его адресатов как свидетельства творческого бесплодия, неспособности «схватить за хвост своего героя», «распорядиться» богатством материала, «...Спешу отвечать Вам, потому что не знаю, буду ли свободен после. Я полагаю, что буду — к великому моему горю» (С.А. Никитенко, 28 июля
Гончаров долго вынашивал свои романы: десять лет отделяют «Сон Обломова» — «эпизод из неоконченного романа» — от «Обломова» (1859); «двадцать лет тянулось писание» «Обрыва» (1849-1869), также предварительно печатавшегося в отрывках («София Николаевна Беловодова» в
Но были периоды в творческой истории романов, когда писалось легко, как бы само собой. Письма-отчеты друзьям показывают, что его болдинская осень — лето
Гончаров вошел в литературу как автор «Обыкновенной истории», нанесшей, по Белинскому, «страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму». В.П. Боткин добавил (в ответном письме к Белинскому): «Ты замечаешь, какой удар повесть Гончарова нанесет романтизму — и справедливо; а мне также кажется, что от нее и не очень поздоровится арифметическому здравому смыслу: словом, она бьет обе эти крайности. Я ничего не знаю умнее этого романа».
Далек от крайностей был Гончаров и в своих эстетических воззрениях. В статье «Лучше поздно, чем никогда» (1879), наиболее полном изложении его взглядов на искусство и психологию творчества, подчеркнута первостепенность фантазии для художника, но здесь же указано и на необходимость рассудочной, «умственной» работы романиста: «Одной архитектоники, то есть постройки здания, довольно, чтобы поглотить всю умственную деятельность автора: соображать, обдумывать участие лиц в главной задаче, отношение их друг к другу, постановку и ход событий, роль лиц, с неусыпным контролем и критикою относительно верности или неверности, недостатков, излишества и т.д.». И далее: «Ум разбивает, как парк или сад, главные линии, положения, придумывает необходимости, а приводит это в исполнение и помогает... инстинкт».
Критика и тем более автокритика писателя — всегда и комментарий к его собственному творчеству. «Умственная» сторона писательского труда для Гончарова была, по-видимому, наименее притягательной, своего рода долгом, но не счастьем романиста. При всей условности разграничения «ума» и «фантазии» (речь идет о том, что «преобладает в художнике»), эти понятия были связаны у Гончарова с вполне определенными задачами творчества: в отличие от «построения целого здания романа» — работы трудоемкой и по преимуществу «умственной», сами лица, типы «даются художнику даром, почти независимо от него, растут на почве его фантазии»; «сами» возникают и подробности. Звездный час романиста описывается так: «Тогда, среди намеченного умом главного хода или действия, при созданных фантазией лицах — под рукою, как будто сами собою, родятся и сцены и детали, перо, кисть едва успевает писать».
Письма Гончарова изобилуют жалобами на трудность начала работы, составления общего «плана»: «Еду я и беру программу романа, но надежды писать у меня мало: потому что герой труден и не обдуман и притом надо начинать» (И.И. Льховскому, 20 мая
Показательно, что результаты: творческие удачи и неудачи, особенности стиля, владение «поэтическим языком» — в главном отразили, как — «весело» или «скучно», «легко» или «трудно» — шла работа над романами.
Понятие «поэтический язык» применительно к художественной литературе в целом (и стихам и прозе) подчеркивает своеобразие знаковой системы в искусстве, условностей, к которым прибегает писатель, создавая эстетическую (не существующую вне произведения) реальность. Это понятие восходит к теории образа, развитой А.А. Потебней, но терминологическое закрепление оно получило в русской формальной школе (что подчеркнуто названием важнейшего объединения формалистов: «Общество изучения поэтического языка», сокращенно ОПОЯЗ). Изучая в основном композиционные и речевые приемы, используемые в литературе, исследователи видели в них по преимуществу отступления от норм литературного языка: «затрудненную форму», «остранение» (термины В.Б. Шкловского), требовавшие соответствующего искусства чтения. Впоследствии, уже за пределами формализма, с возобновлением интереса к метасловесному, иначе предметному, образному миру произведения, последний также стал рассматриваться как «поэтический язык». При анализе жанра романа в фокусе оказывается именно предметный мир: автор «говорит» с читателями через своих «посредников», каковыми являются персонажи произведения, его сюжет; в широком смысле иносказательны и организация времени и пространства, пейзаж, интерьер и т.д., вся разнообразная детализация предметного мира.
Не все возможности «поэтического языка» используются в отдельном произведении, но выдающиеся писатели совершенствуют — в разных направлениях — этот язык, обогащают его новыми свойствами и приемами. Романы Гончарова, с точки зрения их поэтического языка, мастерства художника, интересны и поучительны вдвойне: как пример неровного таланта (что осознавалось и самим писателем, и его критиками) и как глубочайшее освоение и дальнейшее развитие некоторых возможностей этого языка (второй аспект, конечно, гораздо важнее).
В русской критике у Гончарова сложилась репутация «поэта-художника». Так его талант определил Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года», где «Обыкновенная история» сравнивалась с «Кто виноват?»: «Главная сила таланта г. Гончарова — всегда в изяществе и тонкости кисти, верности рисунка; он неожиданно впадает в поэзию даже в изображении мелочных и посторонних обстоятельств, как, например, в поэтическом описании процесса горения в камине сочинений молодого Адуева. В таланте Искандера поэзия — агент второстепенный, а главный — мысль; в таланте г. Гончарова поэзия — агент первый и единственный...». Эта на первый взгляд исключительно лестная характеристика имела свою оборотную сторону: пробуя свои силы «на чуждой ему почве — почве сознательной мысли», Гончаров портил свое «прекрасное произведение». Критик считал, что развязка романа «неестественна и ложна», а также находил «несколько дидактический оттенок» в антитезе главных характеров. И после Белинского критика, в целом благосклонная к «объективному» художнику до выхода «Обрыва», неизменно ставила ему высшие баллы, но также неизменно указывала на минусы, недостатки, нарушающие эстетическое единство. Ему ставились в вину «сухой догматизм постройки» и общая «антипоэтичность мысли», не выкупаемая «блестящими подробностями» (А.А. Григорьев об «Обыкновенной истории»); «неприятно резкая струя иронии в отношении к тому, что все-таки выше штольцевщины и адуевщины» (Григорьев о «Сне Обломова»); «пропасть», лежащая между Обломовым первой части романа и тем же Ильей Ильичем, «разрушающим любовь избранной им женщины и плачущим над обломками своего счастия» (А.В. Дружинин); неубедительность, схематизм фигуры Штольца (Н.А. Добролюбов, с которым в этом пункте сошлись многие критики и читатели). В этих упреках критиков разной идейно-эстетической ориентации можно найти сквозной мотив: наличие некоего дидактизма, схематизм романов, проявляющийся в антитезах характеров, в развитии сюжетов и в особенности в их развязках. По разным причинам критиков не до конца удовлетворяла «общая постройка здания», которая давалась не «даром». И преобладание «умственной работы», способствовавшее четкости общего плана, одновременно обнажало, как бы вписывало в этот план достаточно консервативную идейную тенденцию автора. Так исподволь назревала катастрофа с «Обрывом», где борьба с нигилизмом громко заявила о себе в изображении Марка Волохова, «падения» и раскаяния Веры, эволюции Райского. Любимому роману писателя («.. .Это дитя моего сердца», — писал Гончаров А.А. Фету 6 авг.
Но «художник мыслит образами», — любил повторять Гончаров слова Белинского. И добавлял, что образ — не снимок, не копия с действительности, потому что природа «позволяет приблизиться к ней только путем творческой фантазии». Что же он вкладывал в это понятие конкретно, работая над своими произведениями и оценивая чужие?
Ответить на этот вопрос и одновременно перейти к теме собственно поэтического языка и его развития Гончаровым помогает одна из самых ядовитых критических стрел, выпущенных в автора «Обрыва» в ходе журнальной битвы с писателем. «Талантливая бесталанность» — так по-боевому озаглавил статью, присланную из вологодской глуши, политический ссыльный и публицист журнала «Дело» Н.В. Шелгунов (напечатана в
А теперь попробуем вынуть жало иронии из этих обвинений, пусть будет просто констатация фактов: Гончарову свойственна «мелочная отделка подробностей», не связанных с «главной идеей»; автор «не выводит читателя из недоразумения», не помогает ему понять Веру; «автор не выяснил себе, что он хочет сказать...» Но ведь это описание традиционных приемов романного языка: и «очень старой школы» романтизма, где есть странная героиня, которую надо разгадать; и гоголевской, если иметь в виду изобилие подробностей, что отмечает (конечно, с насмешкой) сам критик: «... Просто известный, терпеливо выработанный прием, сделавшийся признаком гоголевской школы». Что же касается незнания того, что автор «хочет сказать», то это беда общая для всех подлинных произведений искусства. Иначе получается иллюстрация заданного тезиса под формой романа, наподобие того, который читают и обсуждают в очерке Гончарова «Литературный вечер» (равно как и повода к написанию очерка — романа П.А. Валуева «Лорин»).
Кое-что, однако, и в наших парафразах суждений критика нуждается в оговорках. Так ли уж не связаны с «главной мыслью» подробности? И может быть, автор все-таки — не прямо, намеками — освещает путь читателя к характеру героя? Но использует при этом иносказательный, поэтический язык, похожий, как писал молодой В.Б. Шкловский, на «кривую дорогу, дорогу, на которой нога чувствует камни...».
Для Гончарова языком, которым «говорит» искусство, был художественный образ: «И что такое ум в искусстве? Это уменье создать образ. Следовательно, в художественном произведении один образ умен — и чем он строже, тем умнее. Одним умом в десяти томах не скажешь того, что сказано десятком лиц в каком-нибудь «Ревизоре»!». С образом можно спорить только созданием нового образа — это было для него эстетической аксиомой, отсюда стойкое нежелание печатать свою автокритику, разъясняющую «намерения, и идеи» его романов: «Против статьи будут более или менее удачно спорить, а против схожего портрета ничего нельзя сделать...»; «Я только и могу подействовать художественным приемом...» (П.В. Анненкову, 19 янв.
Показательны в этом отношении горестные сетования (в письме к С.А. Никитенко от 28 июня
«Искры поэзии», «лучи фантазии», «переливы света» — любимые метафоры Гончарова, когда он пишет о главном для него агенте творчества — воображении. «Писать художественные произведения только умом — все равно, что требовать от солнца, чтобы оно давало лишь свет, но не играло лучами — в воздухе, на деревьях, на водах, не давало бы тех красок, тонов и переливов света, которые сообщают красоту и блеск природе!». С этим панегириком из статьи «Лучше поздно, чем никогда» перекликаются слова Чешнева из «Литературного вечера»: «Отрешиться от фантазии — значит, оборвать все цветы, погасить солнечные лучи... обратиться в тьму кромешную...». И в живописи «художник пишет не один свой сюжет, а и тот тон, которым освещается этот сюжет в его фантазии», — отмечает Гончаров, потрясенный картиной И. Крамского «Христос в пустыне».
«Лучи фантазии» освещают писателю мельчайшие подробности жизни, обстановки, внутреннего мира его героев. Это и детали, согласующиеся друг с другом, образующие ансамбли, множества, — «подробности» (если использовать классификацию и термины Е.С. Добина). Таков портрет Обломова, где «мягкость» лица, «слишком изнеженное для мужчины» тело, «халат из персидской материи, настоящий восточный халат, без всякого намека на Европу...», «туфли... длинные, мягкие и широкие», в которые он сразу попадал, когда, «не глядя» опускал ноги с постели на пол». Или интерьер, сменяющий, продолжающий портрет, — описание кабинета, где зоркий глаз романиста (в отличие от Захара!) обнаруживает настенную паутину «в виде фестонов», зеркала, которые могли бы служить «скрижалями, для записывания на них, по пыли, каких-нибудь заметок на память», пятна на коврах, «забытое полотенце» на диване, этажерки с запыленными и пожелтевшими «двумя-тремя развернутыми книгами» и чернильница, откуда, «если обмакнуть в нее перо, вырвалась бы разве только с жужжаньем испуганная муха».
Это и детали-символы, тяготеющие к единичности, заменяющие «ряд подробностей», обычно повторяющиеся в повествовании, знаменуя собой вехи фабулы или смену умонастроений персонажей. Вспомним в «Обыкновенной истории» злополучные «желтые цветы» — знак прошлых романтических увлечений Петра Адуева; путаницу женских имен в беседах дядюшки с племянником, аргумент хитрый и сильный («Полно дичь пороть, Александр! мало ли на свете таких, как твоя —Марья или Софья, что ли, как ее?» — «Ее зовут Надеждой»); «презренный металл», наконец-то понадобившийся Александру в эпилоге, верный знак происшедшей с ним метаморфозы. Нередко «подробность», появляясь в новом контексте, вырастает до символа, как халат Обломова, забытый им благодаря Ольге Ильинской, но спасенный от порчи Агафьей Матвеевной и ожидавший хозяина дома именно в день его окончательного разрыва с Ольгой: «Илья Ильич почти не заметил, как Захар раздел его, стащил сапоги и накинул на него — халат!
- Что это? — спросил он только, поглядев на халат.
- Хозяйка сегодня принесла: вымыли и починили халат, — сказал Захар».
Эта деталь намекает и на роль Агафьи Матвеевны в судьбе Обломова — совершенно иную, чем у Ольги. Вообще в потоке повествования в «Обломове» возвращение и преображение деталей образует особый ритм, роман пронизан сквозными мотивами. С помощью повтора детали скрепляются эпизоды, этапы жизни персонажа, подчеркиваются и временные перемены в его поведении, и глубинные константы в психике. Письма как форма связи с внешним миром, знак новостей, призыв к делу всегда тревожат Обломова (как ранее получение письма страшило обломовцев), на этом фоне письмо к Ольге — кульминация душевного подъема; «ветка сирени» как сопровождение любовного дуэта, знак лета — календарного и в душе героя, за которым последует холод, «снег» (и в природе, и в душе Обломова); дом на Выборгской стороне, напоминающий герою Обломовку: слышно, «как тяжело кудахтает наседка, как пищат цыплята, как трещат канарейки и чижи»; «полные, круглые локти» Агафьи Матвеевны, за мельканием которых наблюдает Обломов в полуотворенную дверь, и многое другое. Богат символикой и «Обрыв»: само заглавие романа; обстановка первой встречи Веры с Марком (сад, яблоки); выстрелы, зовущие Веру к любви, к Марку, как бы убивающему ее; «часовня» — сакральное место, где Вера ищет спасения, и др.
Знакомство с процессом работы Гончарова над романами (об их продвижении «в голове» или на бумаге он сообщает в письмах к друзьям) убеждает в органичности для писателя образного мышления. Он думает о своих героях как о живых людях, иногда шутливо мистифицируя своих корреспондентов и крайне редко прибегая к суждениям, экспликации смысла: «...сильно занят Ольгой Ильинской... Едва выпью свои три кружки и избегаю весь Мариенбад с шести до девяти часов, едва мимоходом напьюсь чаю, как беру сигару — и к ней: сижу в ее комнате, иду в парк, забираюсь в уединенные аллеи, не надышусь, не нагляжусь. У меня есть соперник: он хотя моложе меня, но неповоротливее, и я надеюсь их скоро развести. Тогда уеду с ней во Франкфурт...» (И.И. Льховскому, 15 июля
Под стать языку собственной творческой мастерской и гончаровские оценки, характеристики чужих произведений. Они немногословны, часто даны вскользь (что естественно для переписки), но тем заметнее избирательность памяти художника. Он пишет Тургеневу о его «Бригадире»: «...здесь деревня так свободно и ярко нарисовалась, что за прелесть — поле, питье квасу из ковша...»; в «Дворянском гнезде» (давшем пищу для ревнивых подозрений) все же выделяет лирические вершины: «...гимн любви, сыгранный немцем, ночь в коляске и у кареты и ночная беседа двух приятелей — совершенство, и они-то придают весь интерес и держат под обаянием...». О «Господах Головлевых» замечает: «...что можно прибавить, какую дать пощечину — вдобавок к ужасающей детали о тарантасе» (М.Е. Салтыкову, 30 дек.
А.В. Дружинин, один из наиболее глубоких интерпретаторов творчества Гончарова, сравнивал писателя с великими фламандскими художниками, с которыми его объединяют любовь к родному краю, понимание «поэзии жизни в простых, обыденных событиях, в нехитрых привычках, в страстях самых немногосложных». Любовь к предмету изображения порождает и любовь к подробностям, мелочам, которые все «необходимы, все законны и прекрасны». Так, уяснить «типическое лицо» Обломова, связь его «с сердцем каждого русского читателя» можно, лишь прочитав «Сон Обломова», с его поразительной детализацией изображения. «Заспанный челядинец, дующий спросонья на квас, в котором сильно шевелятся утопающие мухи, и собака, признанная бешеною за то только, что бросилась бежать от людей, собравшихся на нее с вилами и топорами, и няня, засыпающая после жирного обеда с предчувствием, что Илюша пойдет затрагивать козла и лазить на галерею, и сотня других обворожительных, миерисовских подробностей здесь необходимы, ибо содействуют целости и высокой поэзии главной задачи». И далее, продолжая параллель между русским писателем и фламандскими живописцами XVII в. (А. ван Остаде, Ф. ван Мирис-старший, Э. ван дер Велде и др.), критик задает риторический вопрос: «Или для праздной потехи... художники... громоздили на свое полотно множество мелких деталей? Или по бедности воображения они тратили жар целого творческого часа над какой-нибудь травкою, луковицей, болотной кочкой, на которую падает луч заката, кружевным воротничком на камзоле тучного бургомистра? <...> Видно, труд над деталями был необходим и важен для уловления тех высших задач искусства, на которых все зиждется, от которых все питается и вырастает».
Дружинин не без основания записал в дневнике (1 дек.
Л-ра: Русская словесность. – 1997. - № 1. – С. 21-28.
Произведения
Критика