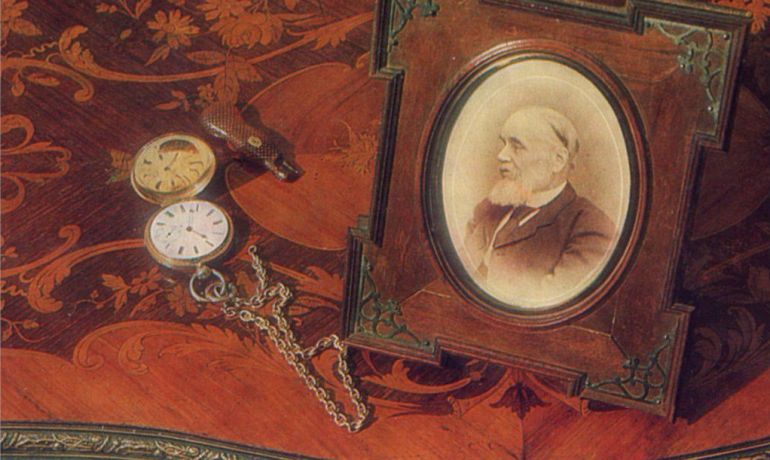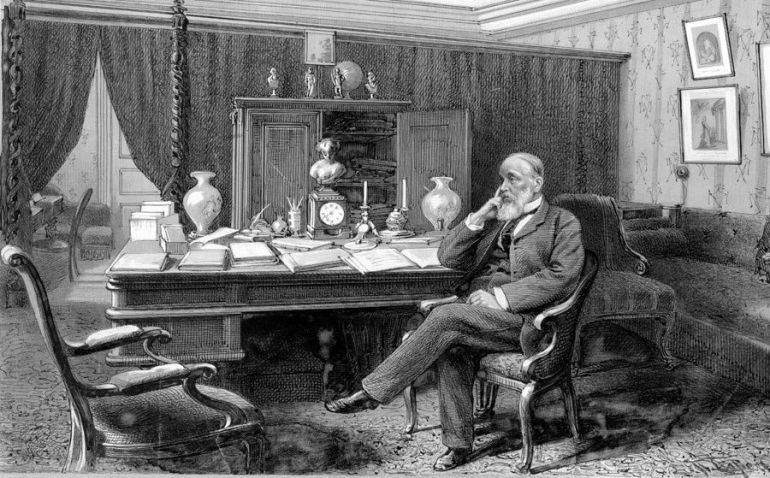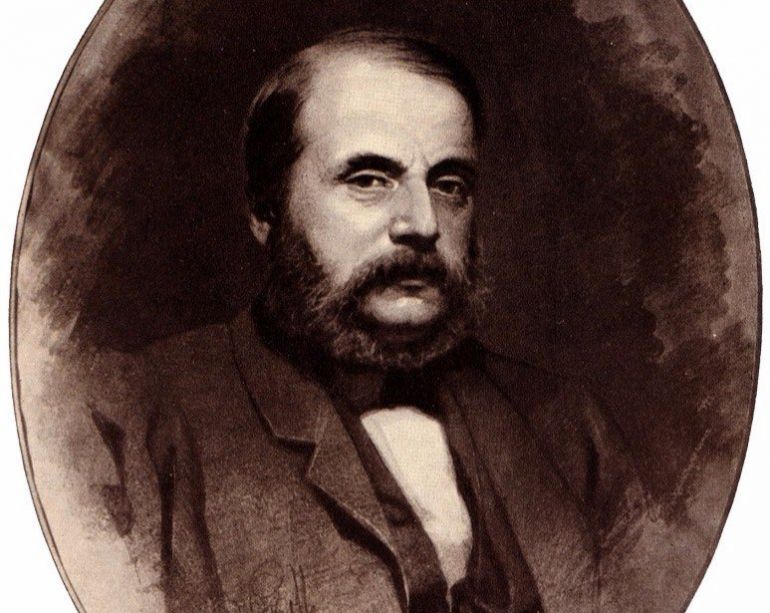«Чужая речь» и взаимодействие речевых манер в романе Гончарова «Обыкновенная история»

Маркович В.М.
Современные историки и теоретики литературы подчеркивают особую важность категории конфликта. Конфликт рассматривается как структурная основа литературного произведения, как фактор, обусловливающий соотношение его компонентов.
Наглядной иллюстрацией к этому тезису могли бы служить некоторые романы натуральной школы 1840-х годов, в которых нередко выделяется так называемый диалогический конфликт. Суть этого конфликта сводится к тому, что противоположные точки зрения сталкиваются на фоне действительности, обнаруживая перед ней свою односторонность или несостоятельность и тем самым выявляя косвенным образом ее неисчерпаемую сложность. Ю.В. Манн показывает, что подобная схема повторяется в разных произведениях натуральной школы с различным смысловым наполнением, но сохраняет свои основные черты.
К середине 1840-х годов эта схема успела утвердиться в жанре повести (Бутков, Соллогуб и др.). Чуть позже ее очертания отчетливо обозначаются в романе Герцена «Кто виноват?» (1846).
Основной формой развертывания конфликта оказываются здесь диалоги персонажей (споры Крупова и Круциферского, Бельтова и Крупова, Бельтова и Жозефа и т. д.). Но прямыми столкновениями спорящих «голосов» дело не ограничивается. Диалоги втягиваются в многообразное взаимодействие с фабулой и авторским словом. Таким образом, противоборство «голосов» внутри диалогов распространяет свое влияние за их пределы.
Очень существенно взаимодействие диалогической смысловой динамики с развитием другого, не менее важного конфликта. Речь идет о социально-философской антитезе, противопоставляющей естественную «родовую» природу человека искажающим ее социальным условиям, среде. Антитеза «человек — среда», почти непоколебимо господствовавшая в первой части «Кто виноват?», постепенно утрачивает свое монопольное положение и свою первоначальную форму. По мере того, как развертывается диалогический конфликт, усложняется представление о человеческой природе, формируется «дискуссионное» ее восприятие. Усложняется и проблема ее отграничения от среды, намечается подвижная, подчас противоречивая оценка результатов ее столкновения с объективными социальными условиями. Развитие сюжета не разрешает ни одной из поставленных в романе проблем. Напротив, все глубже и очевиднее обнаруживается их неразрешимость. Драматизм неразрешимых вопросов рождает мощный порыв к неведомому и непредставимому. Эта устремленность за горизонты современного сознания и общественного бытия становится в заключительных главах «Кто виноват?» пафосом романа.
Во многом сходной оказывается роль (да и сама внутренняя структура) диалогического конфликта в «Обыкновенной истории», опубликованной в том же
Однако все эти конструктивные принципы получают в «Обыкновенной истории» глубоко оригинальное преломление. Такое «несходство сходного» требует внимательного анализа.
В сопоставлении может яснее обрисоваться особая природа творческих манер Герцена и Гончарова и в то же время может составиться более полное представление о возможностях, заложенных в общих установках натуральной школы, о широте и внутренней сложности ее стилевого «спектра».
Особый интерес представляет различие принципов, определяющих взаимодействие диалогического конфликта и фабулы, диалогов и авторского повествования. В «Обыкновенной истории» событийные эпизоды и дискуссии чередуются едва ли не подобно ритмической правильности движений маятника. И на всем протяжении романа диалоги и фабула развертываются в четкой взаимной соотнесенности. Весь событийный ряд так или иначе «работает» на диалогический конфликт, приобретая определенный смысл именно в связи с ним.
Во второй части «Кто виноват?» фабула связана с развитием диалогического конфликта далеко не так очевидно, последовательно и жестко. Нет правильного чередования событийных эпизодов и дискуссий, фабула вводит гораздо больше материала, не связанного прямо с борьбой мнений в диалогах. На этом фоне взаимодействие фабулы и диалогов у Гончарова может показаться несколько прямолинейным.
Но взаимоотношения между диалогами и авторским повествованием имеют в «Обыкновенной истории» значительно более сложную природу. И главным образом вследствие того, что здесь формируется более сложное отношение между собственно-авторским и «чужим» (или «получужим») словом. У Герцена авторское слово, очень подвижное в своих собственных пределах, активно играющее многими общеязыковыми стилями (профессиональными, бытовыми, литературными, научно-публицистическими), в то же время не размывает границ, отделяющих его от речи персонажей. Прямая речь Бельтова, Любоньки и даже Крупова или Круциферского чаще всего стилистически близка к авторской речи или во всяком случае не отграничена от нее особым, принципиально чуждым ей фразеологическим и экспрессивно-стилистическим колоритом. В романе «Кто виноват?» Герцен явно не стремится к тому, чтобы придать прямой речи главных героев черты резко выраженной характерности и типичности (эта установка действует лишь в первой части — в отношении некоторых второстепенных персонажей, вроде Негрова и его жены). Может быть, именно поэтому здесь неотчетлива распространенная в прозе первой половины XIX в. тенденция взаимопроникновения авторской речи и речи действующих лиц.
Немногочисленные вкрапления последней (с обыгрыванием ее характерности) встречаются внутри авторского повествования преимущественно в первой части романа и поскольку речь идет именно о второстепенных действующих лицах. Во второй части, где развертывается диалогический конфликт, вовлекающий в себя главных героев, слово авторского повествования почти не смешивается с их речью. Перед читателем — два не слишком различающихся по колориту, но вполне обособленных речевых массива.
Иное соотношение в романе Гончарова. Характерологическая колоритность языка дяди и в особенности языка племянника порой заметно сгущается и заостряется. Это бросает на речь персонажа легкую «объектную тень» (выражаясь словами М.М. Бахтина). В таком сгущении ощутим оценочный оттенок. И есть основание говорить о трудно уловимом, но все-таки реальном призвуке реплицирующего и комментирующего авторского слова.
Граница, отделяющая авторское слово от речи персонажей, оказывается у Гончарова проницаемой и подвижной. То и дело происходит своеобразное взаимопроникновение: в авторском тексте появляются элементы речи, характерные для того или другого из главных действующих лиц, в то же время авторская речь, вбирая в себя это «чужое» слово, буквально пронизывает его своими интонациями, своей экспрессией, а подчас и вкрапливает в него элементы инородной ему лексики или фразеологии. Чаще других образуются те особые разновидности, которые принято называть несобственно-прямой и внутренней речью. Обилие этих форм означает широкое распространение двуголосого слова: в одном и том же тексте совмещаются две разные речевые позиции. Таким образом диалогические отношения проникают внутрь авторского повествования.
Подобная тенденция воздействует у Гончарова даже на те компоненты романа, которые у Герцена остаются вне дискуссионно-диалогических столкновений как твердая опора объективного изображения и соотносятся с борьбой мнений именно в качестве воплощений несомненной истины. Таково, например, различие двух описаний, воссоздающих (каждый раз именно на пороге диалогического конфликта) общий вид типичного губернского города.
В начале второй части «Кто виноват»? типичность изображаемого города NN подчеркивается настойчиво и неоднократно («Прелестный вид... был общий, губернский, форменный...» и т. д.). Однако при всем том это все-таки конкретный пейзаж конкретного городка. Здесь действует иллюзия непосредственного, «сиюминутного» восприятия единичных предметов, лиц, явлений. Пейзаж как бы вписан в субъективный кругозор Бельтова, и это учтено, поскольку границы описания и его ракурс, сообразуются с возможностями персонажа-наблюдателя. Однако, по существу, читателю дана объективная картина, которая корректирует и опровергает иллюзии героя: хотя в описании есть элементы публицистики, и гротескные ассоциации, и ирония, «прелестный вид» дан как нечто, не подлежащее спору, не предполагающее объективной возможности разных оценок.
У Гончарова описание губернского города (во II главе первой части), тоже включено в субъективный кругозор главного героя, но здесь это уже очень существенно влияет на характер описания. Город предстает таким, каким его видит Александр: ведь вся картина создана воспоминаниями и в какой-то мере воображением Александра. Еще важнее то обстоятельство, что воображаемый губернский вид возникает в сознании героя как выражение полемической реакции, вызванной другим видом, петербургским. Наконец, и этот последний в свою очередь содержит в себе отзвук более ранней полемики.
При первом появлении (тут же, на соседней странице) петербургский вид как будто бы ничем не отличается от объективного конкретного пейзажа того типа, который представал читателю в начале второй части «Кто виноват?» Опять-таки действует иллюзия непосредственного восприятия чего-то существующего «здесь» и «сейчас»: «Он подошел к окну и увидел одни трубы, да крыши, да черные, грязные, кирпичные бока домов...» Однако «сиюминутное» впечатление выступает в соотнесенности с другим: Александр сравнивает петербургский пейзаж с тем, «что видел назад тому две недели из окна своего деревенского дома». А тот, деревенский, пейзаж в свое время вошел в повествование как своеобразный аргумент, с которым герою пришлось столкнуться в важном споре. Убеждая Александра отказаться от поездки в Петербург, мать пыталась противопоставить его честолюбивым планам и радужным надеждам прелесть и благодать родных мест: «А посмотри-ка сюда, — продолжала она, отворяя дверь на балкон, — и тебе не жаль покинуть такой уголок?». И вот теперь, когда Александр уже в Петербурге, воспоминание о деревенском пейзаже оказывается в то же время напоминанием о доводах матери. Петербургский вид втягивается в контекст спора и обретает определенный смысл именно в этом, диалогическом, контексте.
Сразу же вслед за тем описание Петербурга начинает приобретать полемический «реплицирующий» оттенок: «Он вышел на улицу — суматоха, все бегут куда-то, занятые только собой, едва взглядывая на проходящих, и то разве для того, чтоб не наткнуться друг на друга». В этой точке повествования и появляется описание губернского города, как бы выплывающее из воспоминаний полемически настроенного Александра («Он вспомнил про свой губернский город, где каждая встреча... почему-нибудь интересна»). И тут же совершается переход к другой форме повествования. Иллюзия непосредственного восприятия, сохранявшаяся, пока длилось описание Петербурга, по существу исчезает, как только заходит речь о губернском городе. Хотя описываются как будто бы конкретные лица и конкретные происшествия («То вот Иван Иванович идет к Петру Петровичу — и все к городе знают зачем»), они фигурируют в описании как образчики того, что бывает обычно или, точнее, всегда. Конкретное типизировано и переведено в масштаб обобщений. Перед читателем — явно «вторичная» реальность, представляющая факт сознания, результат его «операций», а не явление действительности. Это уже не картина в точном смысле слова, но что-то вроде полемической реплики, просто не имеющей пока определенного адресата. Объективное повествование, в сущности, перестало быть объективным повествованием. И оно естественно приобретает форму несобственнопрямой речи.
Описание губернского города грамматически отделено от контекста окружающего авторского рассказа только настоящим временем глаголов, но явственно окрашено интонацией, экспрессией, фразеологией Александра. Достаточно заключить описание в кавычки, чтобы оно стало прямой речью героя. И в то же время весь этот текст окрашен авторской иронией, выражающей себя то в интонациях, то в синтаксисе, то в лексике и фразеологии. Любой читатель может заметить здесь слияние двух противоположно направленных речей.
Так, внутри описательного фрагмента формируется дискуссионно-диалогический потенциал. Его воздействие на формы описания неуклонно возрастает. Возвращение к петербургскому пейзажу после воспоминаний о пейзаже губернском еще более отчетливо превращает описание в полемическую реплику. Сама его словесная форма, все явственнее приобретает «реплицирующий» характер, постепенно приближаясь к адресованной устной речи («Заглянешь направо, налево — всюду обступили вас, как рать исполинов, дома, дома и дома, камень и камень, всё одно да одно... нет простора и выхода взгляду...»). Повествование демонстрирует реальность скорее словесную, чем предметную. Восстановление визуального образа так и не состоялось.
Интересно, что после этого еще раз повторяется тот же самый композиционно-смысловой «ход»: тягостные впечатления от Петербурга, перелет воображения в «свой» губернский город, полемическое противопоставление «отрадного» губернского вида тоскливому виду петербургскому, затем опять возвращение к реальным петербургским впечатлениям и превращение самого акта восприятия в напряженную полемику с воспринимаемым. Но теперь весь цикл повторяется уже на ином уровне обобщенности: перед читателем — «первые впечатления провинциала в Петербурге». На этом «витке» повествование еще в большей степени удалено от иллюзии непосредственного контакта с видимым «здесь» и «сейчас». Еще более последовательно подчеркивается «вторичность» воссозданной повествованием реальности, ее принадлежность к миру сознания, а не предметной действительности. Можно заметить, что при этом появляется больший простор для развертывания различных форм несобственно-прямой, внутренней и замещенной речи. И — соответственно — для двуголосия, взаимопроникновения речевых манер, развития диалогического потенциала внутри объективного авторского повествования.
В новом описании губернского города авторская ирония противоборствует восхвалению уже несколько по-иному. Здесь более отчетливо ощущается возможность двух противоположных оценок изображаемого. В конечном счете это создает эффект их взаимодополнительности. Но порой двуголосие вплотную приближается к формам скрытого диалога: некоторые фразы описания можно представить себе разделенными на реплики двух противоположно настроенных субъектов («Другой дом — точно фонарь: со всех четырех сторон весь в окнах..., дом давней постройки; кажется, того и гляди, развалится или сгорит от самовозгорения...» Или: «И все живут вольно, нараспашку, никому не тесно; даже куры и петухи свободно расхаживают по улицам...»). На таких же примерно контрастно-иронических переходах будут строиться потом «открытые» диалоги дяди и племянника. А когда «виток» завершается и повествование возвращается вновь (теперь уже вторично) к «сиюминутным» конкретным впечатлениям Александра Адуева, его восприятие становится противоположным: «Он вдруг застыдился своего пристрастия к тряским мостам, палисадникам, разрушенным заборам. Ему стало весело и легко. И суматоха и толпа — все в глазах его получило другое значение» и т. д.
Возможность двух противоположных точек зрения открывается в сознании героя. Выходит, что описание внутренне диалогизируется буквально во всех своих измерениях. Вырисовывается некая дискуссионная истина, в рамках которой предмет описания оказывается поводом и материалом для столкновения различных точек зрения. Образ Петербурга не растворяется в их противоборстве, но становится проблемной величиной. Так внутри описания формируется «завязка» одной из главных линий будущего диалогического конфликта. То, что у Герцена ограничивало свободную игру диалогических стихий, у Гончарова оказывается втянутым в эту игру и активно поддерживает ее.
Динамические взаимоотношения между авторским словом и словом персонажей, многообразие форм их взаимовлияния, обилие разновидностей несобственно-прямой и внутренней речи создают предпосылки для появления в «Обыкновенной истории» особой формы диалога, существенно и необычно усложняющей структуру диалогического конфликта. Это — своеобразный диалог речевых манер, который скорее пересекается, чем совпадает с противоборством точек зрения дяди и племянника.
В прямых спорах двух оппонентов оба диалога сливаются как-будто бы нераздельно, но даже здесь они, в сущности, не равны друг другу. За столкновением субъективных позиций открывается борьба объективных (социально-идеологических, как сказали бы сегодня) сил и стихий языка. Сталкиваются собственно-языковые полярности: язык поэзии противостоит языку прозы, речь специфически книжная — речи специфически обиходной, прямое называние предметов — метафорическому и перифрастическому способу выражения, риторико-декламативная речевая тональность — тональности разговорно-деловой. И обнаруживается, что в самой природе различных слоев, начал и тенденций, языка заключен потенциал непримиримого диалогического противоборства. Когда Александр называет подаренные ему кольцо и прядь волос «вещественными знаками невещественных отношений», а Петр Иваныч именует то же самое «всякой дрянью», в этом проявляется не только диаметральная противоположность их взглядов, но и заложенная в меняющейся структуре речи возможность придать одному и тому же явлению полемически направленные друг против друга ценностные смыслы. Эта возможность, обусловленная внутренним разноязычием русской речи, ее социально-исторической динамикой, борьбой и сменой речевых систем, создает в романе Гончарова диалогическую ситуацию совершенно особого рода.
Речевая манера Александра с ее постоянно напряженной аффектацией и патетикой, перенасыщенная фразеологическими и стилевыми клише, во многом приближена к формам стилизованной речи. Временами в резкой сгущенности ее характерных примет ощущается дискредитирующий принцип отбора и подачи материала. Но и речевая манера дяди, сама по себе не окрашенная стилизующим или пародийным колоритом, тоже начинает восприниматься как стилизованная в контрасте и полемическом столкновении с речевой манерой племянника. На фоне «вещественных знаков невещественных отношений» «всякая дрянь» выглядит противоположной крайностью. Говоря иначе, природа каждой из двух речевых манер в значительной мере определяется их диалогической взаимоориентированностью и соотнесенностью. Эти оспаривающие друг друга манеры сохраняют свои определяющие признаки (хотя и не обязательно все) за пределами прямых диалогов, в сфере несобственноавторской речи.
Типы взаимоотношений двух манер, возникающие здесь, достаточно разнообразны. Этому способствует, в частности, обилие «рассеянной» чужой речи и образуемых ею гибридных конструкций, смешивающих или сталкивающих различные речевые манеры и смысловые кругозоры в пределах единого высказывания. Две эти полемически взаимоориентированные манеры встречаются порой внутри одного простого предложения.
Иногда внутри такого двуголосого высказывания одна манера выступает как опровержение другой, как разоблачение неистинности присущих ей форм выражения. «Он не бросался всем на шею, особенно с тех пор, как человек, склонный к искренним излияниям... обыграл его два раза, а человек с твердым характером и железной волей перебрал у него немало денег взаймы». Восторженно-романтические формулы («человек, склонный к искренним излияниям», «человек с твердым характером и железной волей») перешли в авторское повествование из реплик Александра, звучавших в предшествующем диалоге. А разоблачающие их сказуемые и дополнения тех же самых предложений тематически и стилистически дублируют ответные реплики Петра Ивановича. О носителях двух речевых манер автор не напоминает: читатель легко узнает недавние высказывания обоих оппонентов. Однако и в том и в другом случае произошло известное отделение манеры от самого говорящего: манера обрела некоторую степень автономности, с ней уже можно проделывать те или иные «операции». И если цитированная фраза в основном еще сохраняет прямолинейно-полемические отношения двух манер, установившиеся в «открытых» диалогах, то чуть позже эти манеры, освободившись от непосредственной «прикрепленности» к говорящим субъектам, вступают в более сложное взаимодействие.
«И вот он начал учиться владеть собою, не так часто обнаруживал порывы и волнения и реже говорил диким языком, по крайней мере при посторонних». «Дикий язык» — формула дяди, его полемически заостренная оценка. Но звучит она в предложении, максимально приближенном к формам несобственно-прямой речи, т. е. введена в кругозор племянника, в его, сознание. Здесь формула Адуева-старшего уже не равна себе и своим первоначальным значениям. Племянник тоже начинает воспринимать собственный язык как дикий, но лишь в особом ракурсе: таков его язык для других — это он теперь понимает. Однако для него самого романтическая фразеология и экспрессия сохраняют прежнее высокое значение. И вот полемическая формула теряет свою однонаправленность, оказываясь внутренне разноречивой.
Такие сложные формы встречаются у Гончарова не реже, чем те прямолинейно-разоблачительные столкновения двух манер, о которых говорилось выше.
Л-ра: Филологические науки. – 1982. - № 2. – С. 58-66.
Произведения
Критика