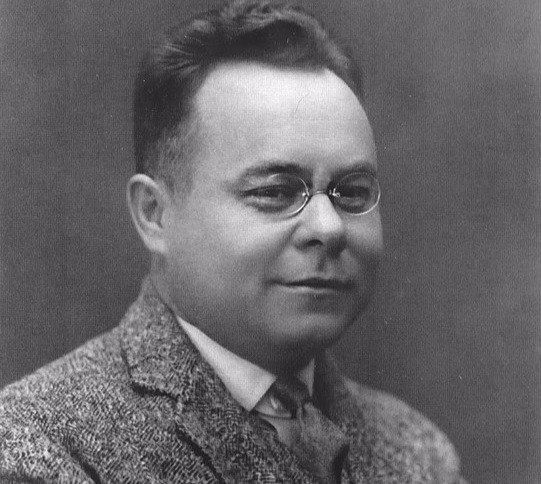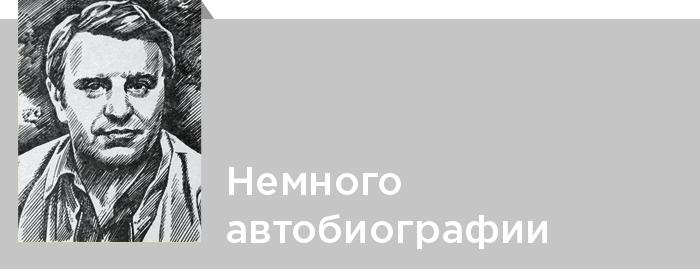Всеволод Иванов. Гривенник

Произошло это еще до войны.
Я и моя жена служили в «драматическо-комедийно-русско-украинской труппе» в одном из уездных городков, существовали от спектакля до спектакля: то авансами, то клочками гонорара.
Когда внезапно (хотя явление это далеко не внезапное, а обычное) скрылся наш антрепренер, захватив кассу, так же внезапно, как листья осенью (кстати, был конец сентября), рассыпались актеры.
- Подведем итог? - предложил я жене по приходе в комнату «меблированных со всеми удобствами номеров».
Жена обвела взглядом наш багаж и весьма красноречиво вздохнула:
- Одеяло - рубль. Парики и краски - два. А там - книги, белье да чемодан. Разве фрак твой продать?
- А я в чем играть буду?
-Тогда делай, как хочешь. Я не знаю. А до станции восемьдесят верст. Еще не забудь - хозяину две недели не плачено.
Жена опустилась на кровать и загрустила. Я прошелся несколько раз из угла в угол. Потом решился:
- Айда пешком! Экономия...
Удивительные женщины! Ведь в положении ничего не изменилось к лучшему, а жена развеселилась и даже что-то замурлыкала.
Да простит мне квартирохозяин (если он это читать будет), но обманул я его с большим удовольствием. Ибо до тошноты опротивела мне его блиноподобная физиономия с написанным на ней убытком, с постными словами:
- Какие жильцы актеры! Маята...
Одеяло и прочее имущество я спустил в окно, сам туда же спустился. Жена вышла через коридор из дверей нашего номера, громко крикнув:
- Иду в клуб на репетицию!
Маленький степной городишко прошли в несколько минут. Дальше - степь. Мы сильно торопились. Мелькнули последний раз крылья мельницы, кресты на соборной площади и высокая каланча.
Люблю я степь осенью. Сухая, щетинистая, серая, как голодный волк, - кровью наливается она в часы восхода и заката. И нигде, как только в ней одной и только осенью, можно познать красоту серого - огромного, всегда злого, всегда хмурого. 3десь нет мягких красок, нежных запахов – серая полынь, чьи горькие запахи господствуют беспредельно и, пожалуй, вечно. Шли не торопясь. Наша собачонка, маленькая, не привыкшая к ходьбе, скоро устала и умильно поглядывала на наши руки.
- Что, Тайка, устала? - спрашивала жена и брала ее на руки. Собачонка старалась благодарно лизнуть жену в лицо.
Ночевали верстах в тридцати от города, у новоселов-хохлов. Хитроватые переселенцы удивленно расспрашивали у нас:
- Хиба нэма земли, що пришла нужда бродить, як слепцы?
И еще больше удивлялись, узнав, что мы совсем и не имеем желания пахать землю. Тут я услышал, как вкусно произносится некоторыми слово:
- З-з-з-эмля!.. - протяжно, любовно и с большим сердцем. Укладываясь на сноп соломы, жена довольным голосом сказала:
- Хо-ро-шо!
Но на другой день ничего хорошего не было. Подул частый здесь ветер. Холодный, пронизывающий, поднимающий клубы удушливой, мелкой, как дым, пыли. Заходили по небу обрывки темных туч, похожих на лоскутья.
- Дождь буде, - сказал переселенец, у которого мы переночевали,- Гостюйте ще.
- Пойдем, - решили мы оба.
- А по дороге кто 6yдет? - спросила жена.
- А будут нимцы...
- Немцы? А какие?
- Такие, що нимцы. Звистно. Колонисты...
Мы пошли.
Прошли верст десять.
Ветер налетал шквалами, заставляя вздрагивать от холода. Туча синяя с белым отливом заполостнула полнеба.
- Продрогла я, - сказала жена. - И Тайка замерзла.
Собачонка действительно дрожала, часто поднимала кверху черненький, точно шагреневый, носик и жалобно повизгивала. Ветер стих, а через минуту пошел дробный дождь, называемый у нас «брозью». 3аряжает на пять-восемь дней.
Через час на дороге появилась грязь, платье на нас вымокло, потяжелело. Тяжел стал и багаж, который я тащил. Холод шел по костям, ноги еле волочили уставшее тело, и нещадно ломило спину.
- Я, должно быть, простудилась - бок колет... А Тайка-то, смотри!
Собачонка отстала, сидела у куста таволожки, трясла облепленными глиной лапами. Увидев нашу остановку, снялась и подбежала с тихим визгом. Жена взяла ее на руки и, с трудом передвигая ноги, пошла. Так мы шли еще часа два. Вдали среди жирных скирд стали видны саманные хаты колонистов.
- Немцы! - обрадовались жена.
Прибавили шагу.
Лохматые, сытые собаки с ленивым лаем наскочили на нас. Мы подошли к главному строению с высоким крыльцом, с крышей в форме опрокинутого корыта.
Постояли, подождали, Никто не показывался.
- Эй, кто есть! - закричал я.
Ответили мне лишь лаем собаки да Тайка громко завизжала.
- Слушайте! - попробовала кричать жена. Опять тот же результат.
Я поднял с земли глыбу глины и с силой бросил ее в дверь. Через минуту за дверями послышались глухие шаги. Звякнул засов, и в дверях показалась человеческая фигура - толстая, брюхастая, с угловатой белобрысой головой и короткими пышными усами. Поправляя подтяжки, фигура спросила:
Што?
Разрешите обогреться, - сказал я.
- Опокрется? У меня харчовня? Нато свой, свой опокретса...
Вам хорошо философствовать, стоя под крышей,- не выдержала жена, - а мы закоченели, понимаете?
О-о!.. - повел неодобрительно усами немец. - Как ви разговаривать... Малатой фрау... О-o!- Он опять пошевелил губами и закончил: - Нато работать... Та-а...
- Мы работали, но раз нет работы, понимаете?
- Ви работайте? - подтянул брови немец. - Што ви работайте?
- Актеры, - со злостью сказал я
- О-о... Поет?
- И поет...
Немец покачал головой и сентенциозно заметил:
- Такой холот, ви гуляет... А-я-яй1 И поет не будет... Та-а...
- Вот и пустите, черт вас возьми, - окончательно рассердился я. – Коли вам так жалко.
- Нато свой... - сказал немец и повернулся к нам спиной.
- Скотина! - выругался я.
Закрывающий двери немец вдруг остановился и сказал:
- Ви работать путет? Пожалуйста. Пусть поет... Ми за рапоту платим... Ми справетливы... О-о...
Мы с женой переглянулись, у обоих мелькнула мысль: «Споем, лишь бы пустил». Я немного подвинулся ближе к крыльцу, откашлялся и запел знаменитую кантату «Ринальто». В окнах показалось несколько любопытных лиц, из-за спины немца выглянулась чья-то стриженная голова. Жена отвернулась.
Я пел отвратительно. Слова падали скупо и бесцветно, словно в колодец. Моросил дождь, слабо дрожало небо, точно из серой паутины. За домом, у колодца, лаяли на нас собаки.
Я пропел.
- О-о... карашо... - сказал немец. Достал кошелек, порылся в нем и протянул мне новенький блестящий гривенник.
Я повернулся и пошел. Гривенник со звоном покатился по ступенькам. Жена догнала меня уже на тракте. Поравнялась и показала на ладони новенький гривенник.
- Брось! - сказал я.
- Нет, зачем же? Ничто так не украшает жизнь, как воспоминания. Это, кажется, немецкая поговорка...
Произведения
Критика