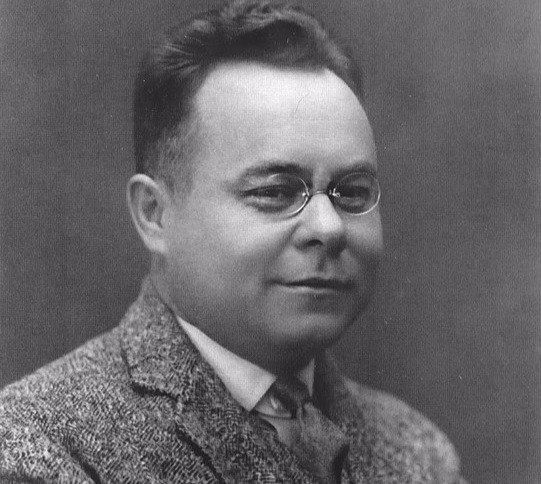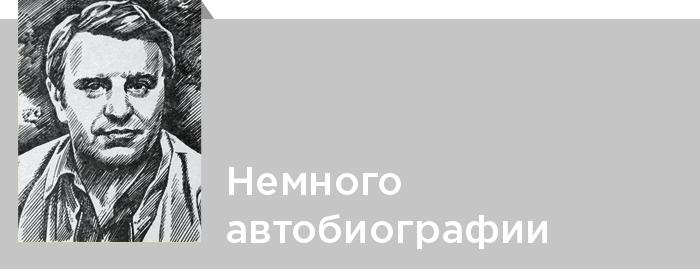«У» Всеволода Иванова: интеллектуальный роман из жизни нэпманов, или Пародия на советский психоанализ

Александр Эткинд
Участь романиста — не поиски времени,
как утверждает классик и туча его подражателей,
а проецирование теперешнего состояния вашего сознания на прошлое.
В. Иванов. «У»
О романе Иванова, впервые опубликованном почти через 60 лет после написания, мало что известно, кроме самого текста. Даже и дата его окончания не определена. Но действие романа датировано самим автором. Оно разворачивается между двумя событиями: рождением сына писателя (1929), «родившегося в те дни, когда назревали события, описанные в ,,У”», и разрушением храма Христа-Спасителя (1932). Роман, вероятно, писался долго и кусками. Во всяком случае, его финальная сцена разыгрывается под «темным сводом» еще существующего храма, хотя на первых же страницах он объявлен разрушенным.
По соседству с руинами храма и в его оседающей пыли развертывается сложная, с ускользающим сюжетом импровизация на тему переделки человека. Нэп уже «припихнули», коллективизацию «завершили», то, что уцелело от Москвы, — «перекрасили». Люди же по-прежнему нуждались в «перерождении».
Как говорили тогда же, в середине 30-х годов, герои «Счастливой Москвы» Платонова: «надоело как-то быть все время старым природным человеком: скука стоит в сердце»; «насколько человек еще самодельное, немощно устроенное существо — не более, как смутный зародыш и проект чего-то действительного, и сколько еще надо работать, чтобы развернуть из этого зародыша летящий, высший образ, погребенный в нашей мечте». Таковы чувства тех, кто искренне и страстно стремился изменить свою человеческую сущность. А вот как выглядит интерес к проблеме со стороны внешнего наблюдателя: «Горожане сильно изменились, внешне, я говорю, как и сам город, впрочем... Но меня, конечно... интересует... гораздо более важный вопрос: изменились ли эти горожане внутренне?» — задавал профессионально поставленный вопрос булгаковский Боланд. «Да, это важнейший вопрос, сударь», — подтверждала его свита. Наверняка это главная тема русской прозы 20-х и 30-х годов. Возможно, центральная проблема XX века.
«Здесь отобраны люди, которые до известной степени связаны еще с обществом. Характеризуются они... не теперешней (жизнью — А. Э.), о ней и говорить не стоит, а прошлой... За ними много грехов... Вот этот. Он, видите, подвержен аффектации. С детства он не приучен владеть собой... Он был даже на высоких должностях, вплоть до секретаря губкома... Быстрая смена качеств совершенно противоположных. Доброта и дикая, нелепая жестокость, гнусные выходки, чрезмерное самомнение... — Дальше. Следующий! — Удовлетворение некоторых влечений желудочных и половых. Все, что возвышает и облагораживает, отступает обычно на второй план; обжорство и грубый разврат... Изнасиловал дочь...— Следующий... Постепенно постигал сознательную эволюцию народа и общества... Умеренно либерален... Подчиняет любовные увлечения требованиям рассудка... Убежден, но совершает всегда противоположное... Умеренностью своей и либерализмом вогнал в гроб всю семью...— Поэт. Бурная эмоциональность и огненная фантазия. Любит карты и вино, потому что находит что-то за их пределами. Совратил этим многих... Сосредоточенная мощь и глубина... Любит детей... и загубил трех, потому что жена его слушалась...— Активный... Склонность к душевной борьбе и самообладанию у него отсутствует, поверхностна и примитивна психика... Он погубил целую группу людей, строителей большого дела...— Расчетливый эгоист... Любит переодеваться... Видит здесь какой-то чрезвычайно утонченный разврат.
Профессиональные социоклинические характеристики, воспроизводящие диагностический жаргон и даже типичные аграмматизмы психиатров, громоздятся в «У» вперемежку со сложными, неожиданно интеллектуальными рассуждениями героев, скрытыми цитатами и непрокомментированными аллюзиями. И все это в объеме полномасштабного романа, внутри классических единств места, времени и действия, — с парой боковых детективных сюжетов, с ритмическими паузами, заполненными комическими драками и эротическими картинками, с кульминационным сновидением про петуха и финалом в виде карнавального шествия.
В центре романа классическая пара — безумец и простак. Они попадают в немыслимые приключения, не выходя из загаженного и перенаселенного особняка в центре Москвы, в «районе невропсихологической вредности». В этот дом их привела, естественно, любовь безумца к его обитательнице, которую здесь зовут Сусанной. Местного донкихота зовут доктор Андрейшин, он психоаналитик из «психиатрической больницы им. Э. Крепелина». Его верный Санчо по имени Егор Егорыч работает счетоводом в той же больнице. От его лица и ведется рассказ.
Последнему предпослан некоторый аппарат. Три эпиграфа объясняют смысл названия романа двумя способами. Ломоносов считал «У» одним из звуков, посредством которых показывают «страшные и сильные вещи, гнев, зависть, боязнь и печаль». С ним согласен Л. Толстой, который описал умирающего Ивана Ильича кричащим «У»: «Он начал кричать „не хочу” и так и продолжал кричать на букву ,,у“». За этим следует Флоренский, который использовал «х» и «у» как «знаки индивидуума»; из чего мы понимаем, что «у», возможно, не русское «у», а латинский игрек — или и то и другое вместе... Через несколько страниц Иванов подкрепит второе прочтение цитатой из учебника математики.
За эпиграфами следуют Примечания, живо напоминающие позднейшие литературные эксперименты с примечаниями без текста. Но здесь они написаны, кажется, к реальному тексту романа. Их своеобразие не только в том, что роман с них начинается, а не кончается ими; а еще в том, что их раз в сто меньше, чем нужно для понимания текста. Автор (называющий себя составителем, в отличие от рассказчика) это признает: «...сберег вам 2.500 страниц чистоганом. Умейте писать, молодые люди!». Смысл тех примечаний, которые даны «составителем», в том, чтобы задать контекст, в котором надо понимать все дальнейшее. В них цитируются Спиноза, Гегель и Бергсон в качестве интеллектуального фона; Аристофан, Стерн и Вельтман в качестве литературных предшественников; а также упоминается большая компания классиков русской и зарубежной психиатрии («в общей сложности 1700 трудов»), начиная с Фрейда и Крепелина и кончая Корсаковым, Ганнушкиным, Бехтеревым, Павловым, Баженовым и Яковенко...
Этот «аппарат» заканчивается чем-то вроде посвящения. «Составитель» — так называет себя Иванов — надеется когда-нибудь «поднести книгу... какому-нибудь высоковзнесенному товарищу или нежноласкаемому существу, коим, в данном случае, мы наметили младенца нашего». Как мы уже знаем, этот младенец родился тогда, когда назревали события, описанные в романе. Тогда к отцу вышел профессор-акушер и сказал: «У, какой большеголовый! Психиатром быть», — в ответ на что составитель, подчиняясь довольно сложным ассоциациям, назвал своего сына Вячеславом. В вти ассоциации вошел и «магический кристалл» — но не пушкинский, а античный, «который употребляли близорукие. Нерон, по преданию, смотрел пожар Рима сквозь изумруд».
И, наконец, перед тем, как начать рассказ «по существу», нам дают прочесть некое «обобщение». Эти полторы странички написаны от лица составителя, но никакого «обобщения» в них нет. Рассказывается здесь о Савелии, «мерзейшем» старичке, по характеру похожем на горьковского Луку. Он тайно управляет остальными героями, под конец выдает их властям и к тому же, кажется, втайне обладает желанной всеми Сусанной. Итак, этот Савелий, увидев, как ломают храм Христа-Спасителя, «поднял высоко над головой палец, на котором моталась нервно подтяжка, и повторил: — Наконец-то Советская власть победила! В чем ее победа?»
Ответ на этот ключевой вопрос и заключает в себе «х», будто извлеченный из названия храма Христа-Спасителя. Игрек же, как пишет цитированный Ивановым учебник математики, «называется неясной функцией от X». Как сквозь магический кристалл, Иванов неясно еще различает этот «У» — время, которое достанется на долю его сына. И, как Иван Ильич, «на разные интонации» кричит: «у-у-у».
Двадцатидвухлетний Черпанов, уполномоченный по вербовке рабочей силы, интересует автора, кажется, более всех остальных; во всяком случае, никому другому он не посвятил так много странных, разностильных описаний. В его карманах содержатся бесконечные справки о благонадежности (вот даже по Фрейду — что не сумасшедший) и мандаты с печатями — как выяснится позже, фальшивыми, Бывший алкоголик, которого излечили кулаками, угрозами и предложением «излечиться и приняться за психическую обработку общества», Черпанов смотрит на происходящее с недовольством особого рода: «Что бы приехать раньше, — думал он, — не меня ли страждали здесь для разбора храма?»
Своей «способностью истолочь, избить в комок любое препятствие, сгубить рецензией любое предприятие или мысль», как и много раз описанным велосипедным костюмом со множеством карманов, Черпаков кажется сначала типическим представителем новой эпохи. Но нет, совершенно неожиданно рассказчик характеризует его как «человека-барокко». «Отколе-то от барокко проскальзывала на его сухое лицо богатая розовость и жажда сковырять, сплести, сделать». Его прозаический костюм сплошь увит «подобием виноградных лоз, — масляными пятнами». Эта барочная и даже дионисийская атрибутика, посаженная на заурядного провинциального мошенника, приводит в изумление. Непонятны и его «сконсовые» усы, воспроизводившие «древний мотив висячей арки». Чьи они — не Сталина ли? Дело проясняется, однако, с самой содержательной стороны.
Черпанов приезжает в Москву с Урала ддя осуществления весьма серьезного проекта. «По моим наблюдениям, правительство несколько смущено, и оно будет чрезвычайно благодарно тому человеку, который найдет выход из затруднительного положения. Ну, что ж, я и взялся». Дело в том, что «перед нами» — правительством и Черпановым — «реально встало» переустроенное общество, которое Черпанов называет бесклассовым. Проект кажется осуществленным или вот-вот осуществимым. Но что же делать с людьми, которые в этом новом обществе жить не умеют, не могут и не хотят? Или, как с марксистской точностью излагает Черпанов, — с буржуазией, мещанством, нэпманами и прочими чуждыми элементами, которые сами по себе не перемрут, слишком хитрые и ловкие? «Изгонять, как изгнали евреев из Испании? Можно, но слишком велики издержки». Черпанов предлагает решение простое, эффективное и гуманное: все они подвергнутся массовой психологической трансформации. Или, в черпановских выразительных терминах, людей надо переродить. Иными словами, подвергнуть второму рождению, в котором наука и государство сыграют роли бывших родителей.
Психоаналитик Андрейшин согласен, что дело это нужное, хотя и непростое: «Сколько надо приложить труда, чтобы увести этих людей к счастью», — говорит он Черпанову с уважением. Требуется, прежде всего, подвиг, и даже больше того. «Иначе и не взялся бы, если б не трудность подвига... При тысячесильном моторе и дурак перелетит через океан, а вот ты перелети его верхом на гусе. Это уже, Егор Егорыч, получается не подвиг, а сказка, но сказка, закрепленная соответствующими полномочиями», с полной ясностью объявляет Черпанов.
Игра идет по крупной: иронически проигрывается идея «нового человека», которая была центральной для левых русских интеллектуалов в течение всего «серебряного века», объединяя религиозных философов, радикальных марксистов и поэтов-символистов. Она была унаследована, усилена и примитивизирована советскими идеологами, найдя свой расцвет в психологии и педагогике 20-х и начала 30-х годов. Противоестественное государство могло достичь стабильности лишь при условии изменения самой человеческой природы своих подданных — преображения, которого оно ежечасно от них требовало и, действительно, пыталось осуществить. «Выпустить новое, «улучшенное издание» человека — это и есть дальнейшая задача коммунизма», — говорил Троцкий в середине 20-х годов. «Человек взглянет на себя как на сырой материал или, в лучшем случае, как на полуфабрикат и скажет: „Добрался, наконец, до тебя, многоуважаемый хомо сапиенс, теперь возьму я тебя, любезный, в работу!"»
Черпанов не особо задумывается о методах планируемой переделки. «Э, мало ли от чего люди перерождаются», — небрежно бросает и многоопытный дядя Савелий. В карманах у Черпанова заветные пакеты с инструкциями, которых он еще не читал; к тому же при необходимости можно сослаться на авторитет психоанализа, благо он рядом и, в лице Андрейшина, готов на многое. Но у Савелия свой рецепт: «Театры могут большую работу проделывать в вашем духе». О театре то и дело заговаривает и сам Черпанов.
Термин «театротерапия» придумал Н.Н. Евреинов. В Петрограде 1920 года он призвал пользоваться этим «методом лечения наших врачей, а заодно и сценических деятелей, в руках которых (как это ни странно на первый взгляд) один из способов, — и может быть, могучих, — оздоровления человечества». В том же году Евреинов пишет свою известную пьесу «Самое главное». Герой ее, по имени Параклет, что значит «советник, помощник, утешитель», представляется как «антрепренер театра, который зовется жизнью». Одна из его масок по ходу действия зовется «доктором Фреголи». Он рассуждает так: «На свете есть миллионы людей, лишенных интимных радостей благодаря убожеству, миллионы, для которых равноправие социализма должно звучать горькой насмешкой, что, конечно, не аргумент против социализма, это лишь аргумент в пользу того, что мы должны еще что-то предпринять». Доктор помогает людям особыми, театральными средствами: нанимает актеров и диктует им мизансцены, в которых те играют в любовь с принимающими все за чистую монету несчастными — робкой девушкай, неврастеничным юношей, старой девой... Совсем не случайна искренняя и полная скрытых смыслов солидарность с Троцким, которая звучит в одной из книг Евреинова, написанных одновременно с «Самым главным».
В то время, когда проектировался Дворец Советов на месте не разрушенного еще храма Христа-Спасителя, бывший психоаналитик Арон Залкинд формулировал задачу «педагогики» как «массовое строительство Нового человека». Его наследник в позиции вождя Антон Макаренко разъяснил цель своей «педагогики» как «воспитание такого типа поведения, таких характеров, таких личных качеств, которые необходимы Советскому государству». Наблюдая события из эмиграции, Федор Степун писал в ужасе: «Государственный деспотизм не так страшен своими политическими запретами, как своими культурно-педагогическими заданиями, своими замыслами о новом человеке и новом человечестве».
Подливным автором идеи переделки человека был не Маркс и не Фрейд, а Ницше. Беря его формулу сверхчеловека в эпиграф своей книги с точным названием «Новый мир», Александр Богданов, самый серьезный теоретик большевиков и психиатр по образованию, писал в 1904 году: «Человек еще не пришел, но он близко, и его силуэт виден на горизонте». Черпанов, дальний наследник этой идеи, поясняет: «Нашему комбинату поручено в виде опыта перерабатывать не только руду, но и с такой же быстротой людей, посредством ли голой индустрии, посредством ли театра или врачебной помощи — все равно. Но чтоб мгновенно! Вот я вам проектики покажу, пальчики оближете. Переделка в три дня...». Его собеседник изумлен. «Чудак вы, Егор Егорыч, — отвечает Черпанов. — Намеки вы принимали, а когда перед вами развернули полную программу, так вы ошалели».
Да, Черпанов будет ковать сверхчеловека! Именно сверхлюдей он привезет к себе на Урал, на «строительство... и сверхмощное и сверхбыстрое, а главное, сверхнеобходимое». Он сделает из мещан-обывателей «такую рабсилу, которая будет трудиться лучше прочих, потому что она свеща, она энергична и опытна, она рвется до дела, она хочет проникнуть тоже в, бесклассовое общество». Не от Ницше ли его «сконсовые» усы? При встрече с Черпановым д-р Андрейшин был так поражен ими, что счел их приклеенными и решил сковырнуть; но потом Черпанов сбрил их, будто проигрывая большевистскую историю истощения ницшеанского импульса.
Речь идет об истинном перерождении, радикальном и тотальном одновременно. Егор Егорыч, ставший к этому времени секретарем Черпанова, колеблется: «Надо ли мне перерождаться или секретарствовать можно и без перерождения? С одной стороны, как будто бы и надо: иногда меня посещали мысли из тех, которые «клеймят» (то есть недостойные нового человека). Но, с другой стороны, как будто и не надо. Много во мне есть таких черт, которые я люблю и которые мне потерять жалко, а потерять их в суматохе при массовом перерождении чрезвычайно легко».
Действительно, задача сложная, и оценить всю ее глубину нам опять помогает дядя Савелий (бывший присяжный поверенный, а ныне жулик и саботажник): мешает гуманизм людей, «навязчивый и неистребимый», — гуманизм в его самой простой форме отвращения к убийству. «Жалко человечка! Гадкий он, ничтожный, хитрый и вредный, а жалко резать! И нож бритвой, и возможности полные, и результат впереди прекрасный... а жалко». Чем уничтожать живущих, каждый предпочёл бы «их использовать, ну хотя бы временно», — а в этом уже заключена непреодолимая слабость всего проекта.
Идею перерождения людей понимают в народе по-простому и, может быть, в соответствии с недавним еще сектантским опытом (интересовавшим Иванова в «Кремле» и раньше): «Чего ж, выхолостят их или как?» Черпанов уклоняется от ответа и вообще ведет себя гибко, особенно когда речь идет о средствах. Бывшему церковному старосте храма Христа-Спасителя (ныне абитуриент Безбожного института, торгующий мороженым и занимающийся подпольным строительным бизнесом) он обещает даже восстановить храм. «Мы восстанавливаем на Урале все, что может переродить человека». Перерождение, объявляет Черпанов, дело добровольное. Но цель объясняется только бригадирам. Остальных же трудно будет «удержать в добром повиновении, если им все добровольно. Ну, дайте им кое-какую добровольность, мочиться там сколько они хотят в день, судачить».
В разговоре Черпанова с бывшим церковным старостой идея перерождения раскрывается как достижение вечной молодости. Это близко обоим. Как достижение бессмертия посредством преодоления пола («выхолостят их или как?») понимал ницшеанскую идею нового человека и В. Соловьев. Его идеи, как и любимое им слово «перерождение», ясно звучат в романе. Пародией на «пять путей любви» Соловьева являются рассуждения Андрейшина о «пяти способах любви» и ответная, столь же интеллектуальная типология Сусанны на тему «способов отказать в любви». «Я рад, Кузьма Георгия, что вы так сразу понимаете мои идеи, в вашем миропонимании есть какая-то унаследованность», —хвалит церковного старосту Черпанов, у которого унаследованность тоже есть: отец его был поклонником К. Леонтьева и одновременно «заглядывал» в Маркса.
А психоаналитик Андрейшин — безотцовщина... В рассказе Егора Егорыча со всеми доступными счетоводу хозяйственными подробностями изображены дела в «больнице им. Э. Крепелина, что в полутора часах езды из Москвы». Мы узнаем и то, что директор клиники — «выдающийся специалист клинико-нозологической психиатрии проф. Ч.» (возможно, Чиж) — вместе с частью врачей выступал за теорию «нозологических единиц», то есть «за возможность подведения болезней человека, его психики под твердые и неколебимые разновидности»... Другая часть, а к ним принадлежал и д-р Андрейшин, отстаивала борьбу за «детальное углубление в психику» и практиковала «увеличенную психотерапию». Егор Егорыч продолжал: «Пока шли эти споры... положение больных ухудшалось, постельный режим не помогал, зрение ослабевало, тоска увеличивалась... Все мы ожидали крупного медицинского скандала». Иванов с полным знанием дела воспроизводит здесь содержание дискуссии, которая велась московскими психиатрами в 10-х и 20-х годах. После смерти основателя русской психиатрии С.С. Корсакова в их среде возник раскол в зависимости от отношения к немецкой психиатрической школе Э. Крепелина. Одна группа, во главе с П.Б. Ганнушкиным, «пошла путем Крепелина; другие, во главе с Сербским, явились пионерами в проведении в России идей Фрейда, Юнга и Блейлера», — писал в 1928 году один из участников событий, Л.М. Розенштейн.
Двадцатишестилетний Матвей Андрейшин, «возглавлявший течение увеличенной психотерапии», был в больнице «ординатором палаты полуспокойных». Сын сельского учителя, он принял краткое, но героическое участие в гражданской войне, отбив под Казанью, в основном с помощью красноречия, у белочехов пароход «X. Колумб». Поплавав на пароходе, сменившем несколько названий — от «И. Канта» через «Ницше» до «Ф. Лассаля», — Андрейшин поступил в университет.
К сожалению, мы не знаем, в какой; во всяком случае, в Казанском университете как раз в те годы учился сверстник Андрейшина А.Р. Лурия, рассказывавший об этом периоде своей жизни так: «Я помню годы — 1918, 1919, 1920, когда я, совсем молодой парень, стал заниматься чем угодно. Меня интересовали общественные науки, и я живо интересовался вопросами развития социальных учений и утопического социализма». Лурия только поступил на юридический факультет Казанского университета, как его переименовали в факультет общественных наук, и бывший профессор церковного права читал в нем социологию. «У меня, человека абсолютно средних способностей, возник ряд проектов, как всегда у молодых людей, проектов невыполнимых, но имеющих какое-то мотивационное значение». Лурия организовал в Казани кружок психоанализа, вступил в переписку с самим Фрейдом, добился признания своего кружка Международной психоаналитической ассоциацией и стал ученым секретарем Русского психоаналитического общества, а потом, после ряда зигзагов карьеры, всемирно известным психологом.
Кончив университет, Андрейшин стал поклонником рациональной психотерапии П. Дюбуа, а потом — психоанализа Фрейда и, особенно, А. Адлера. Он постоянно использует такие специфические адлеровские термины, как влечение к власти и бегство в болезнь. Этот путь — от Дюбуа к Фрейду, от него к Адлеру и разным вариантам фрейдо-марксизма — вполне типичен для московских психоаналитиков. Отказ от наивной «терапии убеждения», увлечение Фрейдом и отчетливо возрастающее тяготение к Адлеру прослеживаются, например, в их журнале «Психотерапия», выходившем с 1910 по 1914 год. За этим, вероятно, стояли и личные отношения. Журнал регулярно печатал отчеты жены Адлера Раисы Тимофеевны, русской социалистки, с заседаний адлеровской группы, отколовшейся в
Егор Егорыч обратился к д-ру Андрейшину с просьбой помочь ему бросить курить. Его рассказ о проведенном с ним психоанализе по-своему замечателен. Андрейшин «впивался часов на шесть в вашу субъективную душевную установку, освещал ее с такой бесцеремонностью, что у вас два дня болели зубы»; он твердо верил: «таким образом вы воспитаетесь до того, к чему столь упорно зовет вас современность: давать показания себе и другим во всех своих чувствах искренно»; он призывал к тому, чтобы «все так называемое «бессознательное» стало сознательным»... Егор Егорыча он заставил «вспомнить, что еще в двухлетнем возрасте я был склонен, если не к убийствам, то к насилию над своей няней» (между прочим, этот мотив есть во фрейдовском очерке «Из истории одного детского невроза», написанном о русском пациенте Фрейда Сергее Ланкееве). 17 сеансов анализа у д-ра Андрейшина привели счетовода в довольно тяжелое состояние: «Моя жизнь представилась мне сплошным изуверством... я дико напугался и у меня вдруг обнаружились явные признаки отравления». Прекращая лечение, Егор Егорыч просил ввергнуть мне хотя бы часть моего душевного мира».
Как и Черпанов, Андрейшин верит в возможность изменения человеческой природы: «Новый класс, идущий на смену, будет беспощадно искренним». Он ясно и солидно определяет свое место в новом мире: «не исключена возможность, что врачи приобретут большое влияние в бесклассовом обществе, кроме того, врачебная наука приобретет то единство, которого ей сейчас не хватает». Он ведет перед удивленными согражданами длинные красноречивые речи, призывая их внимательнее относиться к своим родителям и хотя бы раз в году — по строго определенным дням — вспоминать их: «Нам, которые очень сознательно пересматривают опыт поколений, можно и следует задуматься над участью отцов». В ответ колоритная сестра героини — фронтовая проститутка гражданской войны, автор интимных мемуаров под названием «Четыреста поражений» — надевает на голову Андрейшину ведро с помоями. «Ясная улыбка доктора скрылась в ведре». «Психоанализ психоанализом, но я испытывал такое состояние, будто и меня облили помоями», — сочувственно реагирует Егор Егорыч.
По словам счетовода, дававшего, как мы знаем, своим знакомым весьма неожиданные стилевые характеристики, Андрейшину был свойствен «московский классицизм». Впрочем, с Черпановым («барокко») они сблизились сразу: «Мои интересы близки вашим, Черпанов», — заявляет Андрейшин. В «похожем на яйцо» доме у руин храма Христа-Спасителя они вместе устанавливают общность жен и имущества и начинают сносить перегородки между комнатами, преобразуя коммунальное жилье в настоящую коммуну. Черпанов приглашает Андрейшина с собой на Урал, где они будут заведовать «психической частью» комбината, занимаясь «психической переделкой людей» по четырехлетнему плану. И Андрейшин соглашается.
Действительно, если оставить в стороне самые фантастические проекты вроде евгеники или театротерапии, то единственным путем к изменению человеческой природы оказывается психология. «Психология есть путь ко всем основным проблемам», — провозглашал Ницше, часто называвший себя психологом. Русская традиция издавна была склонна утверждать необычные притязания любой науки и опасаться их. Еще Пушкин вложил убийственную насмешку: «Я психолог О, вот наука...» в монолог не чей-нибудь, а Мефистофеля. Достоевский писал: «Меня зовут психологом: неправда; я лишь реалист», а его герой Ставрогин прямо говорил: «не люблю шпионов и психологов» (позже это же — «психолог как шпион» — повторял за Ставрогиным Бахтин). Пастернак в «Детстве Люверс» говорит о психологии как о самом ярком, самом развлекающем из всех человеческих предрассудков. Знакомый с психоанализом К. Юнга Вячеслав Иванов видел в пушкинской фразе предсказание «новейших заслуг» психологии, этой «двусмысленной и опасной дисциплины», перед Мефистофелем, ее «дальновидным ценителем». По Василию Розанову, русским свойственна не психология, а психологичность: «Мало солнышка — вот все объяснение русской истории. Да долгие ноченьки. Вот объяснение русской психологичности». Виктор Шкловский почувствует в стиле Всеволода Иванова «старую уже борьбу русских писателей с одолевающей их психологичностью».
«Сумасшествие — это только чужой язык, который мы не понимаем», — говорит Иванов от лица Егора Егорыча. Такое отношение к безумию как к близкой, вот-вот возможной реальности тоже традиционно для русской литературы. «Не дай мне Бог сойти с ума», — писал Пушкин и проигрывал то, чего боялся, на многих своих героях. По крайней мере три великих русских романа — «Идиот» Достоевского, «Мелкий бес» Сологуба и «Мастер и Маргарита» Булгакова — показывают людей, сходящих с ума. Наибольший расцвет этого своеобразного интереса мы застаем в 20-е годы, когда Осип Мандельштам писал в критической статье: «С тех пор, как язва психологического эксперимента проникла в литературное сознание, прозаик стал оператором, проза — клинической катастрофой»; и, не догадываясь еще о значении своей метафоры, определял страсть новой литературы к психологии как «роман каторжника с тачкой» .
В романах Мариэтты Шагинян «Своя судьба» (написанном в 1916-м, а вышедшем в 1923-м), Андрея Платонова «Счастливая Москва» (написанном в середине 30-х, а вышедшем в 1991-м) действие происходит в психиатрической (у Платонова — в нейрохирургической) клинике. Один из героев И. Ильфа и Е. Петрова предпочитал сумасшедший дом «сверхбедламу» нового общества: «Нет, с большевиками я жить не могу. Уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими. Эти по крайней мере не строят социализма». Но Шагинян, Платонова и Иванова (как и, в более широком смысле, Евреинова) больше интересует не то, что происходит в душе больного, а то, что происходит в душе врача. Безумие здесь не залог свободы, а испытательная площадка для оценки новой науки в ее влиянии на нового человека. Мандельштамовский «психологический Эксперимент» становится метафорой для глобального преобразования человеческой природы.
Так ли уж уникален ивановский аналитик, все пытающийся лечить тех, кто считает сумасшедшим его самого? Не с этого ли началась в России новая история и новая литература?
Андрейшин — это Чаадаев и Чацкий эпохи побеждающего тоталитаризма. Он более жалок и смешон, но лишь настолько, насколько более отвратительна реальность, в которой он живёт; он более беспомощен лишь потому, что за прошедшее столетие идеалы Просвещения еще больше оторвались от русской жизни. Витающий в возвышенных идеях и постоянно попадающий впросак, начинающий драки, из которых неизменно выходит битым, и влюбленный в потасканную красавицу, которая готова дать всем, кроме него, он самый неприспособленный к жизни из обитателей «района невропсихологической вредности». Он и зашел сюда навестить свою даму, уезжая в Берлин, на Съезд по криминальной психологии, куда он ехал в качестве второго секретаря советской делегации. И он остается, чтобы, движимый своей нелепой любовью и абсурдным пониманием людей, пройти ради своей дамы через самые жестокие фольклорные испытания: ходит на ходулях; залезает в печь; ест овес, как лошадь; изображает ракету, поджигая под собой керосин; дает тушить о себя папиросы; лежит в сундуке, на крышке которого предмет его любви отдается Черпанову... «То доктор, который проходил по больнице в белоснежном халате, Властно раздавая приказания; всесильный врачеватель, он лежал предо мной словно мусор, словно гнилая щепа, в которой недоставало еще червей», — рассказывает Егор Егорыч.
Андрейшин интеллигентен. Не он представляет здесь власть. Бестолковый, многословный и толстокожий, он не похож на стереотипного психиатра, такого, как Ферстер у Шагинян, Сперанский у Булгакова и десятки психоаналитиков западной литературы и кино. Андрейшин комично агрессивен и часто лжет, но каждый раз на вопрос, который неизменно задают ему в полной тишине после его абсурдных речей: «Вы это официально?» — он честно отвечает: «Нет». И его бьют.
От лица власти герои «У» готовы молча принять любое. Она. вольна отобрать имущество и кастрировать, отправить на Урал и переродить. Они, конечно, будут сопротивляться, саботировать и прятать то, что у них хотят отобрать или отрезать. Но они не удивятся ничему. И все же это обычные люди, их природа все та же, человеческая, и потому от частного лица, за которым нет винтовок, они ничего подобного не потерпят, Поэтому так нелеп Андрейшин, пытающийся вести интеллектуальную пропаганду от своего собственного имени.
И потому так эффективен самозванец Черпанов. Он объявляет себя представителем власти и демонстрирует пакет за девятью печатями, который, ему в определенный момент, набрав требуемые десятка тысяч человеческих единиц, надлежит вскрыть, и там-то и есть технические инструкции по перерождению человека. Это Черпанов будет на уральском комбинате заведовать «психической частью», руководя «психической переделкой людей». Андрейшин соглашается ехать с ним в качестве, так сказать, эксперта; но очевидно; что его ждет судьба материала. Вся власть в мире «У» полностью, тотально оккупирована политическими самозванцами. Даже на долю психиатров не осталось их привычных властных функций, перед которыми склонился чувствительный к власти Булгаков и которыми так страшно злоупотребят позднее советские врачи (и которые с ненавистью описал на другом, западном материале М. Фуко).
Между тем психоаналитики 20-х годов рассчитывали на политическую власть и боролись за нее доступными им средствами; и их попытки выглядят сегодня, к сожалению, не менее смешно, чем затеи доктора Андрейшина. В мае-июне 1922 года в Москве образуется Русское Психоаналитическое общество; в бумагах Главнауки Наркомпроса сохранились его учредительные документы. Психоанализ, сказано в них, «по существу своему является одним из методов изучения и воспитания человека в его специальной среде, помогает бороться с примитивными асоциальными стремлениями недоразвитой в этом смысле личности и представляет громадный интерес как в области чистой науки, так и в прикладных». За этим следует длинный список «прикладных знаний», в котором психиатрия занимает не последнее место. Президентом Общества стал Иван Ермаков. Реальной движущей силой были Отто Шмидт и несколько высших чиновников Наркомпроса.
Говорит Андрейшин: «Я предполагал, что возможно организовать институт любви, где бы любовь преподавали практически, где человек, сколько бы то ни было нуждающийся в любви, проходил краткие курсы... Боюсь, что в институт попадут педанты, болтуны, у которых не только выболело, но и никогда не болело».
В особняке Рябушинского на Малой Никитской, который потом занял Горький, были открыты Государственный психоаналитический институт и Психоаналитический детский дом-лаборатория. Ученый секретарь института Александр Лурия, которому был 21 год, получил, по его словам, «великолепный кабинет, оклеенный шелковыми обоями, и страшно естественно заседал в этом кабинете, устраивая раз в две недели, кажется, заседания психоаналитического общества». В уставе Детского дома-лаборатории психоанализ характеризуется как «могущественный метод освобождения ущербного человека от его социальной ограниченности». Контингент воспитанников описан в уставе так: «Дети: большинство их дети партийных работников, отдающих все свое время ответственной партийной работе и не могущих воспитывать детей». В этом же смысле высказывался и Лурия: по его воспоминаниям, в «Психоаналитическом детском саду» воспитывались дети высокопоставленных персов, в частности сын Шмидтов Алик и сын Сталина Василий.
В течение первой половины 20-х годов московский психоанализ поддерживался с самой вершины власти. «Что сказать о психоаналитической теории Фрейда? Примирима ли она с материализмом, как думает, например, т. Радек (и я вместе с ним)?» — писал Троцкий в «Литературе и революции». Троцкий предлагал Павлову заняться теорией Фрейда как частным случаем его физиологии. И действительно, как писали в 1925 году энтузиасты психоанализа Л.С. Выготский и А.Р. Лурия: «У нас в России фрейдизм пользуется исключительным вниманием не только в научных кругах; но и у широкого читателя... На наших глазах в России начинает складываться новое и оригинальное течение в психоанализе, которое пытается осуществить синтез фрейдизма и марксизма при помощи учения об условных рефлексах».
Психоаналитические учреждения в Москве сопровождали, говоря словами Андрейшина, «вечные склоки, от которых я предостерегаю как будущее советское правительство, так и высшие планирующие органы, в ведении которых будет находиться институт». Говорили, например, что над детьми там проводятся сексуальные эксперименты, что у них формируется онанизм и т. д. За три года институт посетили пять комиссий. Но каждый раз могущественная рука защищала его от закрытия.
С ослаблением позиций Троцкого развернулась идеологическая дискуссия, в которой Троцкого обвинили во фрейдизме, а психоаналитиков — в троцкизме. «Конечно, смешно, Егор Егорыч, что мы с вами, глубоко штатские люди, думаем разрушить военного министра», — говорит Андрейшин, неожиданно присваивающий этот высокий чин одному из своих конкурентов в борьбе за Сусанну.
Андрейшин показывает нам человеческую нелепость тех, кто, руководствуясь жаждой власти или стремлением выжить, отдавал свои знания и опыт на службу безумным проектам самозванцев. В этом и разочарованная насмешка над советской интеллигенцией вообще, эмоционально сходная с насмешкой И. Ильфа и Е. Петрова, но куда более глубокая и более специфическое сопротивление психоанализу, которое мог испытывать автор, возможно, бывший пациентом кого-то из аналитиков (как были таковыми Сергей Эйзенштейн или Михаил Зощенко), а возможно, только примерявший на себя эту роль.
Но магический кристалл, через который Иванов смотрел на разрушение Москвы, как «Нерон, по преданию, смотрел на пожар Рима», остался пропитан психоанализом. Очевидно, что его идеи интересуют Иванова не только в рамках безумного черпановского проекта, но и сами по себе. Много раз герои романа без ссылок цитируют Фрейда и Адлера; важнее моменты, когда по осознанной воле автора они говорят и действуют таким образом, что напрямую иллюстрируют психоаналитические механизмы. Андрейшин, к примеру, рассказывает явно вымышленную историю о своем героизме на пароходе «Колумб»; а через несколько страниц мы узнаем, что он почему-то ненавидит Колумба и считает его лжецом. В описании его ревнивых подозрений очевидно знание фрейдовских описаний проекции и паранойи. Богаче такими случаями начало романа; к концу аналитическая струя в нем сливается с карнавальными мотивами, которые навеяны скорее Фрезером, чем Фрейдом. Таков сон Егора Егорыча о петухе: петух несется по Москве; его преследует вся компания; «гуманисты», — насмешничает Савелий; наконец петуха кастрирует Андрейшин; «а не глава ли он какой-нибудь мистической секты?» — во сне догадывается Егор Егорыч; и вот петуха окружают, почтительно склоняются перед ним, и его гребень превращается в треуголку Наполеона.
В 1925 году были закрыты Институт и Детский дом-лаборатория, к концу 20-х прекращаются заседания Психоаналитического общества. Но роль психоанализа в большевистском проекте переделки человека на этом не закончилась. В повестке дня новые «гулливерские», как говорил Бухарин, науки — педология и психотехника. К 1929 году, отчитывался лидер педологии А.Б. Залкинд, в стране вырос новый массовый человек. Революционная эпоха создала его в кустарном порядке, но побеждает он изумительно. Плохо, однако, что психоневрологические науки не оказывают никакого содействия новым массам. Необходимо создать массовую психоневрологическую литературу, массовую консультацию, массовый инструктаж А в психоанализе Залкинду пришлось покаяться. «Я вкладывал во фрейдизм свое особенное, понимание, которое на самом деле было полным извращением фрейдизма. Однако я продолжал называть свои взгляды фрейдизмом, и это соблазняло „малых сих“». Но теперь порядок восстановлен. «Укрепление диктатуры пролетариата вбивает — и навсегда — осиновый кол в могилу советского фрейдизма». Педологи были уже почти в каждой московской школе. В 1932 году только через систему психотехнических консультаций Наркомтруда было запланировано провести около 3 млн. человек.
Вот о чем догадывался, слушая Черпанова, Егор Егорыч: «Здесь производится единственное в своем роде психологическое испытание, более реальное и более ощутимое, чем все затеи доктора Андрейшина».
Несмотря на свою сложность и видимую небрежность, роман «У» читается как чрезвычайно интересный документ своего времени. Он раскрывает эпоху со стороны неожиданной для историка и вовсе неизвестной литературоведу. В курсах русской литературы забытый роман Иванова будут рассматривать наравне с прозой Булгакова, Платонова, Зощенко, Пастернака.
Под конец романа Черпанова убивают, а дядю Савелия, Сусанну и остальных арестовывают. На свободе только Андрейшин и Егор Егорыч. Андрейшин собирается делать психоаналитический доклад о том, о чем, собственно, и написан роман. Он продолжает любить и надеяться на переделку человека: «Ее заберут в колонию, она узнает о моем докладе и увидит мою волю и будет перевоспитана. Я женюсь на ней», — «Как можно любить такое отвратительное явление?» — удивляются его пациенты .
А Андрейшин с Егор Егорычем «шли вечерней Москвой. Она была пленительна».
Л-ра: Звезда. – 1993. – № 8. – С. 192-200.
Произведения
Критика