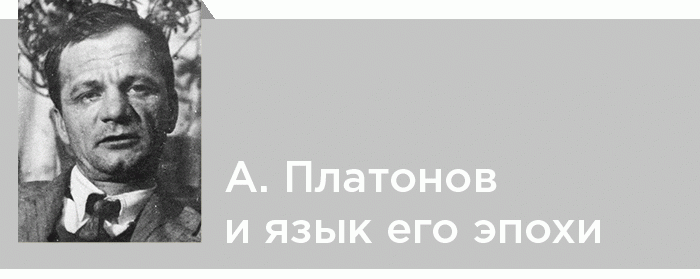О мотиве любви в творчестве Андрея Платонова

Баршт К.А.
На эту тему написано немало, однако до сей поры важнейшие вопросы все еще выглядят нерешенными. Очевидно, что концепция любви в произведениях Платонова не сводится исключительно к сексуальному влечению; даже со ссылками на разнообразие вариантов эротического чувства любовь у Платонова отличается от «страстного влечения полов друг к другу, стихийного, восторженного». Ясно, что «Платонов мыслит проблемы любви и пола не плоско-эмпирически, а по существу в метафизической перспективе». С другой стороны, платоновские тексты становятся полигоном для обкатки мифопоэтических и постструктуральных сексологических гипотез, где писатель оказывается заложником литературоведческой моды начала XXI века.
В связи с этим в литературе о писателе можно обнаружить исследовательские модели следующих основных типов. Во-первых, это фрейдистско-юнгианский подход, при котором в творчестве Платонова находят следы «родовой травмы», отыскивают проявления подавленных комплексов, закрытых от прямого исследовательского внимания «архетипов». Выясняется принципиальная «бесполость» героев Платонова, которая связана с их эмбриональным состоянием, т. е. состоянием недо- или нерожденности: «Герои Платонова — дети; они бесполы, плачут, гениально косноязычны, боятся своих снов, доверчивы, тоскуют по матерям, без конца спят». Другие исследования трактуют платоновского героя в определенном гуманистическом ключе, находя в творчестве писателя мотивации «любви-жалости», «любви-страсти» и др. Третий вариант развития исследовательской логики — отыскивание в произведениях Платонова сексуального следа, предполагаемого в качестве тайного, важнейшего и ключевого, способного разрешить и все остальные вопросы в рамках детективно-криминалистического метода, предлагаемого практикой деконструктивизма. Предметом описания становятся здесь прямые телесные контакты героев друг с другом (устойчивый мотив в произведениях Платонова), причем, поскольку эротика у Платонова либо отсутствует, либо не вписывается в привычную парадигму. В исследованиях этого ряда проводится не только анализ странных телесных контактов платоновских героев, редко сопровождающихся нормальной половой жизнью, но и выявление сексуальной символики, включая и поиски на уровне семантики и этимологии, например обнаружение значения «случка» в глаголе «случиться».
Правда, традиционные литературоведческие методы решения проблемы сексуального и эротического натыкаются в художественном мире Платонова на нечто такое, что никак не помещается в привычные схемы. Многократно отмеченное в литературе о Платонове отрицательное отношение писателя к сексуальной сфере плохо укладывается в рамки психоаналитической парадигмы. Специфическая сексуально-эротическая модель, описанная в текстах писателя, приводит психоаналитика к постановке более или менее тяжелого диагноза, обращая писателя и его героев в пациентов и уводя исследователя далеко от целей и задач литературоведения. Эти две крайности — сведение любви к половому чувству или обращение ее в мифологему, — на наш взгляд, одинаково далеки от истинного смысла любви, описанной А. Платоновым.
Многими ощущается, что это один из важнейших вопросов, коренным образом связанный с его поэтикой, но до сих пор не выяснено главное — в чем состоит принцип решения вопроса о половом устройстве человека в связи с его космической функцией, центральной идеологической доминантой историософии Платонова. По-видимому, решение этого вопроса возможно лишь в границах общей проблемы своеобразия художественного мира писателя. Говорить о проблеме пола и телесности в творчестве Платонова — значит говорить о свойствах его поэтической системы. Другими словами, было бы неточно привязывать сексуальность платоновских героев к каким-то определенным культурным нормам, тем самым превращая героя писателя то в «тайного эротомана», то в импотента, то в сексуального психопата, как это происходит в названных выше первых двух случаях. Ответ на вопрос содержится не в особенностях той или иной культурной парадигмы, лежащей за пределами платоновского текста, но в созданных писателем художественных системах, закрепленных в текстах его произведений. Не признавая этого, мы навязываем писателю чуждые ему коды, искажая семантическое пространство созданного им художественного мира. Для того чтобы описать один из элементов структуры платоновского текста, нужно обратиться к семантической позиции этого элемента в системе, взятой в целом. По-видимому, это путь, который может дать позитивные результаты.
Одна из самых точных постановок вопроса о платоновской телесности и сексуальности на сегодняшний день принадлежит М. Дмитровской. В связи с романом «Счастливая Москва» исследовательница говорит о том, что телесность у Платонова «отмечена печатью безысходности», однако эта безысходность не мешает «светоносности телесной чистоты Москвы». В то же время сексуальная «любовь не решает проблему человеческого существования, поскольку неизбежно оказывается связанной с телесностью». Продолжая эту мысль, М. Дмитровская подчеркивает, что «Платонов противопоставляет любовь как тягу к соединению с Вселенной... и любовь физическую, половую». По утверждению С. Семеновой, в основании концепции Платонова лежит не «половая любовь-страсть», но «трепетная любовь ко всему живому», «траве, зверю». С этим утверждением нельзя не согласиться, с учетом того, что для Платонова «живым» было абсолютно все, включая минералы. Согласно его основной концепции, жизнь имманентно заключена в самом «веществе существования», отнюдь не только в его биологических формах. «Отсюда следуют важные выводы. Любовь, которая исключает из списка предметов этой любви хотя бы что-то, — несовершенна и выражает несовершенство homo sapiens. Напротив, любовь ко всему сущему без разбора — путь к преображению и адекватно передает тип мироотношения, требуемый от человека будущего («Второго Ивана»).
На наш взгляд, проблема пола и вопрос о любви — два совершенно разных вопроса в платоновской поэтико-философской системе. Смешивая их, мы ставим проблему в положение, исключающее возможность ее разрешения. Отсюда надо начать путь, который может нас привести к верному решению вопроса. При условии, конечно, что мы не будем забывать о специфической платоновской антропологии, в рамках которой человек есть изоморфная всему остальному часть «вещества существования», положение которой на Земле связано с ее принципиальной универсальностью и пластичностью (в том числе и при жизни, а не только после прекращения ее биологического существования), а также с космической функцией, описываемой словосочетанием «резонатор-трансформатор» и заключающейся в выработке и накоплении ею энергии с целью преодоления нарастающей энтропии.
Становится ясно, что отношение к любви и «половому вопросу» у Платонова не является отдельным и независимым от всей остальной его этики и онтологии, оно вытекает из самых основ его вещественно-энергетической концепции: инспирируемое животными инстинктами половое размножение отвлекает человечество от его космической функции, от решения проблемы смерти, уводит в сторону от вечного бытия — к «дурной бесконечности» ни к чему не ведущих рождений-смертей, что особенно важно, не совпадая с любовью, но фактически прямо противостоя ей. Бессмысленность физиологических половых норм существования homo sapiens, описанная в «Чевенгуре» в наблюдениях и размышлениях Прошки, приводит повествователя к выводу о принципиальном сходстве растительного бытия человека с прозябанием травы на дне лощины: «Прохор Абрамович жил на свете, как живут травы на дне лощины: на них сверху весной рушатся талые воды, летом — ливни, в ветер — песок и пыль, зимой их тяжело и душно захлобучивает снег; всегда и ежеминутно они живут под ударами и навалом тяжестей, поэтому травы в лощинах растут горбатыми, готовыми склониться и пропустить через себя беду».
Судорожное и патологическое многоплодие, которое видит Саша Дванов в семье Прохора Абрамовича, оказывается выражением той глубокой пропасти, в которую пало человечество, погибающее от невозможности справиться с увеличением потребности в энергии и, одновременно, с резким падением энергетики наличного «вещества жизни», снижающегося до уровня «инфраполя». Сознательный или неосознанный отход человека от дела выработки необходимой «веществу» энергии, разумеется, сопровождается увеличением энергоемкости человечества, причем рождаются все новые и новые дети, каждый из которых, вырастая, имеет тот же набор проблем, что и его родители, но уже на более низком уровне энергетической полноты Вселенной. Семья, где был принят Саша Дванов, — прямое выражение энергетической катастрофы, ждущей человечество, разделенное на два пола. Комментарий к этой ситуации дает другой герой «Чевенгура», Поганкин, в имени которого заключено как бы оправдание человеческого бытия в его нынешнем положении: «Оттого и народ-то лишний плодится, что скучно. Ништ, стал бы кажный женщину мучить, ежели б другое занятье было?». Этот мотив становится основным сюжетообразующим в рассказе «Семен». Бесконечная череда родов в семье Семена, порождающая мертвых или скоро умирающих младенцев и заканчивающаяся смертью самой многодетной матери, — символ бытийного тупика, в котором находится половой человек Нового времени.
С другой стороны, настаивая на своей половой природе, человек отступает от космической функции, делает шаг к животному — отсюда сформулированное писателем «безумие, бездушие такой любви» (Записная книжка № 4, с. 148). Эротическое, замкнутое в сексуальное, вместо того чтобы соединять человека и Вселенную, заключает его в тюрьму своей чужой телесности, ставя непреодолимую стену там, где человек ищет выхода из жесткой детерминанты. Половая история человечества замыкает человека в гибельный круг рождения-смерти — в своих героях-философах Платонов пытается разомкнуть этот круг в некий путь к вечности. Эта мысль звучит в диалоге героев «Счастливой Москвы»: «Мы рождаемся и умираем на груди у женщины, — он слегка улыбнулся, — так полагается по сюжету нашей судьбы, по всему кругу счастья... — А вы живите по прямой линии, без сюжета и круга, — посоветовала Москва; она чуть тронула свои груди указательным пальцем. — Посмотрите, на мне вам трудно будет умереть, я не мягкая...». Сексуальное оказывается извращением искомого платоновским героем «обручения с Землей» и заменой его ни к чему не ведущим «растительным» обручением с другим человеком. Это, по мнению Платонова, оскорбляет космическое достоинство человека, понятого как важнейшая часть «вещества», его мыслящая часть.
Таким образом, половая природа человека оказывается его врагом, так как она уводит его от спасения (или перспективы спасения), заставляет его отвлекаться от космической функции — мысли и дела по спасению себя и мира, — формулирует «ложную цель» существования, стимулирует энергетическое истощение пространства, сжимает время и в конечном итоге ведет в могилу. Этот мотив — один из самых устойчивых на протяжении всего творческого пути писателя.
В своих ранних публицистических текстах Платонов был склонен связывать наличие пола с исторической исчерпанностью «буржуазии», а силу «пролетариата» — с отказом от растительного существования. «Еще до своего восстания пролетариат уже знал свою главную силу, свою душу — сознание» — это противопоставлено у него «старой душе буржуазии — половому чувству, страсти жить во имя себя, ради ложных целей» («Борьба мозгов»). Возникает гипотеза, что в истории человечества действуют два вектора: 1) развитие мозга и сознания (у «пролетариата») и 2) развитие телесности (у «буржуазии»), где происходит «сжатие мозга и развитие челюстей и половых частей». В таком же ключе звучит эта тема в романе «Чевенгур», написанном много позже: «С интересом можно говорить о сотворении мира и о незнакомых изделиях, но говорить о женщине, как и говорить о мужчинах, — непонятно и скучно». Развивая эту гипотезу, повествователь в «Чевенгуре» определяет две основные формы жизни: 1) вечное космическое существование, с плавными переходами в иные состояния и полной отработкой в пределах своего «мастерства» всего положенного тебе рождением жизненного урока («серьезное существование») и 2) возведенное в жизненный принцип удовлетворение своих физиологических потребностей, наращивание качества комфорта и удовольствий («игра в свое тело»). Половая природа человека для Захара Павловича — это «затея и игра в свое тело, а не серьезное внешнее существование. Захар Павлович сроду не уважал таких разговоров» (там же). Законченную формулировку эта мысль имеет в «Антисексусе» Платонова и в публицистических текстах 1920-1921 годов; отрицательное отношение к полу объясняется тем, что в половом акте человек замыкается на себя, вместо того чтобы эротически соединиться с Космосом.
Анализируя варианты эротического у Платонова, С. Семенова выделяет в его творчестве три вида любви: 1) любовь высокую, соединяющую два пола в высшее совершенное андрогиническое существо, близкое по смыслу к гипотезам Бердяева и Соловьева; 2) профаническую любовь, смысл которой — в моральной и физической деградации героев, «без (...) порывов к чему-то высшему», в связи с чем упоминается Кондаев из «Чевенгура»; 3) «преобразовательный» эрос героев, «направленный к преобразованию природы вещей, которой они охвачены». Однако у Платонова любые половые отношения, имеющие «высокое» или «низкое» значение, унижают человека как мыслящее «вещество существования», поэтому пункты 2 и 3 оказываются практически равны по значению, имея в произведениях Платонова отрицательную коннотацию. Поэтому то, что Сарториус готов расплакаться, если бы Москва («Счастливая Москва») присела помочиться, объясняется не его «любовной растроганностью», как считает С. Семенова, но унижающим героиню свидетельством ее физического несовершенства, обращающего человека во вбирающее-выделяющее существо, сводящего его к червю, к «просто страшной трубке», в произведениях Платонова обозначающей энергетический низ бытия. Эта обида за Москву происходит от отношения к Москве как к «живой истине», т. е. совершенно оформленному «веществу существования». Однако истина, которая выделяет шлаки, с точки зрения платоновского героя-философа, выглядит двусмысленной и ущербной.
С развитием данной гипотезы связана известная апология антисексуальности, которую мы видим практически во всех произведениях Платонова.
Лихтенберг в «Мусорном ветре», отказавшийся от своей телесности и брака с женщиной, теоретически и практически обращается к идее спасения мира от энтропии. Половая природа встреченных им на улице людей вызывает обостренно-негативное отношение героя. Лихтенберг видит католического священника, который выступает в виде напряженного фаллоса, старух, «в которых кипевшие некогда страсти теперь текли гноем, и в чреве, в его гробовой темноте, истлевали части любви...». В том же ключе эта тема звучит и в «Чевенгуре». Случайно став свидетелем полового акта, Саша Дванов разочаровывается в самой основе биологической жизни: «В нем поднялась едкая теплота позора за взрослых, он сразу потерял любовь к ним и почувствовал свое одиночество — ему захотелось убежать и спрятаться в овраг. Так же ему было одиноко, скучно и страшно, когда он увидел склещенных собак, — он тогда два дня не ел, а всех собак разлюбил навсегда». Описание родов у Платонова выглядит не как праздник появления новой жизни, но как безысходное мучение жизни, уже существующей: «У кровати роженицы пахло говядиной и сырым молочным телком, а сама Мавра Фетисовна ничего не чуяла от слабости, ей было душно под разноцветным лоскутным одеялом — она обнажила полную ногу в морщинах старости и материнского жира; на ноге были видны желтые пятна каких-то омертвелых страданий и синие жилы с окоченевшей кровью, туго разросшиеся под кожей и готовые ее разорвать, чтобы выйти наружу; по одной жиле, похожей на дерево, можно чувствовать, как бьется где-то сердце, с напором и с усилием прогоняя кровь сквозь узкие обвалившиеся ущелья тела...». Любовь, способная спасти человечество от гибели, у Платонова находится на другом полюсе бытия, максимально удаленном от сексуального, эротического и полового.
Поэтому одно из важных свидетельств приближающейся гибели человеческого рода — падение способности любить, одна из причин которого — тотальная сексуализация людей, которые, умирая, успевают лишь дать толчок новой жизни, рождая детей и образуя тем самым новое звено в бесконечной и бессмысленной цепочке рождений-смертей. В условиях отказа человека от энергетической подпитки Мироздания любовью Солнце остается единственным источником жизни. Апокалиптическая «жара» перенапряженного Солнца, обращение человека в биологическую трубку вбирающего-выделяющего червя, сексуальное напряжение homo sapiens оказываются основными признаками тяжелого энергетического кризиса, поразившего Землю и все Мироздание. Не случайно в «Чевенгуре» появляются два персонажа, указывающих на приближающуюся гибель Вселенной с помощью актуального выражения своей половой и пищевой природы: горбун, который мочился на изнемогающее от напряжения Солнце, и Кондаев, которые видел в гибели Земли «удовольствие и надеялся на лучшее. Руки его были постоянно в желтизне и зелени — он ими губил травы на ходу и растирал их в пальцах. Он радовался голоду, который выгонит всех красивых мужиков далеко на заработки, и многие из них умрут, освободив для него женщин. Под напряженным солнцем, заставлявшим почву гореть и дымить пылью, Кондаев улыбался».
В «Счастливой Москве» описано характерное сочетание двух важнейших параметров «заочной жизни человечества», «пищевого» и «полового» символов, характеризующих смертные телесные параметры человека Нового времени: «Его отцовская фамилия была не Сарториус, а Жуйборода, а мать-крестьянка выносила его в своих внутренностях рядом с теплым пережеванным ржаным хлебом». В платоновской «книжке» записано о том, что телесная организация homo sapiens не соответствует его истинному назначению: «По сравнению с животными и растениями человек по своему поведению неприличен» (записи разных лет). Актуализация половых институтов, на чем основана европейская культура Нового времени, и всякого рода обращения к различиям полов, по мнению Платонова, мешают развитию человечества в правильном, спасительном для него и для Мироздания направлении.
Напротив, требуемая в рамках концепции «Нового Октября» смена культурной парадигмы европейской культуры создает предпосылки для строительства альтернативной культуры преображенного полового инстинкта, помогая открытию на новом уровне «сокровенной» тайны жизни взамен сегодняшнего ее главного выразителя — пола. Представитель этого будущего Шмаков в «Городе Градове» пребывает в состоянии религиозной экзальтации и потому не знает никаких отношений с людьми, кроме соборных (замененных в повести на «служебные»), не знает также и половой сферы, вполне в рамках «Антисексуса» и параллельно Альберту Лихтенбергу из «Мусорного ветра», отрицая пол как свидетельство униженного и неестественного положения человеческого существа на Земле. «Шмаков не чувствовал в женщинах никакой прелести, как настоящий мыслитель, в котором циркулирует голый долг». Напротив, животное наслаждение у Платонова — всегда суета второпях, в условиях, когда очень скоро нужно будет умереть и нужно совершить как можно больше половых актов: «Они испугались настолько, что, ожидая гибели, спешили поскорее размножиться и насладиться» («Джан»). Рождение человека оказывается связанным с намерениями, которые не являются специфически человеческими и потому определяют будущие страдания и смерть рожденного в итоге умирающего и агонизирующего тела. Смысл существования человека, народа, человечества в целом не может исчерпываться только телесно-биологическими параметрами. Эту мысль мы видим в повести «Джан». При отсутствии высшего космического человека, соучаствующего в Творении, остается только страдающее тело, более или менее приспособленное для краткого мига «счастья» «милой жизни», как переводится в повести слово «джан». В этом заключается конечная парадигма гуманистической половой любви: «В нас с тобой слабость одна... давай что-нибудь делать вдвоем, нам нечему радоваться с тобой... я все думала-передумала и вижу, что люблю тебя... — Я тоже тебя... — иначе не проживешь... у меня груди засыхают, кости внутри болят... — Я буду любить твои останки...».
В этом и в других произведениях писателя формулируется набор основных претензий к половому человеку Нового времени, смертному сексуализированному homo sapiens: 1) отказ от своего высшего предназначения и обращение в «простой страшный» организм вбирающего-выделяющего человека-трубки, 2) растрата энергии мироздания на бесконечный и ни к чему не ведущий процесс рождений-смертей, 3) разрушение этических братских связей между людьми за счет ревнивого соперничества с представителями своего пола за обладание лучшими представителями противоположного пола. Эта гипотеза, реализованная в художественном мире Платонова, явно лежит за пределами парадигмы европейской культуры и гуманистической цивилизации. Все попытки «уравнять» женщину с мужчиной, свойственные движению русских революционных демократов или современному феминистскому движению, с этой точки зрения, оказываются не решением проблемы пола, но ее обострением, ибо попытка установить тождество там, где его не предполагает сама форма «вещества», чревата искажениями, которые сводятся к грубому навязыванию мужского — женскому, и наоборот, со всеми последующими перекосами.
Не случайно все разнообразные теории «исправления человека», начиная с эпохи Просвещения и кончая современным постмодернизмом, наряду с преодолением социального неравенства между людьми всегда пытались снять и половое неравенство, чаще всего с помощью ликвидации всех различий между мужчиной и женщиной, признавая полную симметрию полов. Ведь здесь не предлагается других путей, кроме общественно-конституционного «равенства», а также путей травести или кастрации, что не выглядит выходом, проблема и здесь остается. Однако изменить параметры отношения «мужчина-женщина» можно лишь за счет изменения онтологического отношения человека к Мирозданию в целом. Если в этих условиях изменится природа человека, то, возможно, для Нового Адама в условиях преображения «вещества жизни», называемого в «Чевенгуре» «коммунизмом», уже не будет необходимо разделение на два пола. Преодоление категории пола в человеке, по мнению Чепурного («Чевенгур»), должно реально уравнять женское и мужское в рамках общего для них «вещества», приобретающего внеполовой, «сухой» и «человеческий» вид: «Но Чепурный и сам не мог понять дальше, в чем состоит вредность женщины для первоначального социализма, раз женщина будет бедной и товарищем. Он только знал вообще, что всегда бывала в прошлой жизни любовь к женщине и размножение от нее, но это было чужое и природное дело, а не людское и коммунистическое; для людской чевенгурской жизни женщина приемлема в более сухом и человеческом виде, а не в полной красоте, которая не составляет части коммунизма, потому что красота женской природы была и при капитализме, как были при нем и горы, и звезды, прочие нечеловеческие события». Поэтому протест против растительно-животной сексуализации человека у Платонова идет от специфической для его художественного кода концепции телесности, связанной не с органическим, но с онтологическим статусом и энергетически-минеральным фоном бытия человека в условиях имманентно живого и саморазвивающегося «вещества существования».
В отличие от философов Просвещения, Платонов в своей борьбе с сексуальностью вовсе не пытается «запретить» или подавить сексуальность или сделать вид, что ее вовсе нет. В его художественном мире сформулировано предположение, что имманентно человек несет необходимую Космосу бытийную функцию, и уже на этом уровне необходимо снять вопрос о поле, который свидетельствует об ущербности и неверном пути человечества как космического явления. Это становится возможно с помощью замены половинчатого эроса, разделенного по полам человеческого существа, эросом андрогинного типа, где Другим оказывается не существо противоположного пола, но все Мироздание в целом. Отсюда следует, что пресловутая «антисексуальность» Платонова — отнюдь не проявление хорошо замаскированного ханжества, как считают некоторые, или некий вариант «аскезы» его «Новой веры». При всем своем отрицательном отношении к сексу Платонов был по сути идеологом абсолютной любви — человека к человеку и ко всему миру, любви без границ, которой оказалось тесно в рамках полового акта и в других формах сексуального выражения. Что до «гендера», то, оказываясь единственным пока способом выживания смертного телесного человека, в новых условиях энергетической трансформации Вселенной этот тип онтологической установки человека безнадежно устарел. К такому выводу писатель пришел еще в 1920 году: «Пол стал устарелым недействительным орудием для укрепление богатства жизни, потребовал смены» («Культура пролетариата»). Платонов считает, что это создает предпосылки для строительства новой культуры преображенного полового инстинкта в борьбе против смерти и ее главного агента — пола.
Этот мотив приобретает черты сюжетообразующего во многих произведениях писателя. В романе «Счастливая Москва» половая любовь описана как вынужденная и бесполезная трата энергии жизни, самозванно замещающая производство и накопление жизненной энергии, необходимой для спасения «вещества». «Вид ее большого, непонятного тела, согретого под кожей скрытой кровью, заставил Сарториуса обнять Москву и еще раз молчаливо и поспешно истратить вместе с нею часть своей жизни — единственно, что можно сделать, — пусть это будет бедно и не нужно и на самом деле не решает любви, а лишь утомляет человека». Герои-девственники Платонова, готовые отдать всю свою бытийную энергию «веществу», и отнюдь не только в форме прекрасного женского тела, сталкиваясь с женственностью, решают тяжелую дилемму: дать ли волю половому чувству или потратить всю свою жизненную энергию на преображение «вещества мироздания». Как и Дванов из «Чевенгура», Вермо в «Ювенильном море» стесняется женщины «как человек, у которого сердце всегда живет под напором скопившейся любви и который, не испытав еще, быть может, женщины, уже боится исчезнуть в неизвестном направлении собственной страсти, невнимательно храня себя для высшей доли. Но втайне, стесненным сердцем, Николай Вермо мог любить людей сразу, потому что тело его было уже заранее переполнено безысходной жизнью».
Москва в «Счастливой Москве» уверена в том, что главная жизнь человека («очная жизнь») находится вне умозрительной, половой и пищевой природы его тела: «Нет, не здесь проходит вдаль большая дорога жизни — не в бедной любви, не в кишках и не в усердном разумении точных мелочей, как делает Сарториус». Любовь и сексуальные отношения — не синонимы, но антонимы в художественной системе Платонова: если первая наращивает спасительную для человечества энергию, то вторые безвозвратно губят ее, способствуя углублению энтропии. Ликвидация пола как рудимента homo sapiens заявлена в качестве одного из важных параметров той новой революции, к которой призывал Платонов в начале 1920-х годов. В эти годы писатель сформулировал мысль о том, что лишь возвышение разума и редукция животности в человеке приведут его к спасению: «Для господства сознания нужна его же культура (...) мы подошли к смене культур (...) со смертью надо спешить...» («Культура пролетариата»). Только преодолев ее, можно решить вопрос о смысле мироздания. Собственно, в решении этих двух вопросов и заключается для Платонова смысл преобразующей мир ноосферы — в его терминологии «будущего Октября», который должен преобразить мир и человеческую природу. Основа будущего преображения телесности в условиях нового Эдема («коммунизма») в том, чтобы укрепить и оправдать отношения человека и земли, их взаимопереходы («культура пролетариата, когда он останется один и прочно станет на землю» — там же). Таким образом, в Новом Адаме будет преодолен его пол как недостаток и в центре станет его сознание.
В статье 1921 года «О культуре запряженного света и познанного электричества» Платонов назвал делом недостойным для человечества по сей день быть «селекционным пунктом», где действует половой подбор — «завод половых семян, селекционный пункт, а не человечество и не та грозная, несущаяся в пространстве озаренная солнцем планета, которую мы именуем земным миром». Платонов считает необходимым изменить всю динамику человеческой истории, где действует «позвоночник» вместо головного мозга и «пузо» и «половой инстинкт» — вместо мысли. Стремление к бессмертию человек отливает в своих детей, и дурная бесконечность рождений0смертей ведет в никуда, заставляя человечество страдать от безысходности его пути. Переживание этого комплекса Платонов называет «смертельной порой», которая нуждается в преодолении одновременно с преодолением проблемы смерти. Чтобы решить этот вопрос, нужно «перестроить вселенную» (там же), преодолев мертвую косность слоев вещества, которые закрывают от нас источник мировой энергии, способный спасти мир от гибели. Если этот источник удастся обнаружить и подключить к нему человека — «человеку уже нечего будет делать, для него наступит вечное воскресенье».
Словосочетание «вечное воскресенье» — оксюморон, поскольку вечность предполагает неразворачиваемость в действии, а воскресенье должно иметь своим сюжетом движение от смерти к жизни. Это парадоксальное словосочетание имеет ключевое значение для понимания «Котлована» и «Чевенгура»: грань между жизнью и смертью исчезнет (точнее, ее никогда и не было, просто человек этот переход ощущал как катастрофический лишь по недоразумению). «Пролетарская культура» поэтому полностью выходит за пределы привычных представлений о жизни и человеческом быте, она будет располагаться «в мире электромагнитных волн», потому что именно там состоится долгожданный момент слияния энергетики отдельного человека и энергии Мироздания. Впервые эти мысли о «полной красоте» человека-андрогина, не нуждающегося в замене существом другого пола искомого «вещества существования», и в связи с этим о роли женщины в судьбе мироздания прозвучали в ранней статье Платонова «Душа мира» (1920). Здесь впервые появился знак андрогина в характерной земельно-энергетической интерпретации Платонова, играющей ключевую роль во всех художественных структурах писателя, созданных начиная с 1926 года. Пол трактуется как одна из двух сторон единого, но тем самым пока что не равного себе и недостаточного существа, человека, причем каждый раз для целей Мироздания ребенок от полового соития, в рамках этой идеи, ожидается бесполым и полноценным андрогином, который уже не нуждается в эротическом общении с какими-то специально оформленными биологическими организмами, но способен являть собой Вселенский эрос, любовь ко всему «веществу существования»: «Женщина и мужчина — два лица одного существа — человека; ребенок же является их общей вечной надеждой»; физическая близость пока что, в современном жалком состоянии раздвоенного человеческого существа, — единственный способ познания «двух душ, что одно».
Концепция любви у Платонова прямо вытекает из этой гипотезы: физическая близость — это скудная телесная молитва о возможности быть бессмертным существом, «тайный истинный труд жизни во имя надежды и возрождения» (там же). Безликость и «пустота» женщины объясняются ее вселенскостью, готовностью принять в себя недостающее ей до андрогинна «вещество», и ее эротичность в связи с этим, по Платонову, носит принципиально иной, более онтологический характер, чем у мужчины. Рожая, женщина питает человечество, очищая его новым поколением, которое, при движении человечества по пути энергетической революции, будет менять телесные характеристики вплоть до замыкания на андрогине, преображенном существе, адекватном выражении «вещества жизни» и не нуждающемся в общении-разделении: «Она сводит небо на землю, совершенствуя человека». Однако высшая форма сознания человека — это осознание непригодности нынешней Вселенной для полноценной жизни. Поэтому на горизонте человеческой истории вырисовывается образ будущего полноценного человеческого существа, который родители постоянно прозревают в своем ребенке, «образ совершенного существа (...) которого нет, но который будет, которого она уже носит в себе, зачатого совестью погибающего мира»). Впоследствии эта мысль становится важным элементом художественной структуры «Чевенгура»: соединение крайностей и противоположностей — точка, где смыкаются «вещество» и «энергия», окончание времени и пространства означает прикосновение человека к человеку и, одновременно, Апокалипсис. «Как конец миру, вставал дальний тихий горизонт, где небо касается земли, а человек человека». В «Антисексусе» Платонов подвергает художественному анализу возможность технического решения проблемы сексуальности: «Страсти человечества господствуют над временами, пространствами, климатами и экономикой. Распространение нашей фирмой изделий металлообрабатывающей промышленности для удовлетворения этих страстей есть дело космического порядка», поскольку человек осмысляется в этой парадигме как существо всемирное. «Неурегулированность половой жизни человечества, чреватость бедствиями (...) вот предмет мучительного душевного беспокойства...». Решению проблемы бесполезной траты половой энергии в условиях, когда мир гибнет от общего падения его энергетики, Платонов заочно присудил Нобелевскую премию.
Роль женщины в этой концепции Платонова уникальна: она выполняет роль, аналогичную функции печени в человеческом организме: «женщина перегоняет через свою кровь безобразие и ужас земли» («Душа мира»), очищая от них мир. С этим связана проблема «сокровенности человека»: женщина — «тайное, сокровенное» существо мира, «она есть его покаяние и жертва, его страдание и искупление» (там же), она искупает собой «безумие вселенной», в которой проснулась совесть по поводу безобразного ее устройства. Ясно отсюда, что именно женщина, а не мужчина, воплощает в себе, в своей судьбе человеческую историю: она живет ради своего будущего великого Сына, который искупит ее жизнь и страдания: «Не увидеть рай, а упасть мертвой у врат его — вот смысл женщины, а с нею и человечества» (там же). Эти размышления Платонова идут вразрез с идеями Отто Венингера («Пол и характер»), рецензией на книгу которого является данная статья. Женщины в произведениях А. Платонова (Юлия для инженера Прушевского в «Котловане», Вотман для Лихтенберга в «Мусорном ветре», Роза Люксембург для Копенкина в «Чевенгуре») оказываются умирающими богоматерями, готовыми дать жизнь совершенному существу внеполовым путем, но окружающие видят в них лишь половых существ и потому губят.
- Ну что, тебе легче стало томиться?
- Нет, так же, — ответил Сарториус.
- Тогда нам придется жениться, — согласилась Москва».
Особенность такого энергетического соития между мужчиной и женщиной заключается в слиянии вещества их тел в глубоком обмене «теплом» (так обозначается у Платонова энергия любви), при этом чувственное удовольствие исключается как противоречащее принципу диалога — андрогин не может иметь эротического ощущения ввиду того, что в равной степени обладает обоими телами, а самоудовлетворение андрогина — в его целостности. Возможность какого-либо эротического самоудовлетворения андрогина исключается потому, что отсутствует какой-либо источник наслаждения, находящийся вне его. Такого рода энергетическое слияние демонстрируют Чагатаев и Вера: «Они лишь друг друга держали руками, и каждый из них слушал сквозь сон глухое, кроткое дыхание другого». Такого рода контакт исполнен живой силы и окрашен положительно-этически; на другом полюсе — сексуальная любовь Кондаева («Чевенгур») или Атах-бабы («Такыр»), который обнимал Зарин «в тоске своей мертвой силы».
Жажда любви к ближнему выражает громадные энергетические запасы человека, который и оказывается тем самым «аккумулятором любви», о котором писал в юности Платонов. Однако разряжается он не всегда адекватно, чаще поражая током, чем освещая любовью. Потенциал любви — эрос космического — раскрывается в сцене встречи Чепурного с кузнецом: «Чепурный осторожно притронулся к нему и заплакал от волнения и стыда своей беззащитной дружбы» («Чевенгур»). Характерно то, что перед встречей с кузнецом Чепурный наблюдает любовную встречу Прокофия и Клавдии, думая о том, что ему нужна любовь, но отнюдь не эротического характера. В конце концов социальные проблемы решаются в рамках этикоэнергетической концепции Платонова за счет снятия того специфического «ограждения от других людей» (там же), которое искусственно «поддерживают» в себе люди. Эротический половой контакт заменяется космо-эротическим актом слияния двух «я» в едином порыве к Истине. «До первой чистой зари лежали на соломе в нежилом сарае Чепурный и Сотых — в умственных поисках коммунизма и его душевности» (там же). Платонов отчетливо осознал имманентную этическую ущербность сексуальности, которая разъединяет людей и заставляет их желать друг другу не радости, а горя. На другом этическом полюсе находятся герои, лишенные хищного сексуального чувства, например Зарин из «Такыра».
Описанное фрейдистами амбивалентное «влечение к смерти» (бессознательное влечение к саморазрушению и возвращению в неорганическое состояние), работающее в рамках двух тенденций, ассимиляторного и диссимиляторного типов, и «влечение к жизни» сводятся у Платонова к функциональным особенностям «мертвой природы», накладывающей на человека стесняющие его и в целом губительные для него ограничения. Человек преодолевает это влечение к жизни (к смерти) с помощью слияния с «веществом», преображая его творчеством и тем самым преображаясь сам. При этом половая природа человека преодолевается как не свойственная его космическому предназначению.
Л-ра: Русская литература. – 2003. – № 2. – С. 31-41.
Произведения
Критика