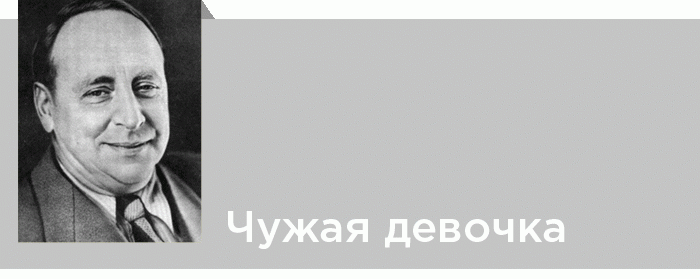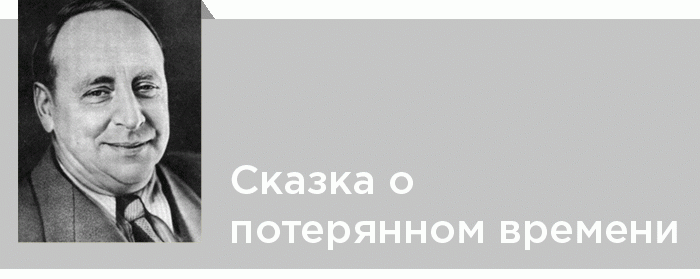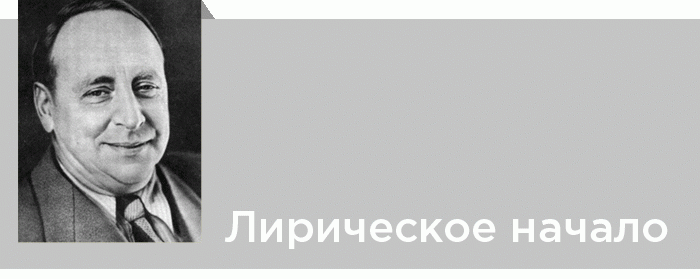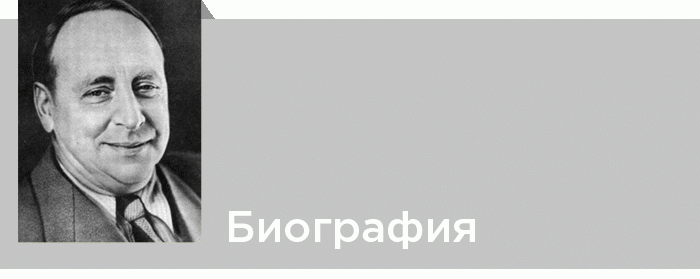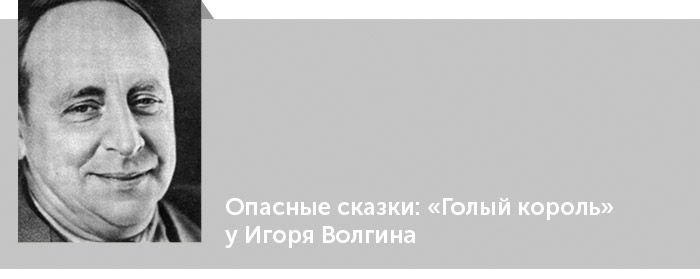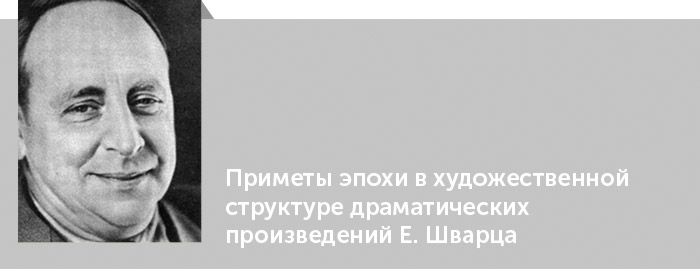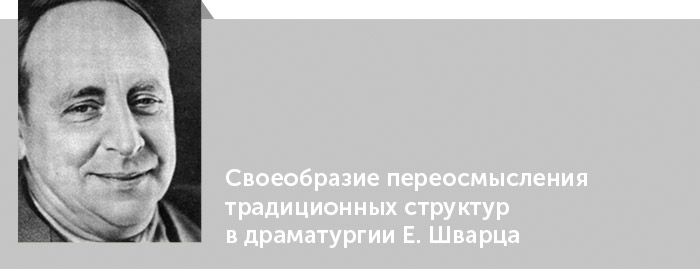«Люди так и говорят»
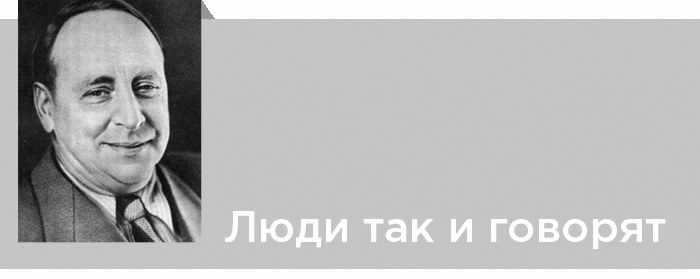
Л.В. Поликовская
Евгений Шварц не любил рассуждений о том, «как делается искусство», не верил ни в какие литературные теории. Он был лично знаком со многими из опоязовцев, лефовцев, «серапионов», но, как только его друзья начинали «пускать в ход весь тогдашний арсенал наукоподобных терминов», он по его собственному признанию, «чувствовал себя беспомощным». «Разговоры о совокупности стилистических приемов как о единственном признаке литературного произведения наводили на меня уныние и ужас и окончательно лишали веры в себя. Я никак не мог допустить, что мощно сесть за стол, выбрать себе стилистический прием, а завтра заменить его другим... Но что я мог противопоставить этому? Нутро, что ли? Непосредственность? Душевную теплоту?» (Редактор и книга: Сб., вып.
В начале 20-х годов молодой «подступающий к литературе на цыпочках» Евгений Шварц еще несколько стыдится своей «неучености», хотя и к «ученым» теоретикам относится с почтительной иронией.
Шварц зрелый прекрасно отдает себе отчет в том, что без «непосредственности», «душевной теплоты» и правды, чистой правды, полной правды — создать подлинно художественное произведение невозможно... Поэтому он и стал писать сказки — «Правдоподобием не связан, а правды больше» (Из дневника 40-х годов, — В кн.: Встречи с прошлым: Сб., вып. 1. 1970, с. 231).
Он создал сказку, которой практически не знала вся предшествующая литература: сказка Евгения Шварца не проще и не наивнее своего времени, не пугает страхами, которыми в XX веке и младенца-то не испугаешь, не проходит мимо обстоятельств, страшных всерьез.
Почти все пьесы-сказки Шварца написаны по мотивам сказок Г.-Х. Андерсена. Как же удавалось Шварцу претворять старые сюжеты в остросовременные произведения? Дать исчерпывающий ответ не беремся. Одно ясно: помогло безошибочное чувство языка своего времени. В лучших пьесах драматурга едва ли не каждое слово звучит неожиданно, играет сразу многими значениями (не всегда отмеченными в словарях), бойко «перескакивает» из одного стиля речи в другой, может быть одновременно смешным и грустным, полным самого злого сарказма и самого искреннего сочувствия.
Обнажение этимологии слова (излюбленный прием футуристов) не чужд и Евгению Шварцу. «Это вечный спутник принцессы, тайный советник... его советы меняются в соответствии с требованиями времени, и дает он их шепотом. Ведь недаром он тайный», — говорит Ученый, герой пьесы «Тень» (здесь и далее курсив наш.— Л. П.; цитаты даются по изданию: Шварц Евгений. Пьесы. Л., 1972). Но глубинный смысл каламбура раскрывается только в последующем рассуждении героя: «И если советы тайного советника оказываются гибельными, он от них начисто отрекается впоследствии. Он утверждает, что его просто не расслышали, и это очень практично с его стороны».
Если теоретик футуризма Виктор Шкловский призывал к «воскрешению» прежде всего образной природы слова: «Всякое слово в основе — троп» (Шкловский В. Б. Воскрешение слова. - СПб., 1914, с. 3), то основная задача Шварца иная: очистить язык от речевых штампов, вернуть слову его прямую коммуникативную функцию, не позволить превратиться в маску, скрывающую подлинные мысли и чувства говорящего.
Не только короли, но и слова в его пьесах зачастую оказываются «голыми». Как, например, в коммюнике городского самоуправления во время боя Ланцелота с Драконом: «Бой близится к концу. Противник потерял меч. Копье его сломано. В ковре-самолете обнаружена моль, которая с невиданной быстротой уничтожает летные силы врага. Оторвавшись от своих баз, противник не может добыть нафталина и ловит моль, хлопая ладонями, что лишает его необходимой маневренности. Господин дракон не уничтожает врага только из любви к войне. Он еще не насытился подвигами и не налюбовался чудесами собственной храбрости».
В небольшом абзаце — самые разные приемы создания комического эффекта: сочетание газетных штампов (летные силы врага) и сказочной реалии (ковер-самолет); разрушение фразеологизма чудеса храбрости эпитетом собственной; смешение действительности и фантастики (моль уничтожает не обыкновенный ковер, а ковер-самолет). Логически несочетаемые слова и выражения при соединении «взрываются», обнаруживая свою полную бессмысленность.
Многозначность слова — сколько дифирамбов пропели ей поэты и ученые! — персонажи Шварца очень часто используют для того, чтобы схитрить, слукавить, а иногда и обмануть самих себя.
Слово безумие может употребляться как медицинский термин, но «безумцем» называют и отчаянного храбреца. Когда Первый Министр, намереваясь погубить Ученого, просит его друга Доктора дать медицинское заключение, тот «с чистой совестью» отвечает: «Я давно говорил ему, что это безумие». Героиня той же пьесы «Тень» певица Юлия Джули в светлую минуту своей жизни признается: «В нашем кругу, кругу настоящих людей, всегда улыбаются на всякий случай. Ведь тогда, что бы ты ни сказал, можно повернуть и так и этак».
Реализация метафоры — один из самых распространенных речевых приемов Шварца, что, впрочем, связано со спецификой его жанра: условность, фантастичность сюжета создают благодатную почву для игры на прямом и переносном значении слова (благо — «правдоподобием не связан»). Если фразеологизм умереть от омерзения в общеязыковом употреблении метафоричен, то в сказке он самым естественным образом этой метафоричности лишается: девушки, которых берет себе в жены Дракон, «умирают от омерзения» в буквальном смысле.
Глагол съесть в русском языке, как известно, может употребляться в значении «погубить», «уничтожить», «устранить». Следовательно, фраза: «Человека легче всего съесть, когда он болен или уехал отдыхать» — метафора? Да, но только если не знать, что произносит ее оценщик ломбарда — людоед.
В реалистических текстах острота всегда рассчитана на небуквальное понимание, попадая же в сказку (во всяком случае, в сказку Шварца), она, напротив, зачастую утрачивает свое переносное значение.
«Подайте бедному немому!» — в произведениях, воспроизводящих жизнь в «прямых» формах (без фантастики и гротеска), такая фраза, если и возможна, то только как шутка. А теперь посмотрим, как звучит этот парадокс в пьесе «Тень»:
Вода, вода, ледяная вода!
А вот — ножи для убийц! Кому ножи для убийц?!
Цветы, цветы! Розы! Лилии! Тюльпаны!
Дорогу ослу, дорогу ослу! Посторонитесь, люди: идет осел.
Подайте бедному немому!
Яды, яды, свежие яды!
В мире, где ножи для убийц продаются наряду с тюльпанами и лилиями, где люди уступают дорогу ослам, почему бы и немому не заговорить?
Неожиданное соединение разных стилистических слов у Шварца не просто прием для создания комического эффекта, а средство психологической характеристики героя. «Мама, застрели-ка его!» — подчеркнуто бытовым тоном предлагает убить человека Маленькая разбойница из «Снежной королевы». Или: «Я друг вашего детства. Мало того, я друг вашего отца, деда, прадеда. Я помню вашего прапрадеда в коротких штанишках. Черт! Непрошенная слеза... Ты не ожидал от меня таких чувств? Ну? Отвечай! Растерялся, сукин сын», — грубое ругательство вставлено в высказывание, стилизованное в духе сентиментальной прозы, — так изъясняется Дракон, который «так давно живет среди людей, что иногда сам превращается в человека».
Некоторые парадоксы и каламбуры Шварца давно стали крылатыми выражениями: «Я не волшебник. Я только учусь» (Золушка); «Детей надо баловать — тогда из них вырастают настоящие разбойники» (Снежная королева). Но большинство его острот «играют» только в контексте, причем, как правило, в контексте, выходящем за рамки самого произведения. Так, и цитируемое нами коммюнике городского самоуправления и угрозы беснующегося Короля: «Всех переколю! Заточу! Стерилизую!» (Голый король) могут быть поняты до конца теми читателями, которые увидят здесь не просто юмор, но — беспощадную сатиру на действительность гитлеровской Германии. (Напомним: «Голый король» создается в 1934, «Дракон» в 1943 году).
Однако это не значит, что пьесы Шварца написаны на эзоповом языке, что здесь чуть ли не каждое слово с «двойным дном». Эзопов язык всегда обращен к «своему» читателю, рассчитан на неведение или глупость «профана». Такая установка принципиально чужда Шварцу. Лучшее тому доказательство — отсутствие сколько-нибудь заметной разницы между языком его детских и «взрослых» пьес.
Как правило, Шварц не прячет, не скрывает мысль, а, наоборот, стремится высказать ее словами самыми что ни на есть простыми, которые «в кругу настоящих людей» (вспомним признание Юлии Джули) считаются слишком примитивными и потому вышли из употребления.
«Это не от привычки к детским пьесам я заставляю героев говорить несколько наивно. Это результат уверенности моей в том, что люди так и говорят» (ЦГАЛИ, ф. 2737, он. I, ед. хр. 257), — писал Шварц Н. Акимову, режиссеру, впервые поставившему все лучшие пьесы драматурга.
«Это можно — не обижать вдов и сирот. Жалеть друг друга тоже можно. Не бойтесь! Жалейте друг друга! Жалейте — и вы будете счастливы!» — эта тирада не банальность, а «воскрешение» забытых слов и забытых истин. Банальности не могут выполнить эстетических функций. Монолог Ланцелота впечатляет не меньше, чем самые изящные каламбуры, самые тонкие остроты. На первый взгляд, могут показаться банальными и слова отца Эльзы — девушки, предназначенной в жертву Дракону: «Любовь к ребенку — ведь это же ничего. Это можно. А кроме того, гостеприимство — это ведь тоже вполне можно». Однако взволнованная интонация выдает Шарлеманя: он задыхается от собственной «дерзости». Как же иначе? Ведь он — из города, которым правит Дракон.
Это ему, Шарлеманю, принадлежит реплика: «Пожалейте нас, бедных убийц», которая звучала бы как злая ирония, сарказм, если бы была написана не Евгением Шварцем. Шварц в самом деле жалеет Шарлеманя, эту «дырявую» — разодранную Драконом! — душу. Ведь Шарлеманя «так учили». Не достоин жалости только бывший жених Эльзы — Генрих, который оказался «первым учеником».
Чем лучше знает читатель творчество Шварца, тем глубже он понимает значение каждой отдельной реплики, каждой остроты.
Все написанное Шварцем — независимо от художественных достоинств — можно рассматривать как единый текст, пронизанный общей нравственной идеей.
Наверное, есть писатели, даже и неплохие, у которых «нутро», «душа» и язык их творений находятся в какой-то очень сложной зависимости. Художественные произведения Евгения Шварца и его дневники, письма настолько похожи стилистически, что самый подробный лингвистический анализ вряд ли установит их жанровую принадлежность.
Садовник в «Драконе»: «...будьте терпеливы, господин Ланцелот. Умоляю вас - будьте терпеливы... Сорную траву удаляйте осторожно, чтобы не повредить здоровые корни. Ведь если вдуматься, то люди, в сущности, тоже, может быть, пожалуй, со всеми оговорками, заслуживают тщательного ухода».
Запись в дневнике Шварца: «Даже если ты ненавидишь нечто в мире и хочешь это нечто уничтожить — смотри. Иначе ты не то уничтожишь. Вот. Понятно?... Нет чистых красок, полного счастья, ясно выраженных указаний» (Прометей, 1968, № 5, с. 382). Не только общность мыслей, но и общность интонаций — «антиораторской», раздумчивой — объединяет эти функционально разные тексты.
Он и в жизни был мастером каламбура, иронии, парадокса. Его остроты повторял весь литературный Ленинград («Я не пишу больших полотен, для этого я слишком плотен», — ЦГАЛИ, ф. 2215, оп. I, ед. хр. 3). Весельчак, душа общества, блестящий импровизатор, имитатор — таким запомнили его все, кому выпало счастье личного общения со Шварцем, кто оставил дам свои воспоминания о нем (см. книгу: Мы знали Евгения Шварца. М., 1966). Счастливый характер? Быть может. Но главное — убежденность в том, что без легкости и веселости «мир окончательно непонятен» (Прометей, 1968, № 5, с. 383).
Всякое слово, не только призыв, проповедь, нравоучение, но и каламбур, парадокс, острота, чтобы найти отклик в душе читателя, должно быть обеспечено личными качествами автора и подкрепляться доверием к нему. Любимые герои Шварца — добрый, мудрый Сказочник из «Снежной королевы», наивно-простодушный Ученый, обдумывающий, как сделать всех людей счастливыми («Тень»), отважный благородный Ланцелот («Дракон») - наделены чертами, в высшей степени присущими самому автору.
И в заключение; в этой статье мы попытались рассказать о некоторых речевых приемах создания комического в пьесах-сказках Евгения Шварца. Но, думается, никакой, даже самый подробный, самый тонкий анализ не объяснит нам «обыкновенного чуда» его драматургии. Чудо вообще, как известно, объяснению не поддается — на то оно и чудо. В крайнем случае, его можно объяснить понятиями столь же иррациональными: «нутро», «непосредственность», «душевная теплота».
Л-ра: Русская речь. – 1988. – № 2. – С. 34-40.
Произведения
Критика