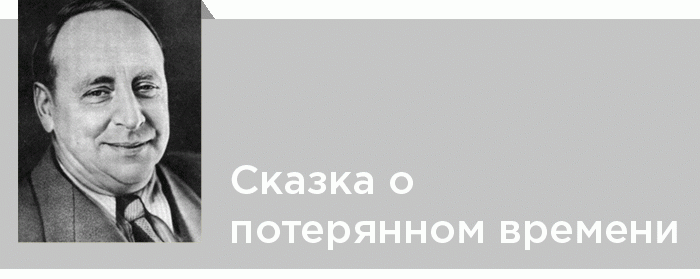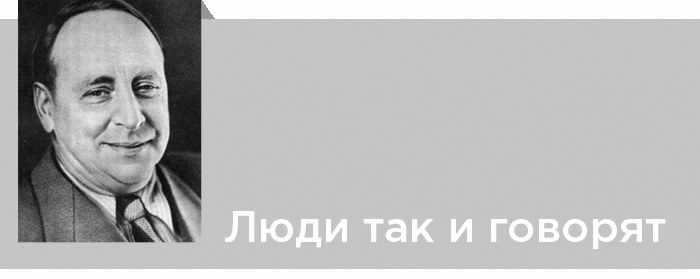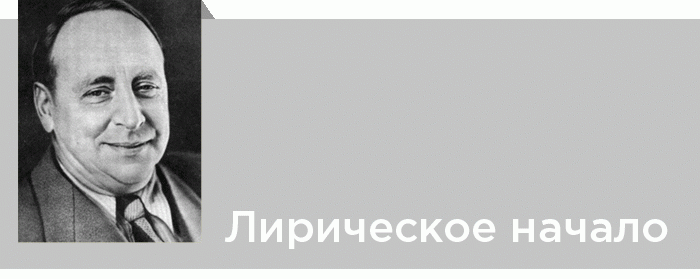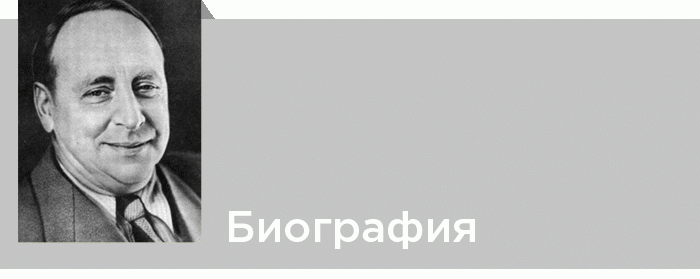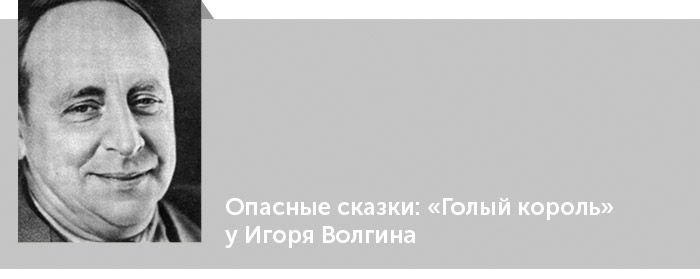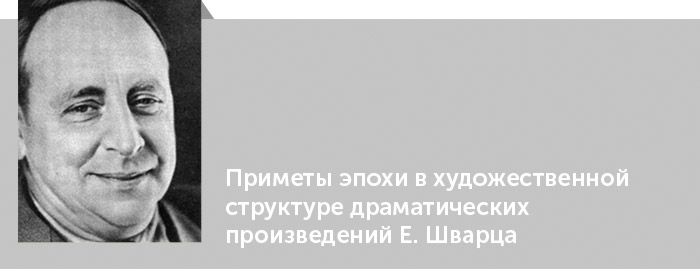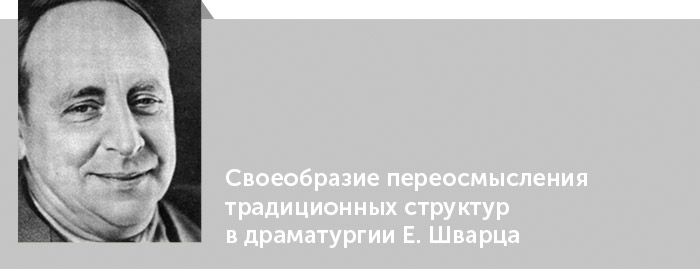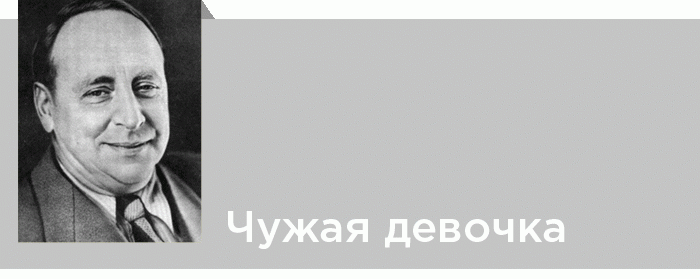Сказочная условность в пьесе Евгения Шварца «Обыкновенное чудо»
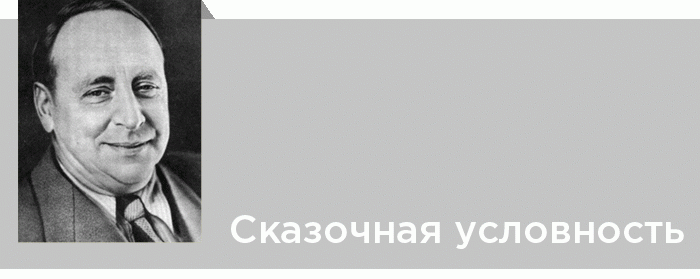
Е.Ш. Исаева
В своих заметках полудневникового типа, относящихся к начальному периоду его писательской биографии, Евгений Шварц, будущий создатель блистательных по выдумке, удивительных по щедрости фантазии пьес-сказок, оставил следующую мысль: «... оставаясь собой, таращи глаза на мир, будто видишь его первый раз... Смотри. Смотри. Смотри».
Не случайно едва ли не лучшим его созданием стал «Дракон», пьеса военных лет, в которой завершаются размышления писателя об «обыкновенном фашизме», начатые еще в «Голом короле» и продолженные «Тенью». Вместе с тем там предугадывается многое и в судьбах мира послевоенного.
«Настоящие современные актуальные советские пьесы», - так назвал сказки Шварца их первый постановщик, замечательный режиссер Николай Акимов. В намеренной парадоксальности этой формулировки - «современные актуальные»... сказки - отражено основное свойство шварцевской драматургии, определяющее всю ее неповторимость и своеобразие.
Как же совмещается простота, неизменная четкость в расстановке нравственных акцентов и некоторая даже наивность «старой, старой сказки» с исследованием духовного мира современного человека, с изображением явлений неоднозначных, не разложимых лишь на черно-белые тона?
Ответ на этот вопрос очень по-своему, «по-шварцевски» подсказывает сам драматург. Не склонный к теоретизированию, он предпочел процесс создания произведения показать в нем же самом. Так раскрытие «волшебных секретов» происходят еще в одной из ранних пьес Шварца «Снежная королева», где в сказку как ее участник и вместе с тем творец введен сам Сказочник.
Но если обнажение приема в «Снежной королеве» справедливо было определено В. Шкловским как «иронически-театральное», то сходное построение «Обыкновенного чуда» (придумывающий сказку волшебник - Хозяин - в числе действующих лиц) несет совершенно иной художественный смысл. Лиричность пьесы, лиричность и даже автобиографичность образа Хозяина позволяет рассматривать эту последнюю пьесу-сказку Шварца как наиболее полное воплощение и выражение его творческих принципов.
В прологе к «Обыкновенному чуду» - пожалуй, единственном у Шварца прямом разъяснении своих целей и задач зрителю - он определяет то главное, чем притягательна для него сказка: «Сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть, сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь».
Та свобода вымысла, которая является строгим законом сказки, давала художнику возможность довести до логического завершения, прояснить ситуации, конфликт, свойство человеческого характера. В «Обыкновенном чуде» - этой, по сути, очень емкой формуле любой сказки Шварца - его прежде всего привлекает именно «чудо». «Ах, как мне хотелось бы, - вздыхает одна из героинь пьесы, Эмилия, - попасть в те удивительные страны, о которых рассказывают в романах. И там вовсе нет этого окаянного слога «вдруг». Там одно вытекает из другого... Необыкновенные события случаются там так редко, что люди узнают, когда они приходят все-таки наконец.
Все развитие действия «Обыкновенного чуда» и есть, в сущности, разговор о любви, в который втянут весь круг канонических для сказки персонажей. Это и юный герой «волшебного происхождения» (превращенный в человека медведь), и прекрасная принцесса, и волшебные и не волшебные помощники - Хозяин и Хозяйка, трактирщик и Эмилия, его возлюбленная, вновь встретившиеся после долгих прожитых врозь лет; это и традиционный антагонист героя - Министр-администратор, и непременный для каждой сказки король.
Сюжет пьесы, контаминирующий достаточно распространенные фольклорные мотивы, центростремителен: каждый персонаж (вплоть до тех, кого принято именовать фоном, окажем, фрейлины Принцессы) вовлечен в течение основной сюжетной линии, линии Принцессы и Медведя, и действенно, со всей сказочной категоричностью, выражает свою жизненную позицию, свое понимание - или непонимание - «обыкновенного чуда» любви.
Тут и житейски-приземленная микрофилософия Короля, которому и чудесное хотелось бы втолкнуть в рамки обыденности - «Живут же другие - и ничего! Подумаешь - медведь... Не хорек все-таки... мы бы его причесывали, приручали», и непоколебимый цинизм Министра-администратора, искренне не допускающего существования чувств, выходящих за пределы его нормального - до того нормального, что самому удивительно - миропонимания, и грустная верность своему несостоявшемуся чуду Эмиля и Эмилии...
И, наконец, в истории Принцессы и Медведя, как сюжетная реализация сказочной метафоры (в человека - и уже навсегда! - превращается медведь), звучит важнейшая для автора мысль о преображающей, открывающей «человека в человеке», поистине волшебной силе подлинного чувства. Причем изображается оно словно бы вне своей бытовой оболочки: Принцесса и Медведь у Шварца лишены сугубо индивидуальных примет и сколько-нибудь конкретных характерологических черточек. Думается, это не обычная голубизна стопроцентно положительных героев, а намеренно широкая, переходящая в символику обобщенность - свойство, неотъемлемо присущее поэтике народной.
Однако пьеса Шварца - отнюдь не театрализованная аллегория, иносказание в условном сказочном облачении, подобная, скажем, «трем толстякам» Олеши или сказкам Маршака. Необычность ее в тон, что его сказка, словно бы сама признающаяся в своем волшебном происхождении и слегка иронизирующая над собственными чудесами.
Творя фантастический сказочный мир, Шварц в то же время обнажает его условность, иллюзорность, невсамделишность. И в этом - глубокое постижение писателем самой сущности жанра, его внутренней структуры. Ведь сказка - это, пожалуй, единственный род фольклорных произведений, в котором условность осознается, более того - подчеркивается. «Установка на вымысел» (формула Э. Померанцевой), этот важнейший жанровый признак сказки, в том и заключается, что и сказочник, и слушатели как бы заранее признает фантастичность сказочного повествования.
Но если в народной сказке об этом напоминает элементы обрамляющие (присказка, концовка), не связанные впрямую с сюжетом, то у Шварца разрушаемая условность введена в самую ткань пьесы. Сотворение волшебного мира происходит прямо на наших глазах: женившийся и остепенившийся волшебник, которого «как ты не корми... все тянет к чудесам...», придумывает свое очередное и вроде бы совсем невинное чудо – оно-то и становится завязкой действия - превращенного им в человека медвежонка может расколдовать только поцелуй «первой попавшейся принцессы». И о том, что сказка - «складка» («а песня быль»), как утверждает пословица, нам не дают забыть на протяжении всей пьесы. Этой цели служит и уже приводившийся ироничный монолог Эмилии, и признание Хозяина - «Я... собрал людей и перетасовал их, и все они стали жить так, чтобы ты смеялась и плакала».
Иными словами, в «Обыкновенном чуде» условность и выстраивается, и нарушается, создавая ту атмосферу праздничной театральности, веселой игры, без элементов которой трудно представить сегодняшнее восприятие сказки (вспомним современные костюмы персонажей вахтанговской «Принцессы Турандот»).
Но, конечно же, не только желание подчеркнуть в сказке игровое начало определяло замысел драматурга, как это происходило, к примеру, в театральных сказках далекого предшественника Шварца Карло Гоцци, где персонажи комедии масок, вмешиваясь в течение основного, нередко трагического сюжета, усиливали и обнажили его фантастический характер.
Озорная игра серьезнейшим образом связана у Шварца с самой сверхзадачей пьесы. Ведь здесь сказочная феерия распадается под напором «живой жизни», ее разрушает настоящее человеческое чувство, выламывающееся за пределы замкнутого волшебного круга. В этом - высокая символичность «обыкновенного чуда» в концовке пьесы, чуда любви, восставшей против неизбежности и силой своей перечеркнувшей все - так что первым поражается сам волшебник: Глядите! Чудо, чудо! Он остался человеком.
Такая разомкнутость сказочного мира делает пьесу Шварца открытой структурой, в которой реальность может отображаться не только в предельном обобщении аллегории, а и в даже бытовых очертаниях. Подобное соединение различных плоскостей изображения, переплетение реалий сказки и реалий быта, их взаимный отсвет создают совершенно особую атмосферу шварцевских пьес, определяет неповторимую их интонацию, своеобразность.
Вся пьеса насыщена ситуациями мгновенно узнаваемыми: так снайперски точно в них схвачены - и в соответствии с законами сказки - хорошо знакомые нам явления, черточки быта, характерные моменты нашей повседневной жизни.
Весь механизм фарисейства - а в равной степени и панацеей его равнодушной готовности принять видимое за сущее - вскрыт в коротеньком деловитом раскаяние Министра-администратора: «...забудьте о моем наглом предложении, /скороговоркой/ считаю его безобразной ошибкой. Я крайне подлый человек. Раскаиваюсь, раскаиваясь, прошу дать возможность загладить все».
В афористически отточенных репликах одним штрихом фиксируемся самая суть характера (Король. «Весь дом устроен так славно, с такой любовью, что взял бы да отнял!») или ситуации (Хозяйка. «Бедная влюбленная девушка поцелует юношу, а он вдруг превратится в дикого зверя? Хозяин. Дело житейское, жена»).
Однако для Шварца в период зрелости такие одномерные бытовые аллюзии уже далеко не составляет главного. Пожалуй, единственный персонаж подобного рода в «Обыкновенном чуде» - это Охотник. Большая же часть шварцевских образов не исчерпывается только сочетанием двух планов - традиционно сказочного и угадываемого за ним бытового, житейского пласта. Они многослойны, многосоставны. Скажем, Король - разве укладывается этот характер, точнее, психологическое явление в авторскую аттестацию его как «обыкновенного квартирного деспота, хилого тирана, ловко умеющего объяснять свои бесчинства соображениями принципиальными»? Ведь здесь Шварц иронизирует и над кокетливым интеллектуальным самобичеванием, которое по сути оборачивается самооправданием и самолюбованием, и - шире - над самим принципом подобного истолкования характера в жизни и литературе (отсюда - элемент литературной пародии): «Я человек начитанный, совестливый. Другой свалил бы свои бесчинства на товарищей, на начальника, на соседей. А я валю на предков, как на покойников. Им все равно, а мне полегче».
«Зрительское /или читательское/ восприятие у Шварца непосредственно включается в художественную структуру произведения - как это и происходит и в процессе создания сказки народной, всегда варьируемой в зависимости от аудитории. Отсюда - тот интеллектуализм пьес-сказок Шварца, который позволяет сопоставлять их, что уже не однажды делалось, с эпическим театром Б. Брехта, философскими драмами Ж. Ануйля.
Но и непосредственно в рамках сказки Шварц сумел наметить контуры характеров совсем не простых, избежав при этом дурной модернизации фольклорного жанра.
Так, например, в поэтику Шварца прочно входит излюбленный, прием сказки - обыгрывание противоречий методу подлинным и мнимым, видимым и сущим. На столкновении разнонаправленных свойств строятся у него многие образы. Таков король, которым попеременно овладевают то отцовские чувства, то королевский норов - наследие «двенадцати поколений предков - и все изверги, один к одному». Соединение несоединимого - оксюморон на уровне фраз - и становится основным принципом его речевой характеристики: «То ли мне хочется музыки и цветов, то ли зарезать кого-нибудь».
Лицо в маске - сквозной мотив, сопровождающий образ Эмилии: она и в ремарках именуется то Эмилией, то Придворной дамой.
А такой классический элемент сказочного сюжета, как возвращение, становится для драматурга возможностью обозначить историю своего героя не в спокойном ее течении, а в исходных и финальных точках, расстояние, между которыми легко заполняет.
Так изображается совсем не волшебное, а грустно закономерное превращение «гордой, нежной Эмилии» в вымуштрованную придворную даму, сказочно быстрая, но отнюдь не представляющаяся неразрешимой житейской загадкой метаморфоза, сделавшая «лихого снабженца» снисходительно-вальяжным принцем-администратором.
Мотив волшебного превращения определяет и развитие главной сюжетной линии пьесы. Мановением волшебной палочки Хозяина начинается история главного героя /в первоначальном варианте пьеса так и называлась - «Влюбленный медведь»/, его чудесным преображением она завершается: «Гляди: это человек, человек идет по дорожке со своей невестой и разговаривает с ней тихонько. Любовь так переплавила его, что не стать ему больше медведем» И это обретение героем подлинной человечности происходит уже за рамками сказочных чудес.
Поэтому так иронизирует Шварц над привычным ожиданием благополучной сказочной развязки, где обязательное чудо может все уладить: «Как ты смеешь причитать, ужасаться, надеяться на хороший конец там, где уже нет, нет пути назад... не смей говорить мне о чудесах, чудеса подчинены таким же законам, как и все другие явления природы».
Комедия-сказка Шварца /как определяет жанровую принадлежность этих пьес Н. Акимов/, подобно всякой высокой комедии, колеблется между двумя эмоциональными полюсами - радостью и печалью. «Отправной точкой комедиографа, - замечает исследователь драмы Э. Беюли, - является страдание; радость же, будучи его конечной целью, представляет собой прекрасное и волнующее преодоление». Счастливая развязка «Обыкновенного чуда» не безусловна, ей предшествует ситуация драматическая, и недаром влюбленным в пьесе сопутствуют, словно разные вариации их возможной судьбы, две пары - Хозяин и Хозяйка и Эмиль и Эмилия.
«Добрый сказочник» был, по сути, очень жестким художником, максималистки требовательным к своим героям. Признание Медведя - «Да, хозяйка! Быть настоящим человеком - очень нелегко» - это, в сущности, эпиграф ко всему творчеству писателя, его сквозная, постоянная тема.
«Что враги сделают нам, пока сердца наши горячи?» - восклицает Сказочник из «Снежной королевы».
За подлинную человечность борется Ланцелот среди «безруких душ, безногих душ, глухонемых душ...» («Дракон»), ее отстаивает а мире теней и фикций Ученый («Тень»).
И в этом утверждении простых, но незыблемых моментов человеческого бытия - глубинная связь пьес-сказок Шварца со сказкой народной, с одухотворяющим ее пафосом не подвластных времени нравственных ценностей.
Л-ра: Проблемы мастерства. Герой, сюжет, стиль. – Ташкент, 1980. – № 628. – С. 32-39.
Произведения
Критика