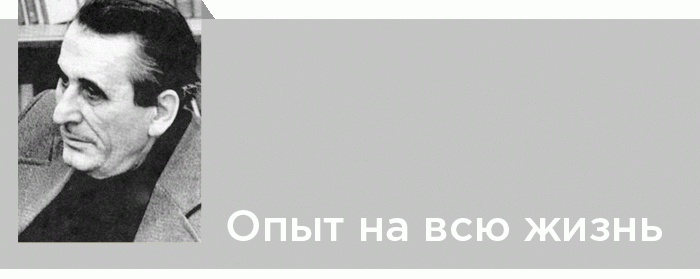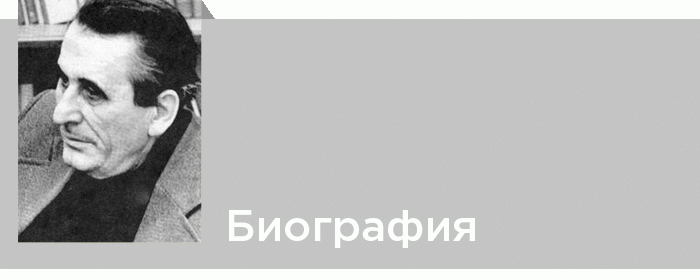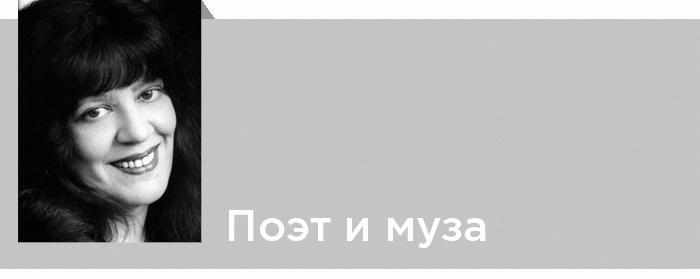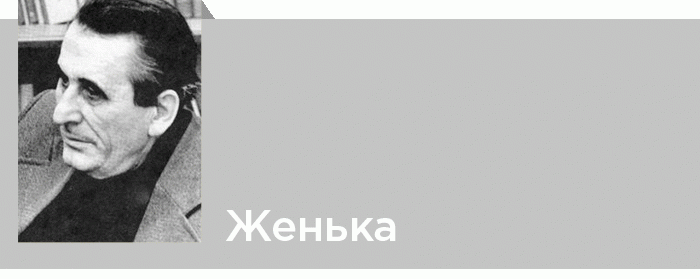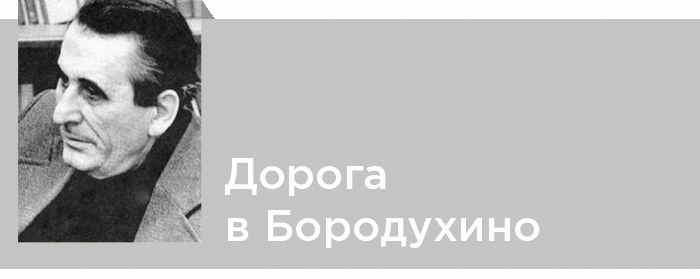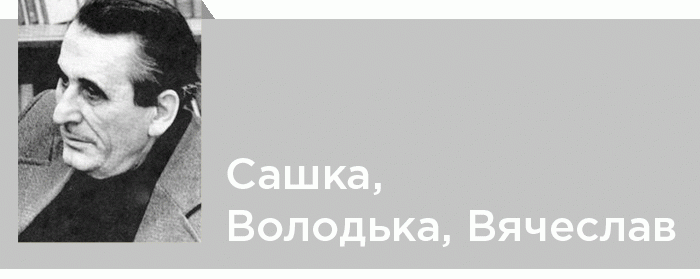Человек из-под Ржева
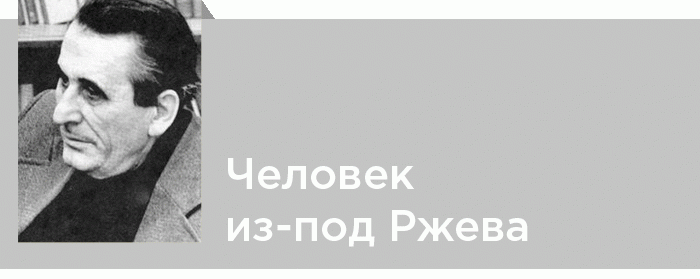
А. Лебедев
Случай Вячеслава Кондратьева — примечательное явление нашей литературной жизни. В. Кондратьев очень долго молчал — до поры, когда иные литераторы уже подводят первые итоги своей деятельности. Примечательно и то, что критика сразу же откликнулась на его повесть «Сашка» с выражениями признательности и некоторого удивления. Внешние обстоятельства литературной судьбы писателя немало тому содействовали. Появление этой повести в литературе обнаружило высокую степень совместимости той правды, которую он выразил, и с нашими нынешними общественными запросами, и с нынешним уровнем критики, сумевшей по достоинству оценить его творчество. И, по удачному выражению критика И. Дедкова, «"тесниться" при этом никому не пришлось: место Вячеслава Кондратьева оставалось свободным. Оно словно ждало его». Вполне возможно, что именно этим обстоятельством объясняется отчасти то, что поздний дебют писателя оказался счастливым. Но отчасти. Сам Вячеслав Кондратьев уже имел публичную возможность объяснить своим читателям (в разных обстоятельствах с разными акцентами), как все с ним было, чем вызвано его «столь долгое молчание» и какова роль «счастливой случайности» в его нынешнем литературном успехе и в предшествовавшем этому успеху появлении веры в себя. Покойный К. Симонов, напутственной рекомендацией которого сопровождалась первая публикация Кондратьева в «Дружбе народов», выражал опасения по части ожидавшихся им «укоризны и перечня промахов» со стороны тех, кому он представлял нового автора.
Действительно, кондратьевский «Сашка», казалось, явил собой готовый арсенал свежих аргументов для тех, кто в не столь уж давние времена считал необходимым придать словам «окопная правда» негативное значение. В «Сашке» война была такой, какой и вправду ее можно было увидеть только из солдатского окопа, вырытого кое-как в «набухшей от крови земле»; война во всей своей «погани» и трупном смраде, когда и в наступлениях боль и отчаяние «выхлестывают» люди «с обреченными глазами» в протяжном воющем крике «ура-а-а»... Словом, это было «не то, что вам показывают в кино», как не раз потом мы услышим от кондратьевских героев. Война, увиденная глазами «человека, оказавшегося в самое трудное время в самом трудном месте и на самой трудной должности — солдатской», как выразился Симонов, словно бы предупреждая опасность расширительного истолкования значения и смысла того военного эпизода, о котором было рассказано в повести. Но вот одно за другим стали появляться новые произведения Вячеслава Кондратьева — с той же войной, с той же ее нечеловечески дикой правдой. И не слышно, слава богу, пока суровых укоризн и назидательных перечней промахов. Не выговариваются, видно, как- то эти укоризны.
Мы расстались с кондратьевским Сашкой, когда, как помним, разлученный волею корявой судьбы с лейтенантом Володькой, он добрался после ранения наконец до Москвы. Новая повесть Вячеслава Кондратьева так и называется — «Отпуск по ранению». Но речь в ней идет уже не о Сашке, а о лейтенанте Володьке. А возвратился он на краткое время в Москву с той самой, с «Сашкиной войны». Это узнается сразу. И по тому, как «все шарахнулись от него», когда он по приезде вскарабкался на заднюю площадку трамвая. И по тому, как вздрогнула какая-то женщина, уступившая было ему, раненому фронтовику, место в том же трамвае, когда он глянул на нее своими «мертвыми глазами».
Герой — в шоке. Шок — от той предельной ситуации, в которую попадает лейтенант Володька в своем отпуске по ранению, от несовместимости всей атмосферы тыловой жизни и фронта. Он ошеломлен «необыкновенным происшедшим с ним рывком из одного пространства в другое». Ему совершенно невозможно представить, что два этих мира «существуют в одном времени и пространстве. Либо сон это, либо сном был Ржев... Одно из двух! Совместить вместе их нельзя!». Он не узнает своих старых друзей, он заранее враждебно относится едва ли не к каждому, кто не хлебнул фронта. Все «чистенькое», «аккуратненькое», «спокойненькое» вызывает у него неодолимое раздражение, и ему то и дело становится тоскливо и горько до спазм, до того, что «стрелять охота», до невменяемости. И только в какой-нибудь убогой пивной с убогими калеками — первыми инвалидами войны — лейтенанта Володьку вроде как-то отпускает на время. «Сейчас тебе все видится не таким, — говорит мать. — Я понимаю, но это пройдет...»
Но это не проходило. Да, раздражение против всего, что он видел в Москве, не проходило. И снилось ему снова заснеженное поле с подбитым танком, чернеющие крыши деревни, которую они должны взять, и его ротный с загнанными глазами, говоривший ему: «Надо, Володька, понимаешь, надо...» А тут, в Москве, кинотеатры работают и кто-то ходит в кино. И сад «Эрмитаж» с посыпанными песком дорожками. И ловкачи торгаши (хочешь жить — умей вертеться). И этот чертов коктейль-холл — люстры, мрамор, ковры, сытые, довольные хари и сюда, «разве вы забыли... В военной форме не положено»... А потом его ротного убило, и лейтенант Володька принял роту и сам уже гнал людей вперед на почти верную смерть, потому что надо... Шли дни короткого отпуска, а «он без конца прокручивал в голове Ржев».
Там, под Ржевом, он узнал настоящую правду. Оттуда, из-под Ржева, начался для него отсчет дням какой-то новой — страшной, безжалостной, но истинной жизни, жизни без иллюзий, без романтики, без обмана и самообмана...
Хемингуэй писал в свое время, что истинную правду о войне добыть очень опасно — чаще вместо нее можно найти смерть. Правда на войне там, где смерть, рядом с ней. И ни в каком ином месте. Лейтенант Володька узнал под Ржевом правду о войне. Но в отпуске по ранению в его сознании произошел чудовищный внешне парадокс: сквозь призму противоестественной правды о войне мирная жизнь, тыл кажутся теперь ему чем-то неестественным, чуть ли не ложным, чуть ли не фальшивым. Правда — это реально существующий ад войны, а «рай» мирной жизни в тылу — неправда, иллюзия, обман. «Отпуск по ранению» — своего рода доказательство от противного, если иметь в виду ту правду, о которой говорил Хемингуэй. Или Анри Барбюс, знаменитую в свое время книгу которого о первой мировой с такой жадностью и пониманием читает теперь лейтенант Володька, подсчитывая оставшиеся до возвращения на фронт дни.
Лишь постепенно к лейтенанту начинает возвращаться способность видеть окружающее не исступленным взглядом. И тут люди в огромном своем большинстве жили сейчас под знаком той же окопной правды, были подчинены ей, служили ей чуть ли не так же, как те, кто «на передке», — «через не могу», до упаду. И вместе с тем лейтенант из-под Ржева начинает понимать, что «жизнь идет», и даже начинает понимать, что у людей есть «не одно "надо"»... Но прежде в его жизни случается нечто чрезвычайное, происходит некое потрясение души. На него обрушивается еще не виданное и не слыханное им — любовь. И власть этого запредельного почти, кажется, чувства оказывается властнее вроде бы всего на свете. И эта «эгоистическая» власть любви, ее чудесный «эгоцентризм» возвращают герою весь человеческий мир и всю человечность.
Встреча с Тоней — внутренняя кульминация повести. Тут все решается, все сходится, все развязывается и все, видимо, даже предрешается в жизни героя. И эта Тоня найдена и понята автором повести очень, надо сказать, точно — типологически единственно возможная для героя в ту пору его жизни.
Тоня вся, весь ее мир в совершенно ином измерении, нежели тот мир, в котором обитает лейтенант Володька. Она, Тоня, определяет собой для него совершенно иную систему отсчета жизненных ценностей — от жизни, счастья, любви, а не от горького духа окопных истин. Но дело не только в этом. Тоня вообще не из того круга, в котором живет Володька, выраставший в более чем скромном интеллигентном доме (в коммунальной комнатушке, вернее) и среди оголтелых пацанов Марьиной Рощи, набиравшийся ума и чувств у «святой русской литературы» с ее психологией и проклятыми вопросами, с ее неизменной орентацией на «человека, которому очень трудно быть подлецом». Тоня — человек «иной породы». И при первой же встрече с ней Володька чувствует острую социально-психологическую грань, отделяющую Тоню от всего его привычного быта — этой непосредственной, ближайшей нашей среды обитания. Тоня вся отрицание той «окопной правды», которой живет теперь герой и которая отождествляется для него с жизнью по совести. Даром что отец Тони сам военный и что по стенам ее (отцовой, конечно) огромной квартиры развешано всякое удивительное наградное оружие. А может быть, именно поэтому. Мера социально-психологической несовместимости мира лейтенанта Володьки и мира Тони определяет особую остроту и насыщенность того взрыва чувств, который переживает герой повести, определяет в конечном счете и исход, разрешение всей этой духовной коллизии.
«Володька поднялся по широкой и чистой лестнице, чему удивился — не до уборок было домоуправам в ту пору, — и позвонил в единственный звонок, около которого не висело никакого списка жильцов»... Был Тонин день рождения, «тосты за новорожденную, за победу... за всех, кто на фронте... и он примирился и с сытыми лицами присутствующих, и с их хорошей одеждой, с обилием еды, что поначалу ударило резким контрастом с собственным домом...».
Потом был некий разговор с Тоней. Он важен.
«— Расскажите что-нибудь... о фронте, — попросила она.
Вы ждете романтических эпизодов?.. — усмехнулся Володька.
Нет. Я немного представляю, что такое война. Мой отец военный...
Ну, ваш отец видел войну, наверное, с другой точки, — взглянул он на шашки. — Не с окопа.
Вообще-то да. Но ему приходилось выходить из окружения, и он бился вместе с красноармейцами. Что же видели из окопа?..
...Трупы. Много трупов — и немецких и наших. И кругом вода, грязь. Жратвы нет, снарядов нет...»
А утром звонок Тони («Это вы? Значит, правда, что вы есть на свете?»), и Володька кинулся к ней. Дверь была открыта. «Наконец-то... Господи, что же это такое? Я думала — это радость, а это мука... Я совсем не могу без вас...»
Так началась любовь в оставшиеся дни перед возвращением Володьки под Ржев. Обреченная любовь.
А Ржев не отпускал. Там, под Ржевом, осталась его рота. Вернее, та часть ее, которую еще недобили немцы. Ржев не отпускал лейтенанта тем чувством вины перед оставшимися там и — главное! — чувством вины перед теми, кто уже никогда не вернется оттуда, перед теми, кто остался там навсегда. Едва ли не инстинктивно лейтенант Володька чувствовал эту «власть Ржева» над всей своей «оставшейся жизнью». После Ржева он действительно стал другим человеком — из тех, кто «убит подо Ржевом». Даже если и останется в живых. В каком-то важном смысле он останется под Ржевом уже навсегда. Пусть даже никакой вины не будет, в общем-то, на нем за тех, «кто не пришел с войны». Пусть даже он поймет и разберется потом, что и не на нем, зеленом лейтенантике, почти мальчишке, лежит в конечном счете ответ за бездарно загубленные, а не неизбежные жертвы. Пусть будет так. «Но все же, все же, все же...»
И Тоня чувствует эту огромную силу Ржева. И зовет на помощь своей любви все силы своего мира, «...не пущу тебя больше под этот Ржев!» — говорит Тоня. И в голосе ее ранняя властность и неюношеская самоуверенность. И вот уже Тонин отец официально обращается к Володъке в неофициальном письме: «...не продолжить ли Вам дальнейшую службу во вверенной мне части?» Это спасение от Ржева, может быть, спасение вообще. Володька готов согласиться. «Только не смей раздумывать! Ты убьешь меня и мать!» — говорит Тоня, испытывая некое предчувствие.
«— Почему я могу раздумать?..
— Потому... потому, что ты какая-то странная смесь рефлектирующего интеллигента с марьинорощинской шпаной. И от тебя можно всего ожидать».
Нет у Тони уверенности в Володьке. Нет уверенности не в любви его — тут есть. А в чем-то ином...
Дважды в повести упоминается слово «совесть». И оба раза это слово оказывается рядом с мыслью об «окопной правде» — и тогда, когда оно произносится безруким инвалидом («...что немца до Москвы допустили, в том нашей вины нет. Наша совесть чиста»), и тогда, когда это слово произносит Володина мать, перед тем как тот объявляет о своем решении отказаться от Тониного варианта...
И сила Тониного мира оказывается бессильной, нет уже в Тонином голосе ни ранней властности, ни самоуверенности. «Нет, нет! — кричит она. — Володька! Ксения Николаевна!.. Да скажите же ему! Нельзя так, нельзя! Он ни о ком не подумал... Ни о ком!» Какой дикий, но какой многозначительный парадокс заключен в этих последних словах Тони!..
Как поздно и как вовремя пришел к нам герой Кондратьева — человек из-под Ржева. И не зря не поворачивается язык поговорить по этому поводу об «ущербности», или «недостаточности», или о чем-то в том же духе относительно «окопной правды», согласно которой война — это прежде всего то, что вызовет лишь «страх и отвращение», пока человек еще в состоянии испытывать хоть какие-то человеческие чувства.
Все дальше и дальше во времени отходит от нас война, и каждый новый год, отделяющий нас от нее, отмечен минутой молчания. А мысли о войне все ближе и ближе подходят. К каждому. Как самые главные мысли — тяжкие и суровые — о жизни и смерти. И это заставляет нас вновь осмысливать и переосмысливать нравственное наследие и духовные последствия минувшей, все отдаляющейся во времени войны. Никто и никогда больше не выйдет из войны «духовно обогащенным». С чистой совестью из войны выходят только те, кто потом сможет сказать о себе: «Я убит подо Ржевом».
Есть нечто теркинское и в кондратьевском Сашке, в кондратьевском «человеке из-под Ржева» вообше, некая общая родовая, так сказать, типологическая черта. Эта типологическая общность накладывает, конечно, на автора суровую и неуклонную гражданскую и литературную ответственность.
В свое время Лев Толстой произнес слова, многократно затем повторенные всуе: «Герой... которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда». Прекрасные, гордые, высокие слова. Но правда, как известно, всегда конкретна. И в этой связи нелишне, думаю, добавить, что прекрасные слова о правде Лев Толстой произнес в произведении, входящем в цикл «Севастопольских рассказов». В том самом произведении, в котором война была увидена и представлена читателю «с окопа» — «не в правильном, красивом я блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами, а... в настоящем, — как писал Толстой, — ее выражении — в крови, в страданиях, в смерти...»
...Не пора ли людям занести себя в некую Красную книгу? Ведь уже не осталось ни одного места на Земле, где человек был бы в безопасности, где мог бы быть спокоен за свою жизнь. В «Севастопольских рассказах» еще «прекрасное солнце спускается с прозрачного неба к синему морю». Для кондратьевского героя пейзажа уже нет — только черная, мертвая земля. И образ такой земли, «земли под Ржевом», обретает не только наперед, но уже и для нас сейчас смысл некоего глобального (извините за громкое слово) урока. Даже если мы занесем в Красную книгу все окружающее, она останется символом иллюзий или знаком отчаяния, если в нее не будет занесен наконец навсегда тот, кто ее составляет.
В «Отпуске...» есть, к сожалению, необязательные, как мне кажется, сюжетные эпизоды и отступления, вообще некая многоречивость. В «Отпуске...» заметны поиски соответствия манеры, приемов и интонации новым обстоятельствам и коллизиям. Автор словно уже начинает примериваться к тому, как он смог бы писать о послевоенном своем герое. «Отпуск по ранению» — образ условно мирной жизни, отпуск в жизнь, «выходной» на войне. Потом, позже, если посчастливится, герой еще будет искать свое место в послевоенной жизни, определится тогда, если посчастливится, и мера успеха новых творческих поисков автора. В этом смысле «Отпуск...» — отчасти промежуточное звено в работе писателя. И как не все, наверное, еще досказано В. Кондратьевым в «Сашке», так не все еще, думается, намечено в «Отпуске...». Но наиболее характерные черты того, что можно назвать теперь прозой Кондратьева, определились, во всяком случае, уже вполне отчетливо, недвусмысленно.
Лейтенант Володька отринул спасение по блату, отринул жизнь по протекции, удачу за чужой счет. «И покой, особенно ощутимый после разлада и разброда последних дней, сошел на него: он возвращается «на круги своя», на свой, выбранный им самим путь... Он сразу словно вырубил себя из московской жизни... Он был уже там, подо Ржевом...» Он выдержал испытание тылом, как раньше выдерживал испытание фронтом, — это был двуединый для него процесс. И потому, что он вовремя вернулся тогда к своим ребятам под Ржев, он теперь смог вовремя прийти к нам, человек из-под Ржева.
Л-ра: Новый мир. – 1981. – № 11. – С. 245-249.
Произведения
Критика