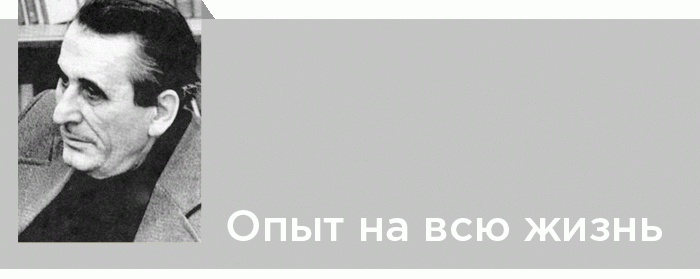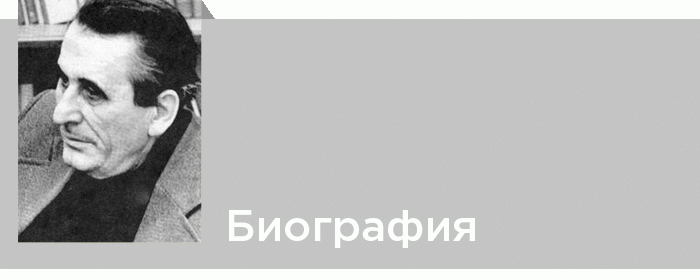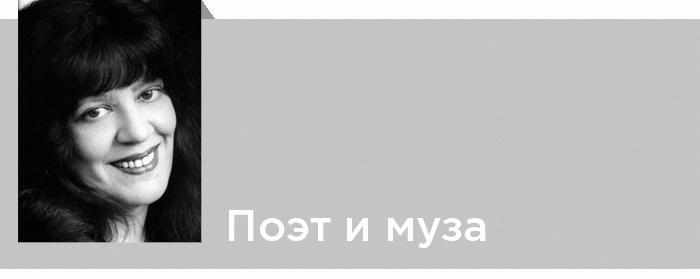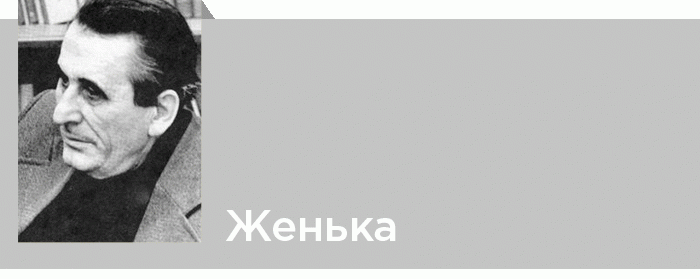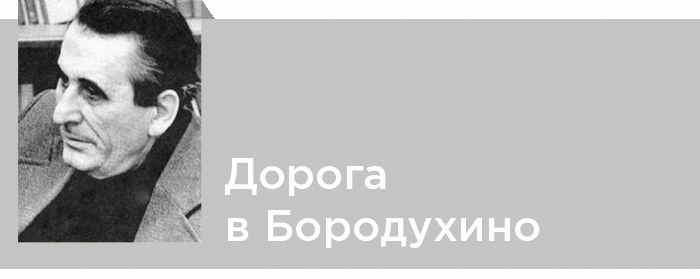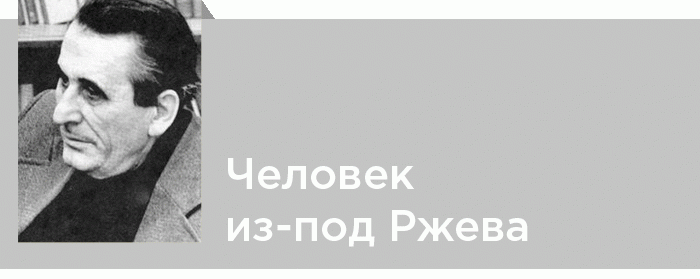Сашка, Володька, Вячеслав (Судьбы героев и судьба автора)
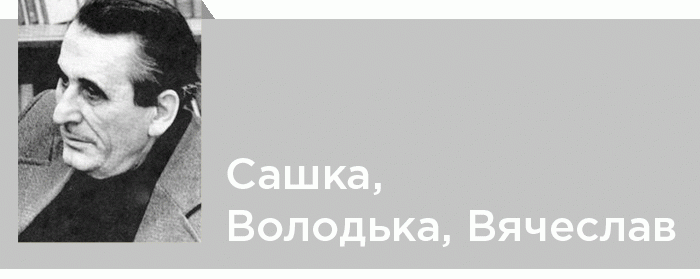
Александр Коган
«Пришедший в литературу поздно тогда, когда ныне его сверстники уже завершили свой жизненный путь, — Кондратьев, перед тем как взяться за перо, сам прошел вместе со своими будущими героями их фронтовые дороги; вместе с Сашкой и лейтенантом Володькой стоял насмерть на Селижаровском тракте, форсировал Овсянниковский овраг, уходил в «отпуск поранению»... Он писал о тех, кто воевал и погибал подо Ржевом, но и фронтовики, сражавшиеся под Москвой, под Сталинградом, на Ладоге и Днепре, узнавали в его рассказах, составивших, в сущности, единый «ржевский роман», самих себя, свои чувства и мысли, свой жизненный опыт, свою радость и боль...»
Выражение «единый ржевский роман» принадлежит Виктору Астафьеву. Первоначально сам Кондратьев так и смотрел на свое назначение: рассказать правдиво, не мудрствуя лукаво, ничего не выдумывая, «как это было на земле». Не «вообще» на земле, а именно там, подо Ржевом, пусть и не получившим официально статуса города-героя, но оставшимся в памяти всех, кто там воевал, одной из самых героических и трагических страниц Великой Отечественной. Недаром же и свое знаменитое обращение от имени павших А. Твардовский начинает строкой: «Я убит подо Ржевом». Не где-нибудь, а именно подо Ржевом — такова планка испытаний, мера трудностей...
Вспомним потрясающий эпизод в «Селижаровском тракте»: на опасное, почти наверняка гибельное задание должен идти один из трех взводов. Чей? «Только бы не мой», — почти что молится про себя любимый герой автора, во многом — его двойник. Но странное дело: ни герой, ни автор не кажутся от этого хуже, а лишь становятся по-человечески ближе нам (вспомним, у Юлии Друниной: «Кто говорит, что на войне не страшно, // Тот ничего не знает о войне»). Тяга к предельной правдивости резко отличала кондратьевскую прозу от потока «шапкозакидательских», а по сути — лакировочных произведений той поры и, напротив, сближала с суровой, «неуступчивой» прозой Константина Воробьева, Виктора Астафьева, Василя Быкова. А прежде всего, конечно же, с творчеством и личностью Виктора Некрасова, который на протяжении ряда лет оставался для Кондратьева ориентиром не только писательским, но и человеческим...
Итак, достоверность. В большом и малом. И все же — не одна она, не только она. Что же еще?
Ответ на этот вопрос — в «Сашке». Не случайно К. Симонов из ряда вещей, написанных Кондратьевым, выделил именно эту, именно ее сопроводил предисловием, и именно с нее, с «Сашки», началось восхождение писателя.
Что же такого было в этом «Сашке»?
Да прежде всего — сам Сашка, без кавычек. До «Сашки» мы имели о войне литературу генеральскую, лейтенантскую, какую угодно, но только не солдатскую. В поэзию подлинный солдат пришел много раньше — в «Теркине»; в прозе — так уж сложилось— именно в «Сашке», этой, по определению Симонова, «истории человека, оказавшегося в самое трудное время в самом трудном месте и на самой трудной должности — солдатской». Кондратьев глядит на войну глазами своего героя, мыслит и рассказывает в его интонации — и переживания Сашки становятся нашими переживаниями. Не только по поводу будней войны (пайка хлеба, рваные сапоги), ее немудреного, но куда как тяжкого быта. Но еще и по поводу больших проблем бытия (хотя сам Сашка никогда таких высоких слов не употреблял, а пожалуй, и не знал). Можно ли использовать во имя правой цели неправые средства? Перед этой вечной дилеммой — не в общефилософском, а во вполне конкретном, «сиюминутном» земном наполнении — Сашка (как за много лет до него Венька Малышев из нилинской «Жестокости») оказывается не по своей воле. Вспомним эпизод с пленным немцем. Немец не верит в правдивость нашей листовки, обещающей военнопленным «хорошую жизнь»; Сашка, напротив, верит и убеждает в том же пленного: это, мол, у вас, фашистов, пропаганда, а у нас — святая правда.
Но Сашкиному комроты нет дела до того, что там пишется в листовках. Фриц? Фриц. Не хочет давать показаний против своих? Расстрелять! Да не кому-нибудь — Сашке! А как же листовка?!. Что должен чувствовать честный человек, которому поверили другие? Поверили — и расплатились за это доверие. Они — расплатились, а он?.. Что должно твориться после этого в его душе, пока он жив (если он вообще еще может жить после того, как — пусть невольно — обманул других; Венька, как мы знаем, не смог)...
Читатель помнит, как закончился (не без помощи автора) этот конфликт в повествовании (в жизни он, увы, разрешился жестче, трагичнее). Кондратьев сам однажды рассказал об этом в нашем диалоге: «Разговор с читателями книги «Сашка» (сборник «Слова, пришедшие из боя», вып. 2-й. М., «Книга», 1985). Но вот уж сколько лет прошло после публикации рассказа, а все бьет по сердцам этот вечный вопрос, все не умолкает в нашей душе любовь к Сашке, тревога за его судьбу, за хранимые в его душе простые, но вечные нравственные ценности...
И еще одну сквозную тему кондратьевского творчества хотелось бы отметить: цена победы — вот что его волновало до последних дней. Да, война дело тяжкое, кровавое, кто спорит; но впрямь ли были неизбежны такие жертвы?! Да, нам нужна была, как сказано в песне, «одна победа, одна на всех...». Но «мы за ценой не постоим» — хорошо для песни, не для жизни...
Мотив этот пронизывает все произведения Кондратьева, это поистине долг живого перед павшими. И одновременно — урок на будущее. Как тут опять же не вспомнить Александра Твардовского:
На торжестве о том ли толки,
Во что нам стала та страда,
Когда мы сами вплоть до Волги
Сдавали чохом города.
О том ли речь, страна родная,
Скольких сынов и дочерей
Не досчитались мы, рыдая,
Под гром победных батарей.
«Речь не о том, но все же, все же, все же» (по слову того же Твардовского). У Кондратьева речь именно «о том». О том, сколько народу полегло в этих «боях местного значения», а могли бы жить, работать, растить детей, кабы их командиры действительно воевали бы не числом, а умением... Это чувство нравственной ответственности перед теми, кто воевал на переднем крае, диктовало героям Кондратьева (как и самому их творцу) — не засиживаться в «отпуске по ранению», не оставаться равнодушными к судьбам вчерашних разведчиков, не нашедших себя в кутерьме послевоенной Сретенки, а еще пуще — в наши дни. Об этом — не один раз — в его переписке с В. Астафьевым и В. Быковым, публикуемой в № 1 «Вопросов литературы». Отсюда же — и бескомпромиссно-резкие оценки деятельности наших военачальников в годы войны, вплоть до самых известных и выдающихся (в той же переписке). Оценки, которые иного читателя, воспитанного на официальной системе ценностей, могут и резануть своей непривычностью, «неприглаженностью». Но ведь ни сам Кондратьев, ни его респонденты (те же Быков или Астафьев) и не претендовали на непогрешимость, «окончательность» своего мнения, не выдавали его за истину в последней инстанции. Они писали не для печати — писали то, что подсказывала душа, память об их фронтовых побратимах, оставшихся лежать на полях сражений; о жертвах необходимых — и о тех, которых можно было бы избежать, если бы вышестоящие командиры больше думали о людях, а не о том, как отрапортовать в Ставку...
«Сашка» — первая публикация Кондратьева, но не первое произведение, написанное им. Еще до «Сашки» был начат «Селижаровский тракт»... «Знаменательная дата», «Овсянниковский овраг», «Асин капитан», «Женька», «Дорога в Бородухино», «Борькины пути-дороги» — от вещи к вещи выстраивалась целая сага. По материалу — лишь об одной странице войны — ржевской, по сути — о народе на войне. А когда позже к этой саге прибавились повесть «Встречи на Сретенке», роман «Красные ворота» (при явной художественной неравноценности этих произведений по сравнению с «Сашкой»), — стало ясно: как бы ни оценивать отдельные вещи этого цикла, перед нами по существу — летопись жизни целого поколения. На войне и в мире.
Сам Кондратьев довольно болезненно относился к постоянным сопоставлениям того, что он позднее написал, с «Сашкой» как меркой, эталоном. Нужно честно признать: «Сашка» действительно оказался самым гармоничным, художественно непревзойденным его созданием — и по высоте нравственной идеи, и по выбору главного героя, и по неповторимой, счастливо найденной интонации повествования. Такого единства (точнее, «триединства») этих компонентов ему больше ни разу не удалось достичь. «Встречи на Сретенке», «Красные ворота», «Искупить кровью» — все эти вещи поддаются пересказу на уровне сюжета, даже если при этом и пропадут некоторые неповторимые детали быта тех дней, которыми Кондратьев очень дорожил — настолько, что использовал их порой слишком щедро, без должного, на мой взгляд, отбора...
«Сашку» так не перескажешь. То есть события-то пересказать можно, да пропадет самое главное характер, не «живущий» вне языковой стихии... «Сашка» был художественным открытием; другие вещи (кроме, пожалуй, «Селижаровского тракта») в какой-то мере его тиражированием. Не сказать об этом — со всей определенностью — было бы нечестно. Но также определенно надо сказать и о другом. О том, что именно из сочетания всех его произведений (при явной их, повторяю, неравноценности) выстраивается история поколения — страны — народа.
Теперь я приступаю к самым трудным для меня, да, думаю, и для читателя страницам этого разговора.
Была — в начале 50-х — переведена у нас с английского книжка «Кто убил Джо Барелла». Речь в ней, впрочем, шла, скорее, не о «кто», а о «что»: что убило; что вызвало самоубийство...
Не без влияния (подсознательного) этого названия я (в конце тех же 50-х) озаглавил свою, как мне и сегодня кажется, лучшую (не оттого ли так и оставшуюся ненапечатанной?) статью — «Кто убил Веньку Малышева»...
Когда, почти 30 лет спустя, в статье о творчестве Кондратьева я сопоставил кондратьевского Сашку с нилинским Венькой Малышевым, мне и в голову не могло прийти, что — объективно — заложено в этом сходстве, во что оно может прорасти.
Сегодня, задним числом, задумываешься уже не о Джо Барреле. И даже не о Веньке. Задумываешься: кто (или что? / убил/о) Вячеслава Кондратьева?
По большому счету — Кондратьева догнала война.
Раньше или позже она догоняет всех, кто на ней был, кто в ней — так или иначе — участвовал. Кого болезнями, полученными, как пишется во ВТЭ-Ковских документах, «в результате пребывания на фронте»; или — на рытье окопов; или — в немецком плену; а то и вовсе — за «нашей» колючей проволокой (после того плена — этот, после чужого, «ихнего» — наш, ничем не слаще, а то и еще горше); кого — открывшимися старыми ранами, мгновенной остановкой сердца, не выдержавшего чудовищных пере грузок Эпохи... Гудзенко, Наровчатов, Луконин, Симонов, Орлов, Твардовский... — список длинен...
Кондратьева война догнала полвека спустя. Догнала по-особому — пулей из пистолета. Не оставшегося с войны, как сообщил, по свежим следам трагедии, «Московский комсомолец» (тот пистолет, действительно, когда-то был, да выброшен Кондратьевым в пору, когда незаконное хранение оружия могло стоить ему многого), и не именного, как романтично, в полном соответствии со своим названием, утверждает ярославский «Очарованный странник» (кто стал бы на фронте вручать именное оружие — сержанту, пусть даже старшему...). Из обычного пистолета, переделанного не то из подаренного ему французским поклонником газового, не то просто найденного где-то «старья», доведенного им до ума, как поется в гимне нашей молодости, «своею собственной рукой».
Немец не убил, бандит не тронул — сам себя порешил... Но все равно, пуля — оттуда, из той войны. Из ею привитой тяги к оружию как единственной, вроде бы спасительной гарантии, обернувшейся на деле гарантией гибельной. Как там у Пушкина:
Из мертвой главы гробовая змея
Шипя, между тем, выползала...
Гробовая змея войны...
Но — не только она. Не одна она...
Тогда — что же?
Этого — в точности — мы уже никогда не узнаем: записки Кондратьев не оставил. Можно лишь предполагать (не выдавая, разумеется, своих предположений за истину в последней инстанции).
Год назад такой разговор был невозможен. Сама мысль о нем казалась тогда кощунственной. Свою статью на эту тему («Нельзя ли без сенсаций?» — Московская правда, 1994, 4 января) я заканчивал призывом: не смаковать трагедию, не публиковать скороспелых версий — помолчать, подумать.
Не меняю — в принципе — своей точки зрения и сейчас. Но есть и другие люди, другой взгляд на эту непростую проблему.
Судачили и писали разное. Одни: просто несчастный случай — чистил трофейный, оставшийся с войны пистолет, нечаянно сработал курок (газета «Голос»). Другие: сознательное самоубийство на политической почве, неприятие окружающего «театра абсурда» (В. Бондаренко — на «переходе» от «Дня» к «Завтра»). И все бы — ничего, кабы авторы этих версий ограничивались предположениями — нет же, отсутствие доказательств компенсировалось крайней категоричностью — так, словно авторы были непосредственными свидетелями трагедии или, в крайнем случае, получили — тайным, одним им ведомым путем — посмертное послание Кондратьева...
Впрочем, на всех этих версиях можно было бы не останавливаться в силу их полной бездоказательности.
Но не так давно — уже после того, как статья моя была сдана в редакцию, в «Правде», в двух номерах подряд (20 и 21 сентября
Нам (вам, мне, им) могут нравиться или не нравиться те или иные из цитируемых Кожемяко высказываний Кондратьева, вы можете соглашаться или не соглашаться с ним (с ними), но это — Кондратьев подлинный, непридуманный: его голос, его мысли... И все свои претензии по этому поводу, все согласия и несогласия адресуйте (если сможете!) самому Кондратьеву — Кожемяко за своего героя не в ответе...
Да, Кондратьев у Кожемяко — подлинный. Иной вопрос — весь ли это Кондратьев? Не оказалась ли любовь Кожемяко к своему герою — скажем так — избирательной, не заставила ли изначальная, априорная «установка» на одну лишь версию случившегося, излишняя «зашоренность», «зацикленность» на ней обойти — пусть даже невольно, бессознательно — все другие возможные мотивировки? Не обеднило ли, не упростило ли это представлений автора статьи о характере своего героя и о том, что случилось с ним?
Кожемяко прослеживает динамику мысли писателя, эволюцию его суждений о нашей жизни: о кризисе, в которой мы оказались, о его виновниках... Здесь так и просится добавить: и о путях выхода из него. Добавления, однако, не получается: путей этих не нашел, увы, и сам Кондратьев (как не знаем этих путей на сегодня и все мы, даже если делаем вид, что знаем!). И именно в этом была, если уж говорить о мировоззренческих истоках случившегося с Кондратьевым, его духовная драма, как в зеркале отразившая, да не просто отразившая — сконцентрировавшая духовную драму времени. Назад, в застой? — ни в коем случае, для Руси это было бы трагедией (об этом у Кондратьева — тоже достаточное количество высказываний, в том числе и в тех статьях, которые цитирует Кожемяко, но эти места он почему-то обходит молчанием. Не нужны?). Вперед — но куда? Туда, куда нас ведут, и так, как нас ведут? — нет, это тоже — трагедия, и не стоит спорить, какая из двух трагедий больше... Особенно характерно в этом смысле его последнее письмо Василю Быкову, напечатанное в «Комсомольской правде» (28 сентября
Вот эта двойная безысходность, тьма в обоих концах тоннеля и сказалась, думаю, роковым образом на душевном состоянии писателя... Кожемяко же в своей статье делает акцент лишь на одной стороне этой безысходности — на неприятии Кондратьевым дня сегодняшнего, властителей нынешних. Тут он и доказателен, и убедителен. Зато вторую сторону проблемы — решительное неприятие Кондратьевым поисков выхода по старому «маршруту» — Кожемяко не то чтобы не упоминает вовсе, но «проборматывает». И это — хочешь не хочешь — упрощает трагедию, создает определенный перекос в восприятии ее истинных причин во всей их многосложности.
Мне лично кажется, что у случившегося (как это обычно и происходит при большинстве самоубийств) не было какой-то одной-единственной причины. Отчего покончил с собой Есенин? От раздрызганной, изломанной — и обществом, и им самим — жизни? Или оттого, что готов быть отдать «Октябрю и Маю» душу, но не лиру? А Маяковский? Оттого ли, что «любовная лодка разбилась о быт», или оттого, что «себя смирял, становясь на горло собственной песне?» А Фадеев? Тут все сплелось в единый узел: чувство вины перед теми, чью трагическую судьбу он — когда невольно, «по должности» Генсека ССП, а когда и вполне по доброй воле, «в охотку» — визировал; и горечь за судьбу собственного — какого ни есть — писательского дарования, не подмятого, так изломанного бюрократическим служением, интеграцией в партийную элиту с ее правилами игры (не кнутом, так пряником!); и неверие в тот путь, на который вступала страна после XX съезда, восприятие его — и своего места, своей судьбы в нем — как тьмы в конце тоннеля? Что тут было главным, кто скажет? Был целый узел причин, сплетение обстоятельств, объективных и субъективных. В определенных условиях этот узел затянулся намертво.
Так, намой взгляд, случилось и с Кондратьевым.
Всем сердцем, всей душой поверил он вначале в перестройку. И не столько в декларации Горбачева (им-то он быстро определил цену), сколько в преобразующую роль рыночной экономики, в торжество демократии и свободы слова... Но рынок пришел, а света не прибавилось; свобода литературы от диктата государства обернулась несвободой экономической, зависимостью от денежного мешка, от «жирных котов». Разрыв между богатыми и бедными все увеличивался, участь ветеранов войны становилась все хуже...
Советской системой Кондратьев не очаровывался никогда. Но пережить — к исходу жизни — еще одну глобальную переоценку ценностей было, ох, как нелегко...
В 1989-1991 гг. он неоднократно, со снисходительной усмешкой втолковывал мне: «Чего вы так боитесь рынка? Он тем и хорош, что сам все поставит на свои места!»
Но вот другое воспоминание. Лето 1992-го — все в той же Малеевке — я читал в его присутствии полушуточную, полусерьезную поэму «О том, как Музе живется в Рузе». В ней, среди прочего, были такие строки:
А что ж, приятель, ты хотел ?
Как думал ты, красавец ?
Чтоб шел повсюду Беспредел,
Тебя лишь не касаясь ?
Чтоб, проложивши путь шпане, Жирующей на рынке,
Ты правил только по стране - Не по себе поминки ?
Нет, этот номер не пройдет.
Пусть мы покуда здравствуем,
Но самый скверный анекдот —
В котором мы участвуем.
Прослушав их, Кондратьев сказал задумчиво: «Знаете, может быть, в чем-то вы и правы. Я и сейчас не отказываюсь от идеи рынка — иного пути для нас просто нет, в этом мы уже убедились. Но всех последствий этого поворота мы не просчитали, всех опасностей не предвидели. А должны были»...
И все же, дружа с Кондратьевым много лет, зная несокрушимую силу его — в обычных обстоятельствах — железного душевного здоровья, рискну предположить: такого конца не было бы, не навались в одночасье еще и давняя, периодически «навещавшая» его болезнь. Болезнь, у нас на Руси, увы, известная: только в наше, советское время она сгубила Есенина и Рубцова, подкосила Павла Шубина, укоротила в какой-то мере век таких разных людей, как Фадеев и Твардовский, Смеляков и Домбровский, С. Довлатов и Вен. Ерофеев... Кондратьев, к сожалению, не был тут исключением... Держался стойко, по нескольку месяцев, порой — годами, но уж когда подступало... А тут подступило, и не одно — все сразу.
Общественная атмосфера становилась все сложней, оптимизма не внушала. Все неопределеннее, туманнее становились в этой обстановке и судьбы литературы в целом, и своя собственная — писательская, а значит, и человеческая, жизненная судьба. Скулить Кондратьев не любил, нытье было не в его характере. Но, по словам Н.А. Кондратьевой, рассуждения подобного рода ей приходилось в последние дни его жизни слышать от него не раз... А тут еще добавилось (возможно, оказалось последней каплей) личное горе. В его отсутствие скончался давний друг, тоже бывший фронтовик, художник и немного поэт Борис Тедерс. Его уход из жизни Кондратьев пережил особенно тяжело, впервые, быть может, с такой остротой ощутив, что «Беспощадное время бьет по нашим квадратам» (строки Як. Шведова, которые Кондратьев любил повторять в последнее время). На похороны Тедерса Кондратьев опоздал (был в Малеевке), пошел на «сороковины». И уже не вышел из «пике». Замаячила угроза инсульта, а значит, не только мучительного, но и бесполезного, в тягость себе и близким, существования. Такой жизнью — если это можно назвать жизнью — Кондратьев жить не захотел...
Всякие параллели рискованны. Но это не значит, что ими вовсе нельзя пользоваться. Важно лишь не принимать знак параллели за знак равенства, сопоставление — за тождество. Предупреждение, как мы дальше увидим, не лишнее.
Говоря выше о возможных причинах трагического ухода Кондратьева и о, если можно так выразиться, многопричинности подобных уходов, я помянул аналогии не только жизненные (Маяковский, Есенин) , но и литературные (Венька Малышев из нилинской «Жестокости»). Сравнение с Венькой Малышевым возникло не случайно. Видимо, и сам Кондратьев чувствовал себя последнее время в положении, чем-то напоминающем Венькино (или — Сашкино в одноименной повести). В положении человека, искренне поверившего поначалу новой идее, а значит — и новым, осуществляющим ее людям, да не просто поверившего, а всей силой своего авторитета позвавшего за собой других; в итоге же — с горечью наблюдающего, как те, за чей приход к власти он боролся, с кем шел поначалу в одном строю, оказавшисьу руля, цинично нарушают данные народу обещания. При этом — человека, бессильного что-либо предпринять и без вины виноватого (но всё равно — чувствующего свою вину!) перед теми, кто поверил ему и пошел за ним... Совсем, как у Сашки, но — с одним отличием: в «Сашке» автор мог (если не в жизни, то хотя бы в повести) облегчить судьбу героев; в реальности все произошло гораздо жестче. И не с персонажем, — с ним самим! «Вольный» распоряжаться судьбой героя, писатель оказался не властен над собственной судьбой: карта легла не по канону жанра, а по законам жизни...
В истории литературы такое случалось не однажды. В «Герое нашего времени» Лермонтов развязал «узел» Печорин-Грушницкий так, как ему бы хотелось: на дуэли Печорин выходит победителем, Грушницкий погибает... В дуэли автора с Мартыновым все случилось как раз наоборот...
Впрочем, кто бы из героев ни победил на дуэли, кровь побежденного это всегда и кровь автора-творца, его, героя, создавшего. И художественная победа оборачивается нередко человеческой, жизненной трагедией. Так произошло и с Пушкиным, как бы предугадавшим в судьбе Ленского — собственную судьбу. И все-таки не сумевшим отклониться от нее.,.
С Симоновым нечто подобное произошло дважды. В 1941 году он написал стихотворение «Мы не увидимся с тобой...», посвященное памяти пропавшего без вести и — как считалось тогда — погибшего Долматовского... Много лет спустя Долматовский (как оказалось, благополучно выбравшийся из плена и проживший с тех пор долгую жизнь) читал эти же, посвященные ему стихи в Большом зале ЦДЛ — на вечере памяти Симонова, перед его, Симонова, портретом...
В последней прижизненно опубликованной повести Симонова, названной, как и вышеупомянутое стихотворение, по его первой строчке — «Мы не увидимся с тобой...», ее главный герой (во многом alter ego автора — и по характеру и по судьбе) фронтовой газетчик Лопатин, посылаемый редактором на передовую, в последний момент — по семейным обстоятельствам — отбывает в прямо противоположную сторону, в тыл; вместо него на передовую отправляется его товарищ по редакции — Гурский. Отправляется — и погибает...
Когда Симонова не стало, его многолетний сотрудник по всем, кажется, редакциям — А.Ю. Кривицкий (какие-то его черты «вошли» в образ Турского) сказал мне, заикаясь больше обычного:
— Он меня похоронил в книге, а я его — в жизни. Лучше бы — наоборот...
На этот раз я Кривицкому поверил...
Не все закономерности творчества изучены. Как писал поэт, «Есть тонкие, властительные связи // Меж контуром и запахом цветка». В данном случае между тем, как «моделирует» судьбу героя автор, и тем, как складывается в дальнейшем его собственная судьба.
Сказанное имеет прямое отношение и к Кондратьеву. Сашку из беды «выручил», себя — не смог.
Разумеется, автор не адекватен своим персонажам. И все же... Есть над чем задуматься. Задуматься, но не выносить скороспелых вердиктов. Нельзя, в частности, не принимать в расчет и фактор субъективный. Рассматривая злосчастный выстрел не как случившийся, возможно, в состоянии аффекта, а как наверняка сознательный, политического значения акт (что сделали вначале Бондаренко «на переходе» от «Дня» к «Завтра», а затем, хотя и с оговорками, Кожемяко в «Правде»), невозможно объяснить, почему в таком случае Кондратьев не оставил никакой записки и почему он, бывший фронтовик, стрелял не в висок, не в сердце, не в рот, а — в живот. Уж он-то знал, куда и как надо стрелять! Находясь в полном сознании, «в здравом уме и твердой памяти», так не стреляют...
Самоубийство — почти всегда — результат многих обстоятельств, «равнодействующая» многих факторов. Невозможно — да и неэтично! — гадать над не остывшей еще могилой, что именно явилось последней каплей, спусковым крючком. Слишком тонкая это материя, чтобы ставить диагноз «наверняка». Ведь с течением времени нередко выясняется, что «диагноз» этот отражал не столько состояние обследуемого, сколько температуру общественного накала, уровень самосознания общества, а подчас — и самого «диагноста». Пусть о причинах случившегося спорят (ежели захотят) позднейшие исследователи; наше дело — предъявить материал, положить факты на стол. Факты, а не карты! И не позволять, чтобы с ними обращались как с картами. В выигрыше должны остаться не воюющие лагеря, не непримиримые оппоненты, а Правда.
XXX
Свою первую статью о творчестве Кондратьева (она была целиком посвящена повести «Сашка» и вошла потом в мой итоговый сборник «Уроки памяти») я назвал «по-чухраевски» — «Баллада о солдате». Нарушая все традиции и правила, мне хочется назвать эту статью так же. С одним отличием: та была — о герое его повести. Эта — о ее авторе.
Существует убеждение (и стойкое): самоубийство, мол, акт слабости; как говаривал Яшка Узелков в нилинской «Жестокости», это — «не наш метод, не наш, не советский аргумент». Когда и впрямь — слабости, а когда — и силы. Не поддаться «условиям игры», которые диктует тебе обстановка, ежели выясняется, что ты в ней обманулся и она для тебя — чужая, а впереди — не светит: не поддаться болезни, которая могла бы превратить тебя из помощника другим, более слабым, чем ты, в обузу для них; уйти непобежденным — для этого, вопреки расхожим представлениям, требуется мужество. Мужество солдата. Кондратьев этим мужеством обладал. Он доказал это в полной мере — своей жизнью и своей смертью.
Кондратьева нет. Но остались его книги. И осталась — до сих пор почти неизвестная читателям весомая и очень интересная часть его литературного наследия — переписка.
Переписка эта громадна. Круг его корреспондентов широк: от писателей одного с ним — фронтового — поколения, одной судьбы до рядовых участников войны, большей частью — людей переднего края, узнающих в его повестях и рассказах самих себя, свои фронтовые хлопоты, будни, быт — жизнь, идо людей иного, невоенного поколения — не всех, разумеется, но тех из них, кто продолжает мерить жизнь и судьбу, в первую очередь свою, мерками фронтовой нравственности.
Л-ра: Литературное обозрение. – 1995. – № 2. – С. 11-16.
Произведения
Критика