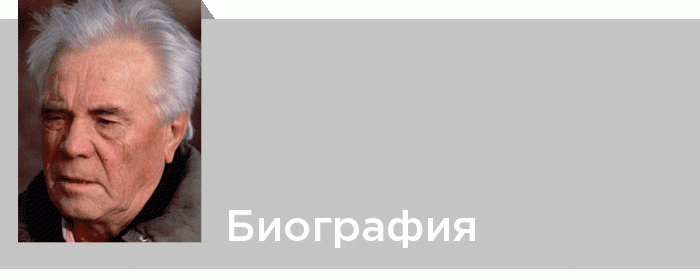Во имя любви (О творчестве Виктора Астафьева)

Лидия Фоменко
Пятидесятые годы. В литературу входят новые, молодые силы. Из уральского города Чусового идут в разные журналы рассказы, отмеченные печатью истинного таланта. Идут своеобычные миниатюры. И повествуется в них, как правило, о деревенской жизни, даже с чертами старины, но нет в этих затесях тоски по патриархальному социальному укладу. Дорого автору крестьянское трудолюбие, привязанность к земле, нравственные устои совестливого быта.
Так появилось в литературе имя — Виктор Астафьев. Человек бывалый, успевший, несмотря на молодость, заявил о себе как лирик.
Человек бывалый — что это значит? В данном случае — нелегкое детство в деревне Овсянке Красноярского края, работа в порту на Игарке, на железнодорожной станции Базаиха, а там — фронт, позднее — послевоенная жизнь на Урале, в городе Чусовом. Перебрав много разных жизненных дорог, ступил Астафьев на журналистскую, а потом — и писательскую. Вспоминая прошлое в недавней статье по поводу своего приближающегося пятидесятилетия, Астафьев неодобрительно пишет о критиках, которые подчеркивают его «сиротство». Задачу свою писатель определил так: «Стать профессионально читающим, думающим, работающим...» Автор несправедлив к своим критикам. Помню, одной из первых написала о нем рано ушедшая от нас Ленина Иванова, у которой и в мыслях не было поминать о сиротстве, да и впоследствии, кто бы ни писал об Астафьеве, прежде всего был восхищен его силой, а вовсе не «сиротством». Вот уж слово, которое ему не идет!
С первых же астафьевских шагов перед читателем явился зрелый талант, возмужавший и окрепший как-то сразу, хотя и не прошел литературной школы, и ничто, казалось бы, не готовило Астафьева к главному труду его жизни. Кроме — самой жизни. Такой талант не мог затеряться и не затерялся, а заявил о себе крупно, надежно. Изображая деревню, он находит в этом мире романтическое и новое. И уживается в его творчестве обнаженная жизненная правда с поэтически прекрасным в деревенской, порой даже в стародеревенской среде.
С конца пятидесятых годов и все следующее десятилетие читатель знакомится с деревенским детством астафьевского героя, оставившим в душе мальчика добрый след. И все — из-за бабушки, Катерины Петровны. Не знаю, горьковское ли тут влияние, как писала критика, или нет, — вижу только, что из самых недр жизни берет Астафьев своих персонажей, в том числе и печальницу, заступницу мальчика — бабушку. И «Конь с розовой гривой», и «Далекая и близкая сказка», и «Монах в новых штанах» — все эти зарисовки, пленительные своей поэтичностью, сразу же сделали имя Астафьева далеко слышным. Мы узнали поэта, хотя стихов его не читали. Мы ощутили плотность и насыщенность его прозы, полюбили его образную речь.
Через несколько лет после появления первых затесей Астафьев соединил рассказы о «поистине босоногом» деревенском детстве в одну книгу и назвал ее «Последний поклон». Сильная, мудрая и в высокой степени нравственная книга. И раньше, читая рассказы в разрозненном виде, можно было угадывать будущее мальчика-героя. Брошенные в его впечатлительную душу зерна должны были дать добрые всходы. Это было не что иное, как воспитание личности. И его воспитали добрым, отзывчивым, восприимчивым к красоте. «Раз у него к цветку душа лежит... значит, ему в этом смысл свой есть, значение свое, нам не понятное», — говорит о внуке дед.
Однако жизнь — не сказка. Она бывает и горька. Грянула война, и мальчик, тот самый «монах в новых штанах», тот маленький знаток лесного разнообразия, пробирается сквозь непогоду, полуголодный, плохо одетый... конечно же, к бабушке. В деревне бабушки не оказалось, она уехала, и мир для него стал тусклым, а себя он почувствовал незащищенным. Многое теперь он делает машинально. Даже охота на яманов не разнообразит его существование. Тем более, что приходится убивать прекрасное животное. Окружающая жизнь кажется юноше огромной, мир — неохватным. Впервые он с удивительной отчетливостью понял, что повзрослел.
В завершающем рассказе книги — это уже взрослый человек, совершающий «последний поклон». Это — окончательное прощание с детством и расставание с бабушкой навеки. Демобилизовавшись из армии, тот самый, знакомый нам мальчик, что радовался коню с розовой гривой, что любил музыку, сказки, стихи, чувствовал себя в родной стихии наедине с природой, тот самый юноша, в последний раз увидал самого дорогого человека, свою бабушку, и поклонился ей до земли.
«Жизнь-то какая была. Не приведи господь! — жаловалась бабушка. — Вся устала. Восемьдесят шестой год... Работы сделала — иной артели впору. Тебя все ждала. А жданье-то крепит». Человек живет надеждой и любовью. Этой мыслью Астафьев заканчивает свою книгу рассказов о детстве.
Вячеслав Шугаев настаивает на том, что Астафьев написал исповедь, что у него хватило мужества, «не щадя сердца», рассказать о давних годах детства. Да, конечно, исповедальность есть в этой книге. И автор имел на нее право. За этим «я» исповедующегося человека стоят народная жизнь и народные характеры. Вот почему «спазмы в горле» у читателя, как признается Шугаев. Они, эти «спазмы в горле», от узнавания настоящих людей с их высокой душой. Сильный эмоциональный заряд книги «Последний поклон» испытывает на себе каждый, в ком живет ощущение народной жизни.
Другая тональность тоже подвластна Астафьеву. Он бывает остро драматичен (рассказ «Восьмой побег» или повесть «Кража»). Когда писатель изображает даже представителей преступного мира, его не покидает вера в человека и помогает ему разглядеть в малолетних преступниках из «Кражи» людей, которых еще можно вернуть обществу. Проблема воспитания личности глубоко волнует Астафьева. О повести «Кража» много писали, в том числе и автор этих строк, и возвращаться к ней, быть может, не следовало бы, если бы она не была весьма заметной вехой в творчестве писателя. Поступки пятнадцатилетнего подростка Толи Мазова вводят нас в глубины человеческой души, показывают его стремление к справедливости и, наконец, понимание, что в одиночку бороться нельзя. Слова, сказанные о руководителе города на Крайнем Севере, в районе вечной мерзлоты, мне кажется, применимы к автору «Кражи»: «Он не принимал жизнь и мир в готовом виде, а видел его в работе, в борьбе и, сам поработав, приценивался к миру этому, как хозяин к дому, в котором ему жить, самому же и обихаживать его».
Люди, «обихаживающие» землю, все от одного корня — от корня высокой русской человечности.
Астафьева я с полным правом могу назвать мастером слова. Он много думает о своем «ремесле». Однажды он признался, что в рассказе ему милее всего интонация (то, что Бунин называл звуком), что любит он рассказ-раздумье. В этом смысле Астафьев стоит рядом с теми своими собратьями по перу, кто пишет «малую прозу», как правило, с думами о жизни: с добротой к человеку, к красоте его. Кто дорожит образным языком, сыновним трепетным отношением к родной природе, всегдашней и неизменной вдохновительнице и героине русских новеллистов.
* * *
Движет им любовь. Она у Астафьева — действенная. Она требует не эгоистического поклонения, а самоотдачи. Любовь к женщине — высочайшее проявление любви как гуманистического чувства. Вот крепкая сюжетная канва одного из рассказов Астафьева.
«Ранбольной» Сергей Митрофаньгч ездит в город каждый год на обследование для продления пенсии. Его раздражают эти поездки и осмотры, будто может отрасти за год его култышка, будто раны войны можно избыть до конца и он, не дай бог, станет «обворовывать» государство, незаконно получая пенсию. Сергей Митрофаныч, человек совестливый, поэтому, сурово поговорив с врачами, быстро отходит и только самому себе поверяет слова угрюмые, злые: «Закон такой! Ты, да другой, да третий, да все бы вместе сказали, где надо, — и переменили бы закон. Он что, из камня что ли, закон-то? Гора он, что ли? Так ведь и горы сносят...» Подумав так, он все же спокойно едет домой, хотя и ощущает ноющую боль во всем теле. Часто это с ним бывает. Жена повторяет каждый раз: «Война это, война по тебе, Митрофаныч, ходит». Да уж годы и годы прошли, а война все «ходит и ходит» по нему.
Но выношенное в войну и сейчас составляет нравственное его богатство, которое Митрофаныч стремится передать людям. Вот они, эти люди, городские современные мальчишки, отправляющиеся в армию, и девчонки, провожающие их. Песни у них новые, одежда — не придумать вычурнее, а слезы — те же, и прощанье то же. И Митрофаныча проняло до самого сердца, он, явственно видевший все их недостатки, стал им родным. Вернее, они стали ему родными. И пошел разговор, правдивый, душевный, и как бы ни далек был ребятам старый солдат, а слушали они его, задумавшись. И прежде всего покорили их его слова о русской женщине: «Баба, наша русская баба не может бросить мужа в увечье. Здорового может, сгульнуть... а калеку спокинуть — нет! Потому как баба наша во веки веков человек!» Сказавши такие слова, Митрофаныч как бы «дал ребятам всего себя рассмотреть оттого, что не было в нем хлама, темени, потайных закоулков». И запел он свою любимую — «Ясным ли днем». А сам все думает: «Честишь молодняк таким манером, ровно не твои они дети, а подкидыши?» Те же думы, те же заботы, что и в «Краже», хотя вся обстановка и сама атмосфера рассказа иная. В «Краже» мысли о молодежи, о воспитании приходят ежедневно, даже еженощно к директору детдома Репнину, бывшему царскому офицеру, волею случая ставшему воспитателем, а оказалось, что это и есть его истинное призвание. «Жизнь начинается с той поры, когда человек задумывается над поступками и отвечает за них», — так говорил своему любимцу, отличному парню Толе Мазову Репнин. Эти мальчишки в поезде еще ни за что не отвечают, но и к ним придет тот час, когда они почувствуют себя ответственными, и не только за свои поступки, но и за других людей, за нечто большее, чем их личная жизнь. И часто такие мысли приходят от соприкосновения с каким-то хорошим человеком.
У Астафьева много встретим примеров того, как человек подхватывает от другого добрые намерения и думы. О взаимовлиянии людей и написан рассказ «Ясным ли днем». Для «молодняка» не станет одним из полузабытых эпизодов встреча с фронтовиком. И для Пани тем более она не стала эпизодом. Она-то знала: «Все, что есть в ней и в нем хорошего, они переняли друг от друга, а худое постарались изжить». Вот и сентенция, но введенная в ткань повествования, в думы героини, она становится истиной, которую уже не забудешь.
И вот они — Паня и Митрофаныч — поют на два голоса все ту же, давешнюю песню «Ясным ли днем» и думают об одном и том же, только разными словами: «Так, видно, не избыть тебе войну до гробовой доски? Где твоя память бродит сейчас? По каким краям и окопам? Запахали окопы, заростили, а ты все тама, все тама...»
Один из основных мотивов творчества Астафьева — неизбытая война. Запахали окопы, поросли они травой, следа, вроде, не осталось, а шрамы ее так глубоки, что не запахать, не заростить. И снится Митрофанычу его орудийный расчет. И идет несобственно прямая речь, столь частая в рассказах писателя: «Покой был на земле и в поселке, а где-то там, в чужой стороне, вечным сном спал орудийный расчет... Отяжеленная металлом и кровью многих войн, земля безропотно принимала новые осколки, глушила в себе отзвуки битв».
Еще раньше в рассказе «Поросли окопы травой» Астафьев писал: «Земля умела хранить, земля умела молчать, земля умела печалиться». Это было как рефрен, как кредо человека, знавшего, что такое «отяжеленная металлом и кровью земля». Для того и нужен мир, для того и страстное обращение к заморскому мальчишечке, поющему о солнце, старого солдата, чтобы не вставали из-под земли эти отзвуки, чтобы не превращались в новые смертельные звуки: поймите, люди, солнце одно для всех! Преградите путь войне!
На одном из совещаний молодых писателей Астафьев заметил: многие молодые владеют законами ремесла, но это «еще не дает возможности говорить о мастерстве молодых. За изящной словесностью зачастую нет ни судьбы, ни откровения. Помню, как начинали писать мои сверстники, грубее, корявее, но зато сколько жизни было в их первых книгах».
«Откровение и судьба» воплотились в союзе Митрофаныча и Пани. Нет в бывшем солдате ни ухарства, ни удали, может, до войны и были, а теперь осталась одна неторопливость и основательность. Мягок он, мудр и глубок. Астафьева, однако, влекут к себе и другие характеры, колючие, ершистые. В рассказе «Дикий лук» - озорной, бесшабашный парень Генка, работавший в заполярном порту Игарка. Впрочем, присмотримся к Генке: может, это будущий Митрофаныч? Есть немного, да не совсем.
Генка, «мамино горе», «с-самого дня рождения как открыл рот, так вроде и не закрывал». И такой уродился, «все навыворот делает», электричество и то ногой выключает. Да просто силушка в нем бродит, силушка и азартное любопытство к жизни.
Приглядеться, однако, надо к Генке, не судить его с маху, как отъявленного балаболку. Есть у него и горе, да не высказывает он его. Разве он не болен своей бедой, тем, что отец и два брата убиты на фронте, а третий сгорел в печи в Маутхаузене? «Если война случится, — говорит он матери, — мне надо точно за тебя, за отца, за братьев и за себя отомстить».
Есть у Генки и радость — родной город. Со счастливой улыбкой показывает он Игарку приехавшей к нему в гости девушке Кате. И все-то здесь, оказывается, хорошо.
Читаю я у Астафьева об Енисее и Игарке, и встают в памяти летние эти места. Вижу вместе с Генкой величие их и красоту. Могучий Енисей с чуть пепельными широкими водами, полудеревянный город на высоком берегу, деревянные, поначалу удивившие, обшивки труб, протянутых поверх земли (ведь вечная же мерзлота!). И цветы, множество цветов, трудами и любовью людей выращенные на тяжких этих землях. И «наволочный» берег помню, так восторженно обрисованный Астафьевым. Он ступенчатый, а по ступеням этим «бушует разнотравье. Худосочна растительность Заполярья. Зато не нарадуется глаз, когда глянешь на наволочную. От самых песков, до такого блеска промытых, что на них и смотреть больно, начинается трава, сначала мелкая, редкая, а потом — выше и гуще, а дальше кустарник... По наволочному берегу растет дикий лук». И лук этот, густой и сочный, спасал жителей, когда еще не завозили сюда овощи. Такой вот и Генка, неуемный парень. Правда, бывает, Генка из озорства такое сделает, что и сам потом долго мучается. Оттолкнула его Катя, а он возьми и подстрели чайку. Для чего? Зачем?.. И находится добрая душа, которая берется научить его жизни, развить в нем все лучшее. Только... только к концу рассказ ломается, так органично расцветшая образность, поэтичность тускнеет. Живая, деятельная натура парня попадает в руки рассудочному человеку. Все-то Катя за него обмозговала и выводы все тоже сама сделала. Вот она уже представляет себе, как пойдет в ту бригаду, что «выбросила» из своей среды Генку, мешавшего ей сделаться бригадой коммунистического труда. Вот она уже произносит про себя нравоучительную речь, полную громовых обличений. Правильную речь, но мало естественную, и уж совсем не астафьевскую.
По-астафьевски другое... Лодка спешит к берегу. Поднимается ветер. Все в природе склоняется под его силой. Не склоняется только дикий лук. Он «все так же упорно целится набухающими стрелками в небо... У дикого лука цепкий корень, живучий корень».
Конечно же, это о Генке.
* * *
Мать Генки, давшая ему нравственную основу для жизни, бабушка из «Последнего поклона». Или мать, которая может не только дать жизнь, а и отнять ее, если понудят к тому обстоятельства («Солдат и мать»).
Женщина часто встает в рассказах Астафьева как самоотверженная, любящая, навеки преданная. Такова Паня. Такова Надежда из рассказа «Руки жены». Она когда-то сумела сломить гордыню любимого, солдата, потерявшего на фронте обе руки. «Это был случай, когда женщина ломала сопротивление мужчины и, пораженная тем, что сделала, лежала отвернувшись и молча кусала траву, чтобы задавить припасенные слезы, которыми прощаются с девичеством и встречают неотвратимую бабью долю».
Написана эта сцена с преклонением перед решимостью и самоотверженностью женщины, ее горячим стремлением отдать жизнь любимому, вначале не принимавшему ее как жертву. Нет здесь ни тени натурализма, все целомудренно и, я бы сказала, мудро.
В этой новелле Астафьев устами своего героя признается, что не умеет он говорить о любви достойными этой женщины словами. Чувства распирают грудь, а сказать о них не может. И журналисту, приехавшему написать о нем, о Степане Творогове, работнике подсобного хозяйства и охотнике, он говорит: «Надо было, дорогой человек, к Надежде присмотреться. Руки ее, вот что, брат, главное. И всего-то их две, как у всякого человека. Но зато уж руки!.. Да, хитрое это дело — высказать все, что на сердце».
В малом этом рассказе — «откровение и судьба». Откровение большого чувства в человеке, который силою любви не поддался своему несчастью, приспособил всевозможные крючки и железки, посредством которых делал крестьянскую работу: «Сам избу срубил, сам сено поставил, сам пушнину добывал, сам лыжи сынишке смастерил, сам и флюгер-самолет на крышу дома сладил...» Такова воля к жизни, такова сила любви.
Творогову оторвало руки во время взрыва в шахте. А чаще у Астафьева — инвалиды войны. Да и вообще о войне, которая еще «ходит» по человеку, хотя и давно отгремела, написано им немало. В талантливой и основательной статье А. Макарова «Во глубине России» справедливо сказано, что Астафьева волнуют не сами батальные сцены и картины, а «те редкие промежутки между боями, когда человек как бы возвращается к самому себе. Астафьева интересует не гром боев, а последствия, оставленные войной, след войны в душе человека».
Есть какое-то свечение, луч какой-то у человека, прошедшего через войну. И отблески его прежде всего в красивейшем человеческом чувстве — любви.
О любви Астафьев стал писать не так давно. Теперь же, в последние годы, часто встречаем у него счастливых в любви мужчин и женщин, как в рассказах «Ясным ли днем», «Руки жены». А то, бывает, остановится рассказчик на мгновение и задумается как бы мимоходом: что же это за чувство такое, любовь? Так было во время передышки между боями, когда солдаты узнают, что шофер Андрюха Колупаев, как будто грубиян, невзрачный мужичишка, вдруг влюбился. Да так, что заставил следить за своей любовью весь полк («Передышка»). И случилась тут неувязка, стоившая больших мучений Колупаеву. Узнала обо всем жена. Вызвал командир, и Колупаев, смирный, работящий тихоня, взбунтовался. Это любовь в нем заговорила, не та, силой ему навязанная в молодости, а новое чувство к украинке Гале, что повстречалась солдату во время «передышки» в маленьком сельце. «Большого достоинства боец», — констатирует рассказчик, телефонист Костя Самопряхин, который и поведал нам эту забавную историю. А история вовсе не забавная, и это понимает даже сорвиголова Костя. Шутливо-горький рассказ этот кончается тем, что не дождался своего часа шофер Колупаев, убили его на войне. И вот фраза, за которой, как часто у Астафьева, стоит многое: «Зауважали мы Андрюху, который вроде бы всех нас обнадежил на будущее своей любовью». Снова в любви — достоинство и надежда.
Иная, лирико-эпическая тональность, впрочем, превалирующая у Астафьева, в «современной пасторали» «Пастух и пастушка».
«Искусство должно быть очаровательным, — писал Куприну Репин, — без этого оно ничто». Астафьев — все больше набирающий силу художник, умеющий писать жесточайшую правду — видит «очарование искусства» в светлых и прекрасных проявлениях души человека. Он шел к своей «пасторали» рассказами о любви.
Элегическая картина сразу же пленяет читателя, сжимает его сердце, когда он открывает «пастораль». Серое осеннее поле. Ни зеленого колоска, ни цветка. По полю бредет женщина. Лицо ее прочертили морщины. Седые волосы выбиваются из-под серого старенького платка. Далеко видно ее согбенную фигуру. Она ищет что-то. Находит холмик, почти сровнявшийся с полем, и припадает к нему, шепча: «Почему ты лежишь один, посреди России?» И в финале рассказа: она ушла, а он «остался в безмолвной земле, опутанной корнями трав и цветов, утихших до весны, остался один, посреди России». Значит «пастораль» эта не только об одной личной драме. Лежит солдат посреди России, за которую отдал комбат свою молодую жизнь, а рожден он был для большой любви. Пронзительно горькие слова. Их поймет тот, кто знал невозвратные потери, кто искал такие вот заброшенные холмики, кто и потом, после смерти любимых, оставался верен их памяти, сохраненной на всю последующую жизнь.
Трагедия двух жизней... Вот вам и «пастораль». С этим идиллическим словом ассоциируется безмятежное существование. Но у Астафьева пастораль современная. Идиллии в ней нет.
Раз уж пастораль — значит, пастух и пастушка, по классическим канонам жанра, тоже должны быть.
Правда, я не все могу принять у Астафьева в этом его произведении. Мне показался нарочитым эпизод, в котором бойцы обнаруживают трупы старика и старухи, пастуха и пастушки. Достаточно было и одной пары, одной трагедии Бориса и Люси.
Ставши мастером прозы, Астафьев в «пасторали» как бы соединил две стихии своего творчества: поэтично-музыкальное восприятие мира и драму жизни, суровость и даже жестокость ее. При этом никакой декларативности. И если в критике раздавались голоса об «учительстве» Астафьева, то есть об открытости его мысли, то это так называемое учительство происходит оттого, что автору есть что сказать. Он не навязывает свои суждения. Ему важно, чтобы его мысль, его зов был услышан. Он соединяет поэтичное и драматичное часто в одном сюжете, а то и в одном человеке. Это — грани характера, грани личности — человек владеет всеми оттенками чувств.
* * *
Художественное мастерство Астафьева легко проследить по его «малой прозе», в его миниатюрах — затесях. Как уже много раз писали, это стихотворения в прозе. Настроение, коротенькое событие, какой-то яркий штрих жизни и раздумье, всегда раздумье надо всем, что встретилось писателю. Герой затесей — все тот же человек, из коренного астафьевского мира, если не герой, то рассказчик, в ком тоже нетрудно узнать автора. Характеры у этих людей могут быть разными, но настроение, миросозерцание, отношение к людям и к жизни — одинаковое.
Упоение прекрасным миром, жадное познавание нового в нем, сострадательная любовь ко всему живому, в том числе и к зверям. И всего сильнее выражена эта любовь в новелле «Яшка-лось». С болью написан этот поэтический рассказ-аллегория, рассказ-притча. Жеребенок Яшка, своенравный, вольнолюбивый, отстал от матери-кобылы. Отбился и скрылся в лесу, пригретый лосихой. И так полюбился ему лес и вольная жизнь здешняя, что сгинул он от людей. Все излазили люди, все переворошили, а найти Яшку не могли. Но вот изменил Яшке лес. Лосиха, ожидая своего детеныша, охладела, к Яшке, и остался жеребенок один. «Снова прибегал он к селу, снова звало его что-то далекое, полузабытое, вспоминался даже пьяный хромой бригадир. Яшка втянет воздух с прихрапом, вслушается в тайгу, заржет длинно, переливчато, — и голос его летит по горам, повторяясь в распадках, закатится в таежную даль, замрет где-то высоко-высоко». «Кого, Яшка, зовешь, кого кличешь?» — это уже спрашивает рассказчик, сочувствующий жеребенку человек.
Притчеобразность рассказа очевидна. Загубил Яшку бригадир, по пьяному делу погнал его на лед... Яшка вынес человека на прочный лед, а сам оборвался. Человеку ли, зверю ли — от плохого обращения, от несправедливости недолго и погибнуть. Приходилось читать, что у Астафьева есть этакие нравоучения в конце затесей, непреложные выводы. Как правило, это всегда мысли героев, а не выводы автора.
Стихотворения в прозе Астафьева всегда действенны, они написаны не для того, чтобы увидеть цветущий черемуховый куст, или полюбоваться статью чистокровного жеребца, или подслушать красивую песню девушки, — нет, у автора другие задачи.
Драматизм затесей сменяется легкой светлой печалью, мечтой, как у девушки Гали, дочки овдовевшего бакенщика («Песнопевица»). Поэтичный ее мир на реке был не таким уж безмятежным, как могло показаться. Прежде всего отец, как и все замкнутые герои Астафьева, не сумевший сказать дочке, что она значила для него, как скрашивала она его одиночество, как любит он ее. А она, «песнопевица», как прозвал ее отец, все тянула и тянула своим тоненьким голоском песни взрослых, потому что не было у нее детства, и детских песен она не знала вовсе. Уже и отец умер, и в городе она живет, а все что-то из далекого детства вдруг всплывает в ней, и девушка «выходит на набережную... смотрит на реку, на мигалки-бакены... провожает глазами многооконные светлые пароходы с веселой музыкой и чего-то ждет. Она ждет, когда один из этих пароходов подойдет к ней, возьмет ее с собой, увезет туда, где ей пристать захочется. Может быть, там, в темноте, светится, горит тот единственный огонек, живой и теплый, о котором она мечтает так давно и терпеливо».
Душевные переживания всегда в рассказах Астафьева конкретны. И если заговорит писатель о красоте, то сделает это непременно в бытовых, либо в военных, либо в каких-либо еще конкретных условиях. В рассказе «Как лечили богиню» советский солдат и пожилой поляк без устали, не евши, не обращая внимания на обстрелы, «лечили богиню Венеру». «Вылечили» поврежденную статую богини, и вдруг снова обстрел. И «стояла изувеченная, обезображенная богиня Венера. А у ее ног, в луже крови, обнявшись лежали два человека — советский солдат и седовласый польский гражданин, пытавшиеся в одиночку исцелить побитую красоту». Опять о красоте, которая сродни любви, опять — против зла, против фашизма. И снова замечу: все это не декларативно, а в самой художественной основе произведений, не тронутых излишней назидательностью. Все выводится из характеров и поступков человека, которого так мастерски лепит автор.
* * *
Еще много будет этих затесей. И будут новые герои, кого он ищет, кого ждет, кого умеет отыскивать среди множества — любимые, работящие, достойные счастья. Весёлые и гордые люди! И будет счастье творчества, потому что движет пером писателя большая любовь к людям.
Л-ра: Звезда. – 1974. – № 3. – С. 197-202.
Произведения
Критика