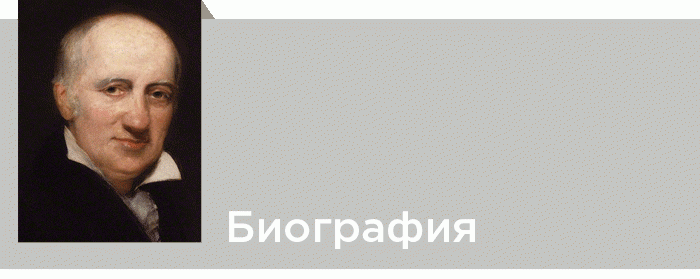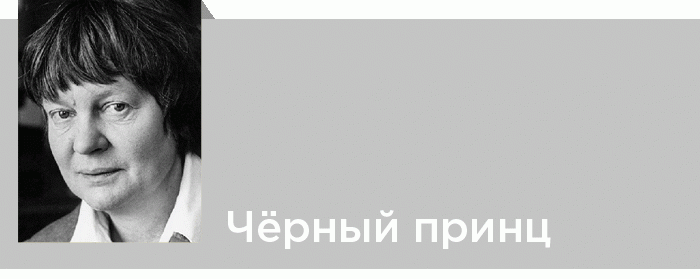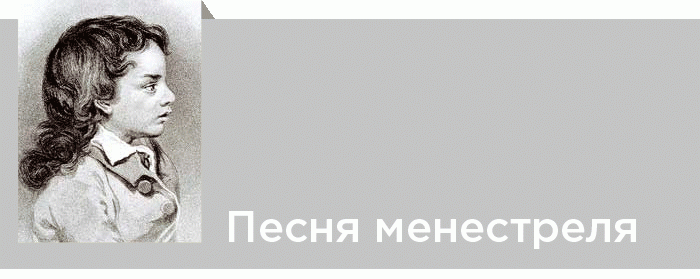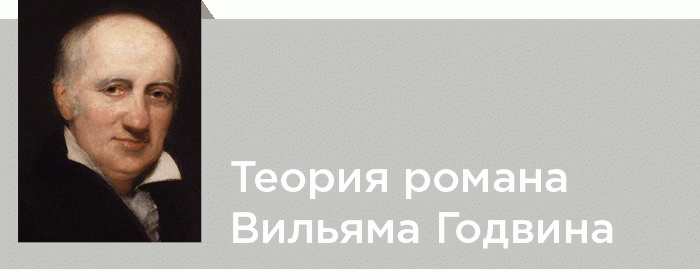Уильям Годвин. Калеб Уильямс
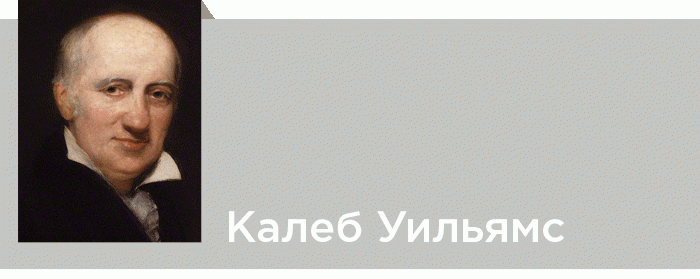
(Отрывок)
КНИГА ПЕРВАЯ
Среди лесов леопард щадит себе подобных,
И тигр не нападает на детенышей тигра.
Лишь человек всегда враждует с человеком.
ГЛАВА I
Жизнь моя в течение многих лет являла собой зрелище бедствий. Я служил мишенью для недремлющей тирании и не мог уйти от ее преследований. Мои лучшие ожидания были разрушены. Враг мой оказался глухим к мольбе и неутомимым в гонениях. Мое доброе имя, равно как и мое счастье, стали его жертвами. Всякий человек, как только он узнавал мою историю, отказывался протянуть мне руку помощи в моем несчастье и проклинал мое имя. Я не заслужил этого. Совесть моя свидетельствует о моей невиновности, несмотря на то, что мои заявления об этом кажутся невероятными. Как бы то ни было, теперь мало надежды на то, чтобы я выскользнул из сетей, опутывающих меня со всех сторон. Писать эти воспоминания меня заставляет только желание отвлечься от моего прискорбного положения и слабая надежда на то, что благодаря этим запискам потомки, быть может, воздадут мне справедливость, в которой отказывают современники. Во всяком случае, рассказ мой будет отличаться той последовательностью, которая бывает редко достижима, если в основу не положена истина.
Родители мои были простые люди из отдаленного графства Англии. Они занимались тем, что обычно выпадает на долю крестьян, и единственное, что я мог получить от них, – это воспитание, чуждое обычным источникам порочности, да оставленное мне в наследство доброе имя, – увы! давно утраченное их несчастным сыном. Меня не учили никаким начаткам наук, кроме чтения, письма и арифметики. Но ум у меня был пытливый, и я не пропускал ни одной возможности расширить свои познания из разговоров или чтения. Мои успехи оказались значительнее, чем это позволяло ожидать мое положение.
Были и другие обстоятельства, о которых следует упомянуть как о таких, которые оказали влияние на историю моей жизни. Ростом я был немного выше среднего. Не отличаясь на вид особенно крепким слежением, я был тем не менее на редкость силен и ловок. Суставы мои были гибкими, и во всех юношеских играх я достигал высокого совершенства. Однако мои духовные склонности находились до известной степени в противоречии с тем, что внушало мне мальчишеское тщеславие. Я питал безусловное отвращение к бурному веселью деревенских щеголей и в то же время, желая отличиться, нередко участвовал в их развлечениях. Впрочем, мое умственное превосходство дало новое направление моим мыслям. Я с восторгом читал о подвигах храбрости; в особенности интересовали меня рассказы, в которых физическая ловкость или сила героев помогали им преодолевать затруднения и препятствия. Я с большим увлечением предавался занятиям механикой и значительную часть времени посвящал попыткам сделать какое-нибудь изобретение в этой области.
Главной движущей силой, пожалуй больше чем что-либо другое направлявшей всю мою жизнь, было любопытство. Оно-то и толкало меня к механике; я стремился проследить разнообразные следствия, порождаемые определенными причинами. Вот что превратило меня, так сказать, в самородного философа; я не находил покоя, пока не познакомился с тем, как объясняет наука явления вселенной. Все это зародило во мне непреодолимое влечение к повестям и романам. Захваченный каким-нибудь приключением, я трепетал, как будто все мое будущее счастье или несчастье зависело от развязки. Я читал, я пожирал сочинения этого рода; они овладевали моей душой. Действие, которое они производили, часто сказывалось на моей наружности и на моем здоровье. Мое любопытство, впрочем, не было низменного характера: деревенские сплетни и пересуды не имели для меня никакой прелести; мое воображение надо подстрекать, если же этого не делается, то любопытство засыпает.
Мои родители жили во владениях Фердинанда Фокленда, очень богатого сельского сквайра. В раннем возрасте меня отметил своим милостивым вниманием управляющий поместьем этого джентльмена, мистер Коллинз, который имел обыкновение навещать моего отца. Он одобрительно и с большим вниманием следил за моими успехами и давал своему хозяину лестные отзывы о моем трудолюбии и дарованиях.
Летом *** года мистер Фокленд, после нескольких месяцев отсутствия, снова посетил свое имение, находившееся в нашем графстве. Это было тяжелое для меня время. Мне было тогда восемнадцать лет. Отец мой в этот день лежал дома в гробу. Матери я лишился за несколько лет перед тем. В таком беспомощном положении застало меня послание сквайра, содержавшее приглашение явиться в господский дом на другое утро после похорон отца.
Хотя книги мне не были чужды, но людей я не знал. Мне до сих пор не представлялось случая общаться с людьми столь высокого звания, и теперь я испытывал немалое смущение, смешанное со страхом. Мистер Фокленд оказался человеком маленького роста, чрезвычайно хрупким и изящным. В противоположность тем грубым и неподвижным лицам, которые я привык наблюдать, каждый мускул, каждая черта его лица казались в высшей степени выразительными. В обращении его были мягкость, внимательность, человечность. Глаза были полны жизни, но на всем его облике лежала печать серьезной и печальной торжественности, которую я по неопытности принял за черту, унаследованную от длинного ряда предков и помогающую сохранять расстояние между высшими и низшими. Взгляд его выдавал душевное беспокойство и часто блуждал вокруг с выражением печали и тревоги.
Я был принят так любезно и ласково, как только мог желать. Мистер Фокленд стал расспрашивать меня о моем учении, о моих взглядах на людей и вещи и выслушивал мои ответы снисходительно и с одобрением.
Эта доброта вскоре вернула мне значительную долю самообладания, хотя меня все-таки стесняло его обхождение – благосклонное, но неизменно полное чувства собственного достоинства. Когда мистер Фокленд удовлетворил свое любопытство, он объяснил мне, что нуждается в секретаре, что я кажусь ему достаточно подготовленным для этой должности и что если я, ввиду перемены в моем положении, вызванной смертью отца, соглашусь занять это место, то он примет меня в свою семью.
Очень польщенный таким предложением, я в горячих словах выразил ему свою признательность. Я поспешил распорядиться небольшим имуществом, которое мне осталось от отца, в чем мне помог мистер Коллинз. Во всем мире у меня не оставалось больше ни одного родственника, на доброту и участие которого я мог бы рассчитывать. Нимало не страшась своего одиночества, я, напротив, предался золотым мечтам о том положении, которое собирался занять. Я и не подозревал, что жизнерадостность и душевная беспечность, которыми я до сих пор наслаждался, должны вскоре навсегда покинуть меня и что на весь остаток дней моих я обречен страху и несчастью.
Служба моя была легка и приятна. Она состояла частью в переписывании и приведении в порядок некоторых бумаг, частью – в писании деловых писем, а также набросков литературных произведений под диктовку моего хозяина. Многие из последних представляли собой критические обзоры сочинений разных авторов, а также размышления по поводу этих сочинений, причем суждения клонились либо к установлению ошибок авторов, либо к дальнейшей разработке открытых ими истин. На всем этом лежала могучая печать глубокого и блестящего ума, богатого литературными познаниями и одаренного необыкновенной деятельностью и тонкостью суждений.
Я проводил время в той части дома, которая была предназначена для хранения книг, так как моей обязанностью было исполнять должность не только секретаря, но и библиотекаря. Здесь часы мои протекали бы в мире и покое, если бы мое положение не было сопряжено с некоторыми обстоятельствами, совершенно отличными от тех, с какими я имел дело в доме отца. В прежней жизни ум мой был глубоко захвачен чтением и размышлением; сношения с моими ближними бывали случайны и кратковременны. В новом же местопребывании личный интерес и новизна положения побуждали меня изучать характер хозяина, и я нашел в этом обширное поле для догадок и размышлений.
Он вел в высшей степени замкнутый образ жизни. У него не было склонности к кутежам и веселью; он избегал шумных и людных мест и, по-видимому, совсем не искал награды за эти лишения в доверчивой дружбе. Казалось, ему было совершенно чуждо то, что обычно называется радостью. Черты его редко смягчались улыбкой, и выражение, свидетельствовавшее о скорбном состоянии его духа, никогда не покидало его лица. А между тем в обхождении его не было ничего, что изобличало бы брюзгу и мизантропа. Он был сострадателен и внимателен к другим, хотя величавая осанка и сдержанность были всегда ему присуши. Его наружность и все поведение вызывали к нему всеобщее расположение, но холод его речей и непроницаемая сдержанность чувств как бы препятствовали проявлениям участия, которые при других условиях не заставили бы себя ждать.
Таков был внешний облик мистера Фокленда. Но характер у него был в высшей степени неровный. Дурное расположение духа, которое вызывало в нем постоянную мрачную задумчивость, имело свои пароксизмы. Иной раз он бывал вспыльчив, раздражителен и деспотичен; но это происходило скорее от душевных терзаний, чем от бессердечия. И когда способность размышлять к нему возвращалась, он, видимо, готов был признать, что бремя его несчастий должно падать целиком на него одного. Иной раз он совершенно терял самообладание и впадал в неистовство: он бил себя по лбу, хмурил брови, скрежетал зубами, все черты его лица искажались. Когда он чувствовал приближение такого состояния, он внезапно вставал, оставлял то, чем был в это время занят, и спешил скрыться в уединение, которое никто не осмеливался нарушить.
Не следует думать, что все описываемое мной бросалось в глаза окружающим; да и сам я узнавал это постепенно, и полностью это мне стало известно лишь спустя значительное время. Что касается слуг, то они вообще мало видели своего хозяина. Никто из них, кроме меня, ввиду моих обязанностей, и мистера Коллинза, благодаря давности его службы и почтенности, не приближался к мистеру Фокленду иначе, как в положенное время и на очень короткий срок. Они знали его лишь по мягкости его обращения и по правилам непреклонной честности, которые обычно руководили им, и, позволяя себе порой кое-какие догадки насчет его странностей, они, в общем, смотрели на него с благоговением, как на высшее существо.
Однажды, после того как я пробыл на службе у своего покровителя около трех месяцев, я зашел в маленькое помещение, нечто вроде кабинета, отделенное от библиотеки узкой галереей, в которую свет проникал через слуховое окно под самой крышей. Я думал, что в комнате никого нет, и хотел только привести в порядок то, что, может быть, было там не на месте. Открыв дверь, я: в то же мгновение услыхал глухой стон, полный нестерпимой муки. Шум открывающейся двери, очевидно, испугал человека, находившегося в комнате: торопливо захлопнулась крышка сундука и щелкнул запираемый замок. Я догадался, что тут мистер Фокленд, и хотел немедленно удалиться. Но в это мгновение голос, показавшийся мне сверхъестественно страшным, воскликнул: «Кто тут?» Это был голос мистера Фокленда. Звук его пронизал меня трепетом. Я попытался ответить, но язык не повиновался мне, и, неспособный на что-либо другое, я инстинктивно шагнул через порог в комнату. Мистер Фокленд только что поднялся с пола, на котором он сидел или стоял на коленях. На лице его я увидел все признаки сильного смятения. Но жесточайшим усилием воли он согнал их, и в одно мгновение их сменило выражение безудержной ярости.
– Негодяй! – крикнул он. – Зачем ты вошел сюда?
Запинаясь, я пробормотал невнятный и нерешительный ответ.
– Несчастный! – перебил меня мистер Фокленд, не сдерживая своего негодования. – Ты хочешь погубить меня? Ты смеешь шпионить за мной? Но ты жестоко раскаешься в своей наглости! Ты думаешь, тебе удастся безнаказанно выведать мои тайны?
Я попробовал защищаться.
– Вон, дьявол! – крикнул он. – Вон из комнаты, или я растопчу тебя в прах!
С этими словами он направился ко мне. Но я был уже достаточно испуган и мгновенно исчез. Я слышал, как за мной с силой захлопнулась дверь; на этом и кончилась необычайная сцена.
Снова я увидел его вечером; на этот раз он довольно хорошо владел собой. Его обращение, всегда ласковое, теперь было вдвое внимательнее и мягче. Казалось, у него есть что-то на душе, чем он хочет поделиться, но не находит подходящих слов. Я смотрел на него с тревогой и любовью. Он сделал две безуспешные попытки заговорить, покачал головой и затем, вложив мне в руку пять гиней, сжал ее так, что я почувствовал в этом движении всю силу обуревавших его противоречивых чувств, хотя и не понимал их. Вслед за этим он, казалось, тотчас же овладел собой, отдалясь этим на обычно разделявшее нас расстояние и приняв важный вид.
Я прекрасно понял, что молчание было одной из тех добродетелей, которые от меня требуются. Да и ум мой был слишком склонен размышлять над тем, что я видел и слышал, чтобы я стал толковать об этом с кем попало. Однако в тот же вечер мне пришлось ужинать вдвоем с мистером Коллинзом, что случалось редко, так как по своим служебным обязанностям он вынужден был проводить много времени вне дома. Он не мог не подметить во мне непривычного уныния и тревоги и ласково справился об их причине. Я попробовал уклониться от расспросов, но моя молодость и незнание жизни были в этом плохими помощниками. К тому же я всегда был очень привязан к мистеру Коллинзу, и, ввиду положения, которое он занимал в доме мистера Фокленда, я полагал, что в этом случае моя откровенность не слишком нарушает приличия. Я рассказал ему самым подробным образом обо всем, что произошло, и заключил торжественным уверением, что я не боюсь за себя, хотя и стал жертвой каприза; никакие неприятности и опасности не принудят меня к малодушному поступку; я страдаю только за своего покровителя, который, имея все преимущества для счастья и будучи в высшей степени его достойным, обречен, по-видимому переносить незаслуженные страдания.
В ответ на мое сообщение мистер Коллинз сказал, что и ему известны подобные случаи. Из всего этого он вынужден сделать вывод, что наш несчастный хозяин по временам бывает не в своем уме.
– Увы! – продолжал он. – Так было не всегда. Фердинанд Фокленд когда-то был самым веселым из веселых. Правда, не из тех пустых малых, которые вызывают презрение вместо восхищения и чья живость свидетельствует скорей о безрассудстве, чем о довольстве. Его веселье всегда сочеталось с достоинством. Это было веселье героя и ученого. Оно смягчалось размышлением и чувствительностью и никогда не противоречило ни хорошему вкусу, ни доброму отношению к людям. Но, каково бы оно ни было, это было искреннее, сердечное веселье, которое сообщало непостижимый блеск его обхождению и беседе и делало его желанным гостем в разных кругах общества, которые он в то время охотно посещал. Сейчас, мой дорогой Уильямс, ты видишь только обломки, оставшиеся от того Фокленда, которого почитала мудрость и обожала красота. Его молодость, вначале необычайно много обещавшая, поблекла. Его чувствительность увяла, иссякла вследствие событий, в высшей степени оскорбительных для его чувств. Его ум был полон всевозможными восторженными речами о воображаемом чувстве чести. И, собственно, только самая грубая часть его существа, только оболочка Фокленда в состоянии была пережить рану, нанесенную его гордости.
Эти рассуждения моего друга Коллинза сильно разожгли мое любопытство, и я попросил его дать мне более подробные объяснения. Он охотно согласился исполнить мою просьбу, понимая, что если в обычных случаях ему надлежит быть осторожным, то здесь, ввиду моего положения в доме, он мог этого не опасаться; к тому же он считал не совсем невероятным, что и сам мистер Фокленд был бы склонен сделать мне подобное сообщение, если бы не расстроенное и возбужденное состояние его духа. Чтобы внести возможно больше ясности в ряд излагаемых мною событий, я введу в рассказ Коллинза сведения, полученные позже из других источников. Во избежание путаницы я устраню личность Коллинза и выступлю сам в качестве историка нашего хозяина. Читателю на первый взгляд может показаться, что все эти подробности, касающиеся прежней жизни Фокленда, не относятся к моей истории. Увы! На горьком опыте я узнал, что это не так. Сердце мое обливается кровью при мысли о его злоключениях, как если бы это были мои собственные. Да и может ли быть иначе? Судьба моя и вся моя жизнь оказались связанными с его историей: оттого, что он был несчастлив, непоправимо омрачилось и мое счастье, мое доброе имя, мое существование.
ГЛАВА II
В дни юности мистер Фокленд увлекался героическими поэтами Италии[12]. Их поэзия внушила ему любовь к рыцарским подвигам, и романтике. Впрочем, у него было слишком много здравого смысла, чтобы не жалеть о временах Карла Великого и короля Артура. Но так как его воображение испытало на себе очищающее влияние философии, он понимал, что в нравах, описанных этими прославленными поэтами, не все заслуживает подражания. Ему казалось, что ничто не в состоянии сделать человека столь обаятельным, доблестным и расположенным к людям, как постоянно питаемые чувства чести и воспоминания о происхождении. Взгляды, которых он держался на этот предмет, находили выражение в его поступках, постоянно отвечавших героическому образу, который создала его фантазия.
Одушевленный такими чувствами, он отправился путешествовать в том возрасте, когда обычно пускаются в свет; и эти чувства скорее укрепились в нем, нежели поколебались, благодаря приключениям, которые с ним случились. Дольше всего, благодаря своим склонностям, он задержался в Италии; там он сошелся с несколькими молодыми дворянами, образование и убеждения которых соответствовали его собственным. Они относились к нему с особым вниманием и выражали ему свое самое лестное расположение. Они восхищались тем, что встретили иностранца, который усвоил все особенности и черты наиболее уважаемых и свободомыслящих людей из их среды. Не меньше восхищался им и благоволил к нему и прекрасный пол. Хотя ростом он был невысок, но весь облик его был полон необыкновенного достоинства, которое в то время еще усиливалось некоторыми чертами, впоследствии исчезнувшими, – выражением искренности, чистосердечия, прямодушия, величайшей душевной пылкости. Быть может, никогда ни один англичанин не был до такой степени превозносим итальянцами.
Упоенный идеалами рыцарства, он не мог время от времени не оказываться замешанным в какое-нибудь дело чести; но они всегда оканчивались так, что не запятнали бы самого рыцаря Баярда[13]. В Италии знатные молодые люди делят себя на две группы: на тех, кто придерживается старинных правил чести в их чистом виде, и на тех, кто, относясь к обидам и оскорблениям с не менее повышенной чувствительностью, позволяют себе пользоваться в качестве орудия мщения наемными bravi.[14] В сущности, все различие между той и другой группами заключается в том, что вторая более сомнительным способом утверждает свои преимущества. Самый великодушный итальянец воображает, будто есть такие люди, которых нельзя открыто вызвать на поединок, не обесчестив себя. Однако он уверен, что обида может быть смыта только кровью, и убежден, что жизнь человека – безделица по сравнению с необходимостью удовлетворить оскорбленную честь. Поэтому вряд ли найдется итальянец, который при известных обстоятельствах поколебался бы совершить убийство[15]. Среди них люди с возвышенной душой, несмотря на предрассудки, привитые им воспитанием, не могут втайне не сознавать всей низости подобных поступков и не стараться в таких случаях держаться возможно дальше от дуэльного кодекса чести. Другие же, по своему действительному или наружному высокомерию, привыкают смотреть чуть ли не на всех людей как на низшие существа, а потому склонны удовлетворять свою жажду мести, не подвергая опасности собственные особы. С некоторыми из подобных людей встречался и мистер Фокленд. Но его неустрашимость и решительный характер давали ему преимущество даже и при таких опасных встречах. Здесь будет уместно рассказать один случай из многих других, в которых проявлялась его манера держать себя с этим гордым и пылким народом. Мистер Фокленд – главное действующее лицо моей повести; но мистер Фокленд на склоне своих дней, с угасшими силами – словом, такой, каким я встретил его, – не может быть понят до конца, если не станет известно, каким он был раньше, во всем блеске своей молодости, еще не подвергшийся различным бедствиям, не сломленный страданием и раскаянием.
В Риме он был особенно любезно принят в доме маркиза Пизани, у которого была единственная дочь, наследница его огромного состояния и предмет обожания всей знатной молодежи этой столицы. Высокая, с величественной осанкой, леди Лукреция Пизани была необыкновенно красива. У нее не было недостатка в прекрасных качествах, но душой она была высокомерна и нередко обращалась с людьми пренебрежительно. Ее тщеславие питалось сознанием ее привлекательности, ее положением в свете и всеобщим поклонением, которое она привыкла встречать.
Среди ее бесчисленных обожателей наибольшей благосклонностью ее отца пользовался граф Мальвези, да и сама она как будто не оставалась к нему равнодушной. Граф обладал значительным образованием, был безупречно честен и отличался приветливостью. Но он был слишком пылким влюбленным, чтобы быть в состоянии всегда сохранять приятное расположение духа. Поклонники, ухаживание которых было источником удовольствия для его возлюбленной, причиняли ему постоянные огорчения. Поставив все свое счастье в зависимость от обладания этой надменной красавицей, он был способен из-за всякого пустяка тревожиться и отчаиваться в успехе своих притязаний. Но больше всего он ревновал ее к англичанину. Прожив много лет во Франции, маркиз Пизани отнюдь не имел пристрастия к тем мерам подозрительной предосторожности, которыми пользуются отцы в Италии, и предоставлял дочери значительную свободу. С некоторыми разумными ограничениями дом его всегда был открыт для посетителей мужского пола, которые могли свободно встречаться с его дочерью. Тем более запросто принимали там мистера Фокленда – иностранца и человека, едва ли склонного искать руки прекрасной Лукреции. Сама молодая девушка, полная сознания своей невинности, не придавала значения пустякам и держала себя открыто и доверчиво, подобно тем, кто стоит выше подозрений.
Пробыв в Риме несколько недель, мистер Фокленд отправился в Неаполь. Тем временем произошли некоторые события, которые заставили отложить уже назначенный день свадьбы наследницы Пизани. Когда мистер Фокленд вернулся в Рим, граф Мальвези был в отсутствии. У Лукреции, которой и раньше очень нравилось беседовать с мистером Фоклендом и которая отличалась деятельным и пытливым умом, возникло желание в промежутке между его первым и вторым пребыванием в Риме познакомиться с английским языком; ее побудили к этому живые и страстные похвалы лучшим английским писателям, которые она слышала от наших соотечественников. Она достала необходимые книги и уже сделала некоторые успехи в отсутствие мистера Фокленда. Но по его возвращении она решила воспользоваться особенно удобным случаем, который, если упустить его, мог больше не представиться, – читать избранные отрывки из наших поэтов с англичанином, обладающим тонким вкусом и глубокими познаниями.
Эта затея, естественно, привела их к более тесному общению. Когда граф Мальвези вернулся, мистер Фокленд был почти своим человеком в палаццо Пизани. Граф не мог не понять опасности положения. Быть может, в глубине души он сознавал все превосходство англичанина и трепетал при мысли, что обе стороны могут зайти слишком далеко в привязанности друг к другу даже раньше, чем они сами заметят опасность. Он полагал, что такого рода брак был бы во всех отношениях лестным для тщеславия мистера Фокленда, и сходил с ума от страха, что этот пришелец, этот выскочка отнимет у него самое дорогое его сердцу существо.
Однако у него хватило благоразумия прежде всего попросить объяснения у леди Лукреции. Веселая по натуре, она стала смеяться над его опасениями. Но терпение его уже иссякало, и, возражая ей, он прибегнул к выражениям, которые она отнюдь не склонна была выслушивать с безразличием. Леди Лукреция привыкла видеть всегда почтительное отношение к себе и покорность; поэтому, оправившись от некоторого испуга, в первое мгновение внушенного ей суровым тоном, каким ей читалось наставление, она сейчас же почувствовала сильную досаду. Она высокомерно отказалась отвечать на дерзкий допрос и даже нарочно бросила несколько слов, которые могли усилить подозрения ее поклонника. Сначала она в самых саркастических выражениях осмеяла его безумие и самонадеянность, потом, внезапно изменив тон, велела ему никогда больше не показываться ей на глаза иначе как на правах простого знакомого, так как она твердо решила избавиться на будущее время от такого недостойного обращения с ней. Она счастлива, что граф наконец разоблачил перед нею свой подлинный характер; она постарается воспользоваться полученным опытом, чтобы избежать повторения подобной опасности. Все это говорилось обоими в пылу негодования, и леди Лукреция, вызывая гнев своего поклонника, не дала себе времени подумать, к чему все это может привести.
Граф Мальвези оставил ее взбешенный. Он решил, что эта сцена была придумана заранее, чтобы найти предлог расторгнуть его предстоявшую помолвку с Лукрецией. Вернее, тысячи догадок осаждали его мозг: он поочередно обвинял в несправедливости то ее, то себя; он сетовал на леди Лукрецию, на себя и на весь мир. В таком состоянии он поспешил в гостиницу, где остановился англичанин. Надлежащее время для увещеваний уже прошло, и он почувствовал теперь непреодолимое желание оправдать свою стремительность в отношении к Лукреции, уверив себя в том, что вина человека, возбудившего его ревность, не может быть взята под сомнение.
Мистер Фокленд был дома. В нескольких отрывистых словах граф обвинил его в двуличии поведения с леди Лукрецией и бросил ему вызов. Англичанин искренне уважал Мальвези, действительно обладавшего значительными достоинствами и являвшегося к тому же одним из самых ранних итальянских знакомых мистера Фокленда, – они встретились еще в Милане. Более того – ему мгновенно представились возможные последствия дуэли при таких обстоятельствах. Он горячо восхищался леди Лукрецией, хотя чувства его к ней вовсе не были похожи на чувства влюбленного; он знал также, что Лукреция относилась к графу Мальвези с большой нежностью, как бы она ни старалась скрыть это своей надменностью. Мысль о том, что какая-то неосторожность в его поведении испортит будущее столь достойной четы, была ему невыносима. Руководимый этими чувствами, он попробовал разубедить итальянца. Но попытки его не имели успеха. Его противник не помнил себя от гнева и не хотел слушать ничего, что клонилось к успокоению его запальчивости. Он мерил комнату неровными шагами и задыхался от злобы и отчаяния. Видя, что все его усилия тщетны, мистер Фокленд сказал, что, если графу угодно будет прийти на другой день в то же время, он последует за ним в любое место, на котором тот пожелает остановить свой выбор. Расставшись с графом Мальвези, мистер Фокленд немедленно отправился в палаццо Пизани. Там ему с большим трудом удалось утишить негодование леди Лукреции. Его понятия о чести ни в коем случае не позволяли ему добиться этого, объявив о сделанном ему вызове; такое открытие, конечно, подействовало бы немедленно, как самый сильный довод, который мог быть приведен этой высокомерной красавице. Впрочем, мысль о возможности подобного исхода возникала у нее самой, но смутное опасение было не настолько сильным, чтобы оно могло заставить ее немедленно поступиться своей гордостью и забыть обиду. Но мистер Фокленд нарисовал такую увлекательную картину смятения графа Мальвези и нашел такие лестные объяснения его горячности, что все это, наряду с доводами, которые он приводил, довершило его победу над гневом леди Лукреции. Выполнив таким образом свою задачу, он открыл ей все, что произошло.
На другой день, точно в назначенный час, граф Мальвези явился в гостиницу. Мистер Фокленд встретил его у входа, но попросил его зайти в дом, так как ему потребуется еще минуты три, чтобы покончить с одним делом. Они прошли в гостиную. Тут мистер Фокленд оставил графа и вскоре вернулся, ведя под руку леди Лукрецию во всем обаянии ее чар, еще увеличившихся от сознания великодушия и уступчивости, которые она проявляла. Мистер Фокленд подвел ее к изумленному графу, и она, нежно коснувшись руки своего возлюбленного, воскликнула с самой подкупающей грацией:
– Позволите ли вы мне взять назад слишком поспешные и заносчивые слова, сказанные под влиянием заблуждения?
Восхищенный граф, не смея верить своим ушам, бросился перед нею на колени и пролепетал, что поторопился он сам, что ему одному следует просить прощения, что, даже получив его от нее, он сам никогда не простит себе кощунства, допущенного по отношению к ней и к этому божественному англичанину. Как только первый порыв его радости улегся, Фокленд обратился к нему со следующими словами:
– Граф! Я испытываю величайшее удовольствие от того, что мне удалось мирными средствами обезоружить вашу досаду и обеспечить ваше счастье. Но, должен сознаться, вы подвергли меня жестокому испытанию. Нрав у меня не менее горячий и несдержанный, чем у вас, и не всегда мне удается так обуздывать его. Но я считаю, что действительно с самого начала вина была моя. Хотя подозрение ваше было неосновательно, оно не было бессмысленно. Мы шутили с опасностью. Я не должен был при теперешних слабостях нашей природы и несовершенствах общественного устройства проявлять такое настойчивое внимание к этой очаровательной женщине. Не было бы ничего удивительного, если бы, имея к тому столько удобных случаев и выступая в роли ее наставника, я попался в сети раньше, чем успел отдать себе отчет в этом, и затаил бы в душе желание, от которого впоследствии не имел бы мужества отказаться. Я был обязан загладить перед вами эту неосторожность. Но законы чести в высшей степени суровы, и, как бы мне ни хотелось быть вашим другом, я мог бы оказаться вынужденным стать вашим убийцей. К счастью, храбрость моя достаточно известна, так что я едва ли подвергся бы порицанию, отклонив ваш вызов. Хорошо, однако, что при нашей вчерашней встрече вы застали меня одного и что таким образом случай передал все дело в мои руки. Теперь, если происшествие станет известным, – узнают одновременно как о вызове, так и о том, чем кончилось дело, – поэтому я удовлетворен. Но если бы вызов на поединок был сделан публично, доказательства моей храбрости, данные раньше, не оправдали бы моей теперешней сдержанности, и —как бы я ни желал избежать поединка – это оказалось бы не в моей власти. Пусть же каждый из нас будет теперь избегать торопливости и неосторожности, последствия которых могут быть искуплены только кровью, и да благословит небо ваш союз с супругой, достойным которой я вас считаю во всех отношениях!
Я уже говорил, что это был не единственный случай, когда мистер Фокленд во время своих странствий самым блистательным образом доказал, что он был столь же храбр, сколь и добродетелен. Он провел за границей еще несколько лет, и с каждым годом росло уважение к нему, а также укреплялась его нетерпимость ко всему нечестному или порочному. Наконец он счел нужным вернуться в Англию, чтобы провести остаток своих дней в поместье, доставшемся ему от его предков.
Произведения
Критика