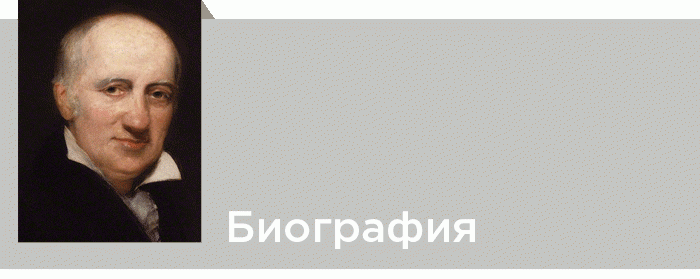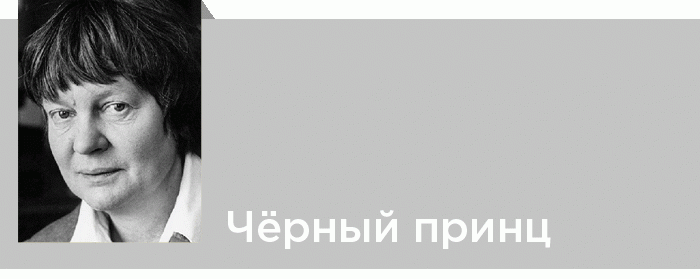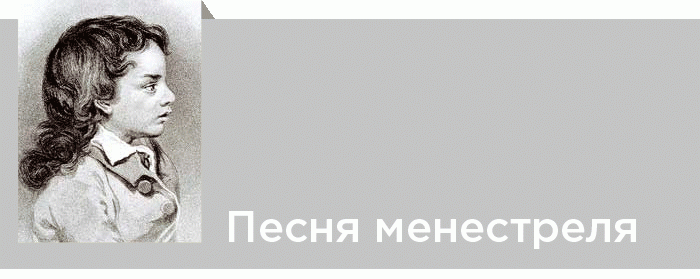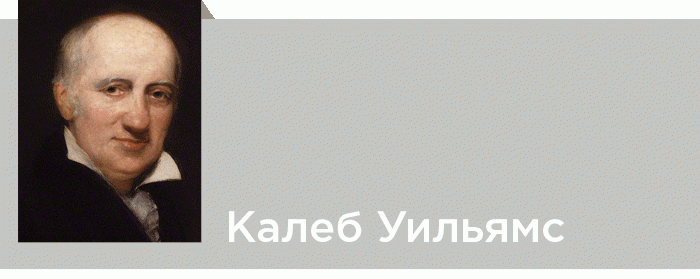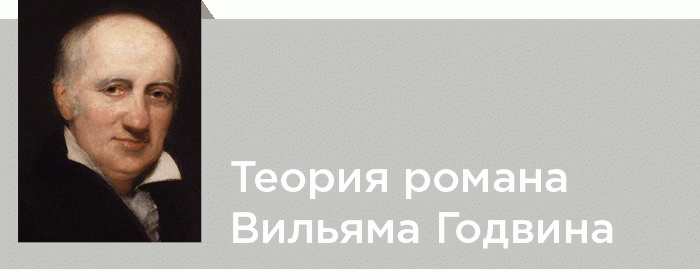Уильям Годвин. Сен-Леон. Повесть шестнадцатого века

(Отрывок)
Том первый
Глава I
Все, что представляется фантазиям человека прекрасным и желанным, могут воплотить в жизнь его гений и мастерство. В раннюю эпоху античности одной из любимых тем для размышлений являлась совершенная система гражданского устройства; и как только Платон набросал черты своей воображаемой республики, он тут же начал искать место на земле, где мог бы осуществить свой план. В мое время и еще столетием ранее предметом, в основном занимавшим людей, которые бесстрашно и без остатка посвятили себя науке, была великая тайна природы, великий труд в двух его основных и нераздельных направлениях — искусстве умножения золота и разгадке причин наступления старости и смерти.
Поразительно, сколько недюжинного таланта и бесконечного усердия брошено на разрешение этой великой загадки. Насколько мне известно, многочисленные оппоненты, владевшие вескими и серьезными доказательствами, вели длительные споры, был ли когда-либо достигнут предмет исканий с помощью всех этих талантов и усердия. В мою задачу не входит выяснение числа тех, кому удалось одержать полную победу над свойствами и инертностью материи. Довольно уже и того, что я — живое свидетельство существования подобных людей. В течение многих лет я черпал в этих двух тайнах, если их можно рассматривать как две, источник удовлетворения и наслаждения. Я обладаю и возможностью стать сколь угодно богатым, и даром вечной жизни. Практически все, что вижу, я могу без труда сделать своим: ибо разве нет такой цены, за которую владелец дворцов, картин, парков или садов, раритетов, естественных или искусственных, не согласился бы их продать? Богатства всех четырех сторон света лежат у моих ног. С почти немыслимой виртуозностью я могу управлять страстями людей. Как устоит сердце перед авторитетом монаршего величия? Кто из людей неподкупен? Добавьте к этим благам тот факт, что я неуязвим для болезней. Что бы ни случилось, мой организм функционирует идеально. Старость никогда не приблизится ко мне. Потребуется тысяча зим, чтобы испещрить мое лицо морщинами и посеребрить мои волосы. Неисчерпаемое богатство и вечная молодость — таковы свойства, отличающие меня от остального человечества.
Однако сейчас я не намерен писать трактат по естественной философии. Я владею своими привилегиями при условии, что они никогда не будут разглашены. Я взял перо в руки лишь для того, чтобы изложить некоторые из удивительных событий, происшедших в моей жизни, которая уже подходит к концу по причинам, только что мною упомянутым.
То, что цель, к которой стремятся мои современники и которой достиг я, бесконечно более величественная и захватывающая, чем занимавшая мысли Платона и большинства прославленных писателей древности, настолько очевидно, что просто неприлично говорить об этом. Что значит политическая свобода по сравнению с безграничными богатствами и вечным здоровьем? Непосредственной задачей политической свободы является предоставление человеку права в полной мере пользоваться своим наследством и плодами своей деятельности, которые охраняются от посягательств окружающих. Однако мелочное скопидомство или старательное накопительство не сравнятся с великой тайной, способной в мгновение ока наградить человека всем, чего только в состоянии пожелать душа. Сколь низменными и презренными в этом смысле представляются амбиции хвастливых древних по сравнению с нашими. Какой магистр алхимии или адепт сегодняшнего дня согласится отказаться от познания Господа и великих тайн природы и ограничит свой пыл изучением собственного бренного существования?
Возможно, кому-то покажется, что история человека, обладающего столь несравненными преимуществами, как те, коими владею я, может походить на историю рая или будущего счастливого бытия блаженных, слишком спокойную и безмятежную, монотонную и лишенную превратностей, чтобы привлечь к себе внимание или интерес читателя. Однако, если ему достанет терпения прочесть мое повествование, он довольно скоро убедится, что оно будет вознаграждено, а также в том, что его любознательность была продиктована прозорливостью и разумом.
Кое-кто, быть может, выкажет удивление относительно причин, подвигших человека, наделенного столь неслыханным богатством и изощренного во всевозможных удовольствиях, взять на себя труд изложить свои воспоминания. Бессмертие, которым я владею, казалось бы, исключает такую обычную причину, как желание посмертной славы.
Однако я не смогу удовлетворить вышеупомянутое любопытство, если его кто-либо действительно испытывает. Не стану ничего предвосхищать. Причина, заставившая меня взяться за перо, вероятно, станет очевидной в ходе моего повествования.
Я потомок одного из самых древних и благородных семейств королевства
Французского. Я был единственным ребенком в семье — мой отец погиб, когда я пребывал еще во младенчестве. Мать была женщиной скорее с мужским складом характера и с пристрастием относилась ко всему, связанному с представлениями о благородстве и величии. Все силы ее души были сосредоточены лишь на стремлении сделать меня достойным преемником графов де Сен- Леон, которые снискали себе широкую известность в войнах за Святую землю3. Отец мой погиб, доблестно сражаясь в долинах Италии под знаменами Людовика XII — монарха, чье имя не произносилось в моем присутствии без восхвалений его военной доблести и исключительного великодушия, благодаря которым он снискал титул «отца своего народа». Величие предков распаляло воображение матери, и она неустанно стремилась разжечь такое же пламя и в моей груди. Давным-давно повелось, что бароны и вассалы французских королей участвовали в блистательных и пышных походах своих сюзеренов за собственный счет, и немалый; и мой отец, готовясь к кампании, которая унесла его жизнь, нанес серьезный ущерб своему состоянию. Мать усердно занялась восстановлением моего наследства и, пока я подрастал, прилагала все усилия для достижения этой цели.
Трудно представить, чтобы к кому-нибудь относились с той же добротой и разумной снисходительностью, как ко мне в отрочестве. Моя мать любила меня настолько, насколько вообще способно любить одно человеческое существо другое. Я был для нее зеницей ока, ее гордостью, предметом дневных забот и ночных тревог. Однако это не означало, что меня опекали в ущерб физическому развитию или активной умственной деятельности. Мне были предоставлены лучшие учителя. Во мне возбуждали любознательность, и вполне успешно, ибо я проникся желанием найти практическое применение усвоенным урокам. Я хорошо познакомился с итальянскими писателями ХП—ХШ веков. Меня приобщили к изучению классических авторов, возвращение к жизни произведений которых в это время вызывало к ним особый интерес. Мне преподали основы изящных искусств. Не было ни одного модного в то время образчика совершенства, обладателем которого моя мать не хотела бы видеть меня. Единственной наукой, которой я пренебрегал, была именно та, что повлекла за собой самые невероятные события моей жизни. Но больше всего мое внимание обращали на совершенствование в военных упражнениях и во всем том, что могло добавить силы, подвижности и изящества моему телу, а также изобретательности и находчивости моему уму. Мать думала о моей чести и славе более, чем обо мне самом.
Обстоятельством, более других повлиявшим на укрепление моего еще не стойкого юношеского ума, стало присутствие в качестве зрителя на известной встрече Франциска I и короля Англии Генриха VIII на поле между Ардром и Гином. Мать отказалась сопровождать меня, достигнув того возраста, когда любопытство и любовь к празднествам обычно притупляются; к тому же огромные расходы, которые несли все дворяне, принимавшие участие в этой встрече, противоречили принципам экономии, которых она строго придерживалась. Поэтому я вместе с двумя слугами был передан под покровительство ее брата, маркиза де Вильруа, и вошел в состав его свиты.
В то время мне было пятнадцать лет от роду. Я предавался мыслям о славе и величии, однако жизнь моя проходила в уединении. Это противоречие определенным образом повлияло на мое состояние, доведя до крайней степени стремление к известности и роскоши; я жил в волшебных сферах иллюзорного величия и был более чем равнодушен ко многому, что меня окружало. Я стремился к вещам, полностью противоположным тем, которые были свойственны тогдашним условиям моего существования; я был усерден лишь в занятиях, готовивших меня к будущим подвигам.
Этот случай помог мне мгновенно перенестись из скромной безвестности в обстановку столь чрезмерной роскоши, какую, возможно, никогда не видел свет. Я даже не помню сам Париж. Господствовавшая в то время в Европе мода требовала, чтобы платье было дорогим. Полагаю, эта мода, в ее настоящем проявлении, возникла в долине Ардра. Оба короля находились в расцвете сил, и оба считались красивейшими мужчинами своего времени. Красоте Генриха были присущи физическое совершенство и мужественность, Франциск был более утончен и изящен, что, впрочем, ни в коей мере не лишало его решительности. Генрих был на четыре года старше своего монаршего брата. Первый из них мог быть взят за образец для воплощения юного Геркулеса, а второй — Аполлона.
Пышность костюмов, демонстрировавшихся на этой встрече, превосходила все мыслимое. Можно сказать, что платье каждой известной персоны стоило целое состояние; разнообразие нарядов соперничало с их роскошью. Руководил церемонией некто Вулси — человек, благородство души которого уступало лишь его гордости. Он обладал огромным влиянием на образ мыслей своего господина, и Франциск, с искусством отдававшийся своим капризам, ожидал от него в ответ столь же усердного рвения в решении вопросов более существенных.
Церемония открытия этого достопамятного празднества началась пышной процессией — торжественным, едва заметно движущимся шествием, которым досужий взгляд наслаждался до полного пресыщения. Затем следовали животрепещущие, одухотворенные и быстро сменявшие друг друга действа: маскарады, всевозможные представления и — что более всего имело для меня значение и что душа моя поглощала с немыслимой жадностью — бесконечные единоборства, состязания и турниры. Красота доспехов, конской сбруи, ретивость самих лошадей, пыл и изящество участников сражений превосходили все, когда- либо рисовавшееся моему воображению. Все это происходило в центре обширного амфитеатра, полного зрителей, представлявших собой все благородные и знаменитые роды обеих стран — доблесть кипящей юности и безграничное разнообразие женских чар. Все пребывали в наипревосходнейшем состоянии духа, взгляд каждого горел довольством и радостью. Если бы на поле Ардра появился Гераклит или какой-нибудь другой философ-мизантроп, настаивавший на тщете существования рода человеческого, ему бы пришлось отказаться от своих убеждений или бежать в замешательстве. Короли располагались на двух возвышениях в окружении своих придворных. Взоры всех участников этого огромного собрания были прикованы к ристалищу; все присутствующие склонялись по ту или иную сторону, выражая свою внутреннюю симпатию сражавшимся рыцарям. Время от времени, когда фавориты той или иной стороны одерживали верх, воздух наполнялся криками и восклицаниями.
Очарование всего уже мною упомянутого усиливалось тем, что, возможно впервые за долгие времена, были позабыты правила чопорной холодности поведения и люди великодушно и доверчиво распахнули свои сердца навстречу друг другу. Разбились оковы веков, и, казалось, была обретена новая свобода. Известно, что после нескольких дней скучных предосторожностей и показной замкнутости, проявлявшихся обеими сторонами, Франциск однажды утром сел на свою лошадь и без всякой охраны или какого-либо предварительного оповещения появился перед палаткой Генриха. Пример его оказался заразительным, и с этого момента всякая церемонная чопорность была позабыта. Короли лично начали принимать участие в сражениях своих подданных. Это было восхитительное и потрясающее зрелище — воочию наблюдать за свободой манер древнего Рима, почти римских сатурналий, отшлифованных и утонченно украшенных изяществом и благородством рыцарской эпохи.
Нетрудно вообразить, какое влияние подобное зрелище могло оказать на юношу моих лет и моего образа мыслей. Припоминаю, как страдал я от того, что незрелость моего возраста не позволила принимать активное участие в этом действе. Однако я извлек достаточную пользу из своего присутствия. Я был представлен Франциску I. Он оказал мне честь, осведомившись относительно моих занятий, и, обнаружив во мне некоторые познания в области искусств и литературы, ревностным поклонником которых он сам являлся, выразил моему дяде свое глубокое удовлетворение как моим обликом, так и ученостью. Итак, меня могли принять ко двору и сделать пажом этого блистательного монарха. Но моя мать вынашивала иные планы. Ей претило мое преждевременное пресыщение сценами придворной жизни и излишне близкое знакомство двора с моей особой. Она справедливо полагала, что моя страсть к славе станет еще более пылкой, если не давать ей некоторое время желаемого удовлетворения. Она хотела, чтобы я впервые предстал перед знатью Франции в образе совершенного рыцаря и не страдал бы от вынужденной неловкости, совершая на глазах у всех неверные шаги и досадные промашки, от которых не застрахована неопытная юность. Когда эти доводы были приведены королю, он любезно соизволил одобрить их. Вследствие чего я вернулся заканчивать свое образование в родовой замок на берегу Гаронны.
Состояние моих мыслей в течение последующих трех лет в полной мере подтвердило прозорливость моей матери. Я стремился к совершенству с еще большим пылом, чем прежде. Из прочитанных книг и из разговоров с этой достойной матроной я составил себе представление о способах достижения славы. Однако, по сравнению с тем, что мне довелось повидать теперь, мои тогдашние мечты представляются мелкими и беспомощными. Подобно Создателю нашей святой религии я провел сорок дней без пищи среди девственной природы, пока глаза мои не раскрылись и мне не были предъявлены все царства этого мира и вся их слава. Волшебное видение вмиг рассеялось, не оста-вив после себя ничего, кроме прежних пустоты и мрака, которые ему и предшествовали. С тех пор я не смыкал глаз без того, чтобы не увидеть в своем воображении сражения рыцарей и кортежи дам. Я был отмечен расположением моего сюзерена, и Франциск I стоял перед моим мысленным взором как образец совершенства и величия. Я поздравлял себя с тем, что мне довелось родиться в такую эпоху и в такой стране, которые столь благоприятствовали обретению всего, к чему стремилась моя душа.
Мне было уже восемнадцать лет от роду, когда я пережил первое в жизни несчастье. Это была смерть моей матери. Она ощущала приближение конца в течение нескольких недель до его наступления и вела со мной длительные беседы относительно тех чувств, которые я должен в себе поощрять, и того поведения, которого мне следует придерживаться, когда ее более не будет рядом со мной.
Сын мой, — говорила она, — твой характер и надежды, которые ты подавал в юные годы, стали для меня единственным утешением после смерти твоего достославного отца. Наш брак был основан на самой искренней и исключительной привязанности, и ни один мужчина еще не заслуживал любви более, чем Реджинальд де Сен-Леон. Когда он умер, весь мир превратился бы для меня в ничто, если бы он не оставил замену себе, наследника своих достоинств. Занимаясь твоим образованием, я словно платила последнюю дань памяти своему мужу. Занятие это было освящено для меня долгом перед усопшим еще до того, как оно стало приятным само по себе. Надеюсь, в какой-то мере мне удалось выполнить эту задачу так, как это сделал бы мой господин и твой отец, будь он жив. Я благодарна Небесам, что мне было отпущено достаточно времени на выполнение столь почетной и дорогой моему сердцу задачи.
Теперь, мой сын, тебе предстоит остаться одному, и ты должен стать судьей всех своих поступков. Возможно, я бы и желала, чтобы эта неизбежность была несколько отсрочена, но, надеюсь, образование, полученное тобой, было не того рода, которое оставляет юношу беспомощным и презренным. Тебя научили осознавать свое положение в обществе и уважать себя. Тебя наставили во всем, что может наиболее успешно содействовать твоему продвижению по пути славы. Среди всей французской знати нет рыцаря более совершенного, чем ты, и подающего большие надежды к прославлению своего имени и своей страны. Мне не дано стать свидетельницей осуществления этих надежд, но предчувствие этого даже сейчас озаряет миг моего ухода лучами солнечного света.
Прощай, мой сын! Тебе более не требуется моя материнская опека. Когда меня не станет, ты будешь вынужден глубже ощутить одиночество и самостоятельность, являющиеся источником всех достоинств. Берегись. Следи за тем, чтобы твой путь был безупречным и славным. Не принимай в расчет свою жизнь, когда забота о ней вступает в противоречие с твоей славой. Для истинного рыцаря не существует слишком большой жертвы и слишком тяжелого страдания, когда их требует честь. Будь человечным, мягким, великодушным и бесстрашным. Не медли выполнить то, к чему тебя призывает долг. Помни своих предков — рыцарей Святого Креста. Не забывай своего отца. Следуй за своим королем, который является зерцалом доблести, и будь всегда готов прийти на помощь страждущим. Да хранит тебя Провидение. Да прольют Небеса тысячу благословений на твою невинность и благородство твоей души.
Смерть матери стала для меня жестоким ударом. На какое-то время видения величия и славы, доставлявшие мне до этого несказанное удовольствие, потеряли всякую прелесть. Я стоял склонившись над ее бесчувственным телом. После того как оно было предано земле, я каждый день приходил на место погребения в сумеречный час, когда все видимые предметы скрываются от взора, а природа облекается в самые тусклые оттенки и весь мир представляется окутанным мраком гробницы. Вечерняя роса ложилась на мою непокрытую голову, и, пока не наступал полночный час, я не возвращался назад к башням замка.
Время исцеляет почти все горести, особенно в яркую пору ранней юности. И вскоре подавленность бесплодной тоски сменилась нежными и благоговейными воспоминаниями о последних материнских наставлениях. Я был настолько поглощен видениями славы, что, когда первые приступы горя миновали, не мог оставаться в праздности. И нежные воспоминания о матушке дали новый толчок моему тщеславию. Я позабыл грустное зрелище ее последних попыток ухватиться за уходящую жизнь, я привык более не слышать звука ее голоса и не встречать ее, возвращаясь в замок после коротких прогулок. Ее последнее наставление стало единственным, что сохранилось от произведшей меня на свет.
Я пребывал в этом состоянии духа, когда однажды ранним утром в начале лета, вскоре после пробуждения, был поражен звуками труб, раздававшимися в долине близ замка. Тут же от ворот прозвучал ответный призыв горна, мост был опущен, и во двор въехал маркиз де Вильруа в сопровождении тридцати рыцарей в полном вооружении. Я поприветствовал его с почтением и нежностью, вызванной недавно перенесенным горем. После короткой трапезы в зале он взял меня под руку и повел в кабинет.
— Сын мой, — сказал он, — пора отбросить изнеживающую печаль и доказать, что ты являешься истинным сыном Франции.
Надеюсь, милорд, — отвечал я со сдержанным достоинством, — вам хорошо известно, что нет ничего, к чему моя душа стремилась бы так пылко. Не знаю ничего, кроме чести, ради чего стоило бы жить. Укажите мне путь, который ведет к ней, или поспешите дать повод проявить мою любовь к славе, и вы увидите, помедлю ли я вступить на него. Во мне заключена страсть, служению которой отданы все мои чувства и жизненные силы. Она не нуждается в словах, ибо слова слишком туманны и несовершенны для ее выражения.
Хорошо, — ответил дядя. — Я полагал найти тебя именно таким. На мой взгляд, твой ответ достоин крови твоих предков и материнских наставлений моей сестры. Но будь ты даже бесчувственным, как камни, по которым ступаешь, то и тогда то, что я намереваюсь сообщить тебе, возбудило бы в тебе оживление и пыл.
После этого вступления дядя перешел к повествованию, каждое слово которого воспламеняло мой дух и вливало в меня новые силы. Я уже слышал кое- что о положении дел в моей стране, но мать старалась держать меня в неведении, дабы не разбудить мое честолюбие слишком рано, с тем чтобы со временем его можно было употребить с наибольшей пользой. И пока я нетерпеливо мечтал о возможности снискать себе славу, я был слишком далек от понимания, что подобная возможность предоставлялась в это время так полно, что и своевольнейший вымысел не сделал бы ее более привлекательной.
Теперь маркиз де Вильруа рассказал мне о союзе, создававшемся против Франции. С самой горячей преданностью он оживил в моей памяти подвиги и таланты нашего венценосного господина. С отвращением говорил о флегматичном и хитром нраве его противника императора; с кипящим негодованием обрушивался он на непостоянство капризного Генриха. Он описал вереницу несчастий, которая в итоге заставила короля лично прибыть на театр военных действий. С большой выразительностью он противопоставил историю отважного шевалье Байара, рыцаря без страха и упрека, кровь которого еще не просохла на миланских полях, судьбе запятнавшего честь рыцарства коннетабля де Бурбона, позорная обида и необузданное тщеславие которого заставили его примкнуть к недругам своей страны вопреки присяге и клятве в верности. Он воспламенял мои чувства, ставя в пример одного и указывая на низость другого, и заверял меня, что еще никогда не предоставлялось более удачной возможности для снискания бессмертной славы.
Но я не нуждался в поощрении для увеличения этой страсти и тут же принялся собирать все силы своих слуг и вассалов. Я стряхнул с себя бесславную размягченность меланхолии, став воплощением оживленной деятельности. Теперь пришло время применить знания, полученные в юности. Я рассудил, что необходимо призвать на помощь какого-нибудь опытного человека, дабы он посодействовал мне в руководстве моими людьми; но многое из того, что нужно было сделать, я делал собственноручно и делал хорошо. Я брался за дело с рассветом, и заходящее солнце было свидетелем того, как я трудился не покладая рук. Благодаря стараниям моей замечательной матери мое наследство было в наилучшем состоянии, и я не жалел денег на то, чтобы удовлетворить поглощавшую меня страсть.
Однако, как бы я ни горел мечтой поскорее появиться на театре военных действий, желание сделать мое появление там достойным графа де Сен-Леона сдерживало меня, поэтому я присоединился к королевской армии лишь после того, как войска императора сняли осаду Марселя и стремительно отступили в Италию, а король пересек Альпы, вошел в Миланское герцогство и безоговорочно завладел его столицей.
Из Милана Франциск направился в Павию. Слава была его кумиром, поэтому он так неудержимо стремился к захвату этого наиболее сильного и укрепленного в герцогстве города. Чем более Франциск выказывал военную доблесть, тем более его охватывало желание утвердиться в своих недавно приобретенных владениях; он полагал, что и население подчинится ему тогда более охотно, и враг будет реже отваживаться вступать в споры из-за приобретенных им владений. По крайней мере, он объяснял свое продвижение именно этими причинами; однако, возможно, в действительности его гораздо больше воодушевлял блеск славы, которую он надеялся снискать в этом предприятии.
Прошло несколько недель после начала осады Павии, когда я предстал перед своим монаршим господином. Он принял меня с присущим ему редкостным радушием и сразу же вспомнил о нашей встрече в долине Ардра. Он тепло отозвался о том, сколь многим обязана Франция моим предкам, с искренним уважением говорил о достоинствах и мудрости моей матери и одобрил решительность, с которой она удерживала меня от преждевременного появления на общественной стезе.
Юноша, — промолвил король, — я не сомневаюсь в отважности твоего духа; я вижу нетерпение воина, написанное на твоем лице, и полагаю, что твои поступки будут достойны твоего прославленного рода и наставлений женщины, заслуживающей того, чтобы быть образцом для всех дам Франции. Можешь не опасаться, что твои подвиги останутся незамеченными. Я найду тебе применение. Я назначу тебя на почетный и чреватый опасностями пост. Будь достоин его; и с этого часа я зачисляю тебя в круг своих самых избранных друзей.
Осада Павии и вправду оказалась кампанией, в ходе которой легко можно было снискать воинскую славу. Город защищал небольшой, но опытный гарнизон под командованием одного из самых талантливых военачальников тогдашней Европы. Он беспокоил осаждавших частыми и яростными вылазками. С помощью нашей превосходной артиллерии мы неоднократно проделывали широкие бреши в укреплениях, но напрасно. Стоило нам предпринять попытку проникнуть в образовавшийся проход, как нас встречали отряды, состоявшие из наилучших и наихрабрейших воинов гарнизона. Обычно во главе таких отрядов стоял комендант города, который, хотя и находился в преклонных летах и был седовласым, обладал всеми достоинствами юности. Если мы отступали или, не преуспев в атаке, решали возобновить ее с рассветом следующего дня, мы заставали новую стену, воздвигнутую на месте прежней словно по волшебству. Зачастую противник даже предвосхищал успехи нашей артиллерии, и, как только разрушалось старое укрепление, мы к своему изумлению и ужасу обнаруживали новое, которое благодаря его осмотрительности и сноровке возводилось за ничтожно короткое время позади внешнего.
Одна из таких атак была предпринята на следующий день после моего приезда в лагерь нашего сюзерена. Все было ново для меня, и все возбуждало во мне пылкое любопытство. Грохот орудий, который предшествовал атаке и теперь стих, вдохновляющие звуки военной музыки, последовавшие за гулом канонады, реющие в воздухе стяги, ровная и четкая поступь приближающихся отрядов, рыцарские доспехи, потрепанный, неустрашимый и решительный вид пехоты — все это наполняло мою душу доселе неизведанным восторгом. Я вдыхал пороховой дым, в котором терялись и искажались очертания всех предметов, с нетерпением ожидая, когда туман рассеется; с радостью и изумлением я наблюдал крушение стены и взирал на широкую брешь. Все военные подвиги христианской доблести приходили мне на ум; великодушие, снисходительность и доброта, с которыми обращался ко мне накануне король, требовали от меня решительных действий. Я находился в передних рядах. Мы преодолели ров и были встречены отборным отрядом испанцев. Сражение было упорным — отважные воины, благородные и находчивые духом, падали и с той, и с другой стороны. Я ухватился за полотнище флага, когда ветер, играя им, наклонил его к моей руке. Между мной и державшим его испанцем завязался ожесточенный бой. Я воспользовался предоставившейся возможностью и отсек своим мечом полотнище от древка. И тут королевские трубачи подали сигнал к отступлению. В сражении я получил две тяжелые раны: одну в плечо, другую — в бедро. Я чувствовал, что слабею от потери крови. Французский офицер грубого обличья и гигантского телосложения, обращаясь ко мне как к юнцу, потребовал у меня флаг, но получил отказ, а чтобы убедить его в том, что я не шучу, я принялся обматывать полотнище вокруг собственного тела и зажал его под мышкой. Вскоре я лишился чувств и в таком состоянии совершенно случайно был обнаружен своим дядей и его спутниками, которые тут же взяли меня и мою добычу под свою опеку. Как только я немного оправился от ран, король улучил возможность и, почтив мое бесстрашие громкой похвалой, удостоил меня чести быть посвященным в рыцари на глазах всего войска.
Пока наши палатки стояли под стенами Павии, я постоянно расширял круг своих знакомств среди молодых дворян Франции, которые точно так же, как я, присоединились к своему монарху в этой достопамятной экспедиции. Я приобрел и недоброжелателей, ставших таковыми из-за знаков отличия, заслуженных мною во время осады. Но их было немного; в основном же меня почитали тем более, чем больше я показывал, что достоин почтения. Зависть не относится к тем страстям, которые находят себе благодатную почву в душе француза. Я был одним из самых молодых участников осады; но мои братья по оружию были благородными соперниками — они упрямо состязались со мной в снискании славы на поле брани, но за пиршественным столом забывали о ревности и открывали свои сердца для благоволения и дружбы. «Не будем же забывать цель, ради которой мы покинули свои родные дома и обрушились с альпийских высот на поля Италии, — так зачастую говорили они. — Мы это сделали ради того, чтобы унизить высокомерного испанца, наказать предателя Бурбона и отомстить за честь нашего возлюбленного и блистательного монарха. За этими стенами скрывается неприятель, горы служат ему прикрытием; и пусть француз не увидит врага ни в ком, кто выступает под французским флагом».
К началу ноября под Павией были воздвигнуты редуты. Нас застала зима, а осада все еще продолжалась, и хотя преимущество оставалось на нашей стороне, однако быстрого завершения ни в коей мере не ожидалось. Непогода обрушилась с необычной жестокостью, и как офицеры, так и солдаты радовались возможности укрыться от ее свирепости за пиршественными столами. Мои финансы, как я уже говорил, в начале экспедиции находились в превосходном порядке; у меня была с собой значительная сумма денег, и в то время она еще не иссякла.
Однако, предаваясь веселью, нельзя было забывать и о других вещах. Король становился все более нетерпеливым в связи с затянувшейся осадой. Гарнизон города и число его обитателей резко сократились, однако комендант не выказывал ни малейшего намерения сдаться. Тем временем поступили сведения о том, что де Бурбон предпринимает самые невероятные шаги в Германии и собирается привести оттуда неприятелю подкрепление в составе двенадцати тысяч человек, в то время как имперские генералы закладывают свои имения и отдают ростовщикам драгоценности, но более красноречием и своим влиянием на подчиненных удерживают остатки разочарованного, разбитого войска в ожидании его прибытия. А потому существовала опасность, что, если осада не будет завершена в скором времени, король будет вынужден встретиться с неприятелем в невыгодных для себя условиях или потерпеть бесславное поражение. Однако Франциск не был намерен отказываться от своего предприятия. Он поклялся, что Павия будет принадлежать ему или он погибнет в сражении за нее.
При этих обстоятельствах он решился осуществить совершенно невероятный план. С одной из сторон Павия защищена рекой Тичино, на берегах которой произошло одно из четырех известных сражений, ознаменовавших вторжение Ганнибала в Италию. Король счел, что, если усилиями его войска эту реку удастся пустить по другому руслу, город тут же окажется в его руках. Его воодушевляло и воспоминание о схожем стратегическом замысле, с помощью которого Кир завладел Вавилоном. Эта мысль чрезвычайно льстила величию его души, он представлял себе, что потомки будут сравнивать его с Киром Великим.
Замысел по изменению русла Тичино преобразил всю картину действий. Можно себе представить, сколь неимоверных усилий потребовала эта задача. Надо было проложить и углубить новое русло, а когда в него устремились воды реки, укрепить его берега сваями, к тому же нужно было насыпать огромный земляной холм, служивший надежным препятствием на пути реки к прежнему руслу. Это стало тяжким бременем для солдат в придачу ко всем неудобствам зимней военной кампании, особенно если учесть, что зима оказалась необычно суровой для этих мест. Любое другое войско взялось бы за это задание с неудовольствием и раздражением, если не с ропотом и возмущением. Но здесь проявилась легкость французского характера. Французские дворяне, во множестве сопровождавшие своего монарха, присоединились к пехоте. Мы покинули уют палаток, ковров и гобеленов, скинули верхние одежды, каждый взялся за лопату, мотыгу или тачку. Мы рьяно принялись за дело, и никто не уклонялся от работы под предлогом, что задача слишком тяжела или труд слишком грязен. И в то время как вокруг стояли обнаженные деревья и свирепствовал мороз, пот сбегал по нашим лицам и увлажнял тела. Наш пример вдохновлял войско. Работа, которую при других обстоятельствах сочли бы невыносимо тяжелой, стала таким образом новым источником веселья и радости. Невозможно забыть вид престарелых и седовласых полководцев французской армии, стремящихся проявить былую силу и бодрость. Для меня же, лишь недавно достигшего расцвета сил и привыкшего ко всевозможным упражнениям, укреплявшим тело, эта новая задача ни в коей мере не была обременительной. Я получал удовольствие от ее выполнения, какое испытывает проворный человек, когда принимает брошенный ему вызов, я не мог нарадоваться полученному мною воспитанию; и если стремление к славе является грехом, то я повинен в нем: моя жажда обрести славу была столь велика, что я ликовал, наблюдая разнообразные способы, с помощью которых ее можно достичь.
И, как ни странно, эта картина зимнего лагеря в поту и крови, в окружении опасностей, требующих от участников огромного напряжения сил, по прошествии разделивших нас лет представляется мне ныне счастливейшим временем моей жизни. Веселые труды и неожиданности дня сменялись вечерними пиршествами, на которых мы были не менее свободны в общении друг с другом, хотя зачастую наши полночные бдения прерывались неутомимой активностью неприятеля. Находясь в гуще этих разнообразных и переменчивых обстоятельств, я забывал о несчастьях и о крови, лившейся рядом. По крайней мере, на время глас высокой и беспристрастной нравственности был заглушен в моем сердце. Я постоянно находился настороже. Разнообразие событий не давало угаснуть моему боевому духу и пробудиться размышлениям. Лишь в подобных обстоятельствах человек может в полной мере ощутить, что такое жизнь, и насладиться всем буйством ее красок. Сверх того я наслаждался обществом и дружбой своих собратьев-офицеров. Они почитали меня, они любили меня. Я узнавал, что такое привязанность, и получал нешуточное удовольствие от того, что находился среди себе подобных. Таковы были мои чувства.
Не следует, однако, думать, что все вокруг ощущали то же самое. Во многом мое настроение определялось юностью и удачливостью. Старики впустую напрягали свои силы, все больше сгибаясь под тяжестью непрестанного труда. Бедняга солдат непрерывно трудился, и я трудился столько же, сколько и он; однако у него не было возможности восстановить свои силы и возродить энергию. В лагере находились люди и другого рода, чья жизнерадостность омрачалась чаще, чем моя. Это был и король, и генералы, находящиеся в его непосредственном подчинении. Они не могли избежать размышлений и обсуждений. Затянувшаяся осада вселяла в них тревогу, и они понимали, что каждый день отсрочки увеличивает сомнительность исхода кампании.
Разумеется, комендант города, Антонио де Лейва, был встревожен необычным замыслом, который мы приводили в исполнение, и делал все возможное, чтобы предотвратить его осуществление. Однажды вечером король пригласил меня в свою палатку и доверительно сообщил, что неприятель в ближайшую ночь намерен предпринять три атаки на наш холм — по одной с каждого берега реки и одну на лодках по воде. Две из них, сказал он, будут не более чем отвлекающими маневрами; основные его силы будут направлены на западный берег Тичино. На этом участке король намеревался лично командовать войсками; командование судами, с помощью которых он собирался противостоять вражеской флотилии, он доверил одному из известнейших и достойнейших офицеров своей армии; отряд на восточном берегу он собирался доверить мне и моему дяде. Он заметил, что отряд, который он в состоянии выделить для этой цели после комплектования двух других и формирования необходимого резерва для защиты лагеря, а также работ по проведению нового русла, будет очень малочисленным, и предупредил о необходимости проявлять крайнюю бдительность. Вдвойне будет бесславным, если отряд, атака на который станет лишь отвлекающим маневром, потерпит поражение. «Ступай, — добавил он, — и оправдай мои ожидания; добавь новые заслуги к подвигу своего первого сражения и помни, что тогда ты сможешь считаться одним из величайших столпов военной славы Франции».
Маркиз де Вильруа разделил наши небольшие силы на два отряда: с большим он залег в ожидании неприятеля неподалеку от места предполагаемой атаки, меньшим предоставил командовать мне и расположил нас так, чтобы мы могли с тыла напасть на неприятеля, когда тот завязнет в схватке с нашими товарищами. Выполняя свою задачу, я воспользовался преимуществом, предоставлявшимся покровом леса, который давал мне возможность приблизиться к предполагавшемуся пути следования наших противников и не быть при этом замеченным ими. Ночь была чрезвычайно темной, однако мы находились настолько близко, что я мог сосчитать неприятеля, когда он двигался мимо моего укрытия. Я был встревожен, обнаружив, что его число по меньшей мере втрое превосходит ожидавшееся. Как только отряд прошел, я отправил к королю юного рыцаря, с которым меня соединяли особенно дружеские связи и который оказался вместе со мной на случай, если мне потребуется подкрепление. Одновременно я послал гонца к дяде окружным путем, чтобы сообщить ему о том, что видел, а также о шаге, предпринятом мной, с просьбой сдерживать нападавших так долго, как это будет возможно. Однако не успел враг добраться до намеченного места, как войска маркиза, которые невозможно было удержать, ринулись в сражение. Сначала испанцы были поражены, но очень скоро почувствовали слабость своего противника, и подкрепление, приведенное мною на помощь дяде, было не в силах изменить ход сражения. Мы потеряли много людей, остальные, вероятно, отступили, и в ночной тьме казалось невозможным восстановить порядок и повести их в атаку. Мы уже были почти полностью разбиты, когда прибыло ожидаемое подкрепление. Однако пришедшие к нам на выручку не были в состоянии отличить друзей от врагов. Налетевшая снежная буря с дождем сковывала наши члены, свирепо обрушивалась на лица, скрывая все в мутной мгле. Заварившаяся в этих обстоятельствах схватка была ужасающа. Мы разили наугад. Француз оказывался не менее опасным, чем испанец. Когда сражение закончилось, ни единого неприятеля не осталось в живых, однако с изумлением и ужасом мы пересчитали французов, которые, вероятно в разгар сумятицы, были искромсаны собственными соотечественниками.
Теперь я приближаюсь к моменту, положившему конец праздничной и приятной атмосфере кампании. Все последовавшее за этим было непрерывной чередой несчастий. К концу января непрекращающиеся ливни если не полностью парализовали, то значительно замедлили наш труд. Это губительно повлияло на нас во многих отношениях; работа, шедшая теперь под проливным дождем, вселяла уныние. К тому же мы осознавали приближение еще более значительной угрозы, которая быстро начала осуществляться. Постоянно таявший снег и увеличивающееся количество воды привели к тому, что однажды днем мы обнаружили, что наш холм — главный объект наших усилий и наша надежда — начал в разных местах поддаваться напору стихии. На следующее утро на рассвете вода хлынула отовсюду с поразительной силой и шумом. Трудно описать отчаяние, охватившее всех. Труд многих недель рассыпался в мгновение ока. По мере продвижения в своей работе мы видели, как каждый день приближает нас к желанной цели. К этому моменту наш замысел был почти осуществлен и в нашем воображении Павия, овладение которой стоило стольких сил, беспримерного мужества и жизней стольких солдат, уже принадлежала нам. Потрясение постигшей нас катастрофой, мы смотрели друг на друга в поисках поддержки, но не находили ее.
Тем не менее еще не все было потеряно. Гарнизон города начал страдать от недостатка провизии и амуниции. Его защитники пребывали в растерянности и едва не подняли мятеж, который с трудом удалось сдержать увещеваниями и авторитетом коменданта. Однако и эта наша последняя надежда была подорвана сведениями, полученными на следующий день после разрушения холма, о том, что войско императора, получив подкрепление и теперь обладая значительными силами, приближается к нам. За некоторое время до этого король в пылу уверенности и душевного подъема отослал отряд в шесть тысяч человек для вторжения в Неаполитанское королевство, которое, как и Миланское герцогство, он унаследовал от своих непосредственных предшественников.
Но хотя враг превосходил нас числом, а возможно, был и более дисциплинирован, ему пришлось испытать немало трудностей, неведомых нам. Император, хотя его владения были более обширными, не получал от них того дохода, что имел Франциск. Поскольку он не принимал личного участия в кампании, эта война представлялась его подданным самой обычной, преследующей те же цели, что и любая другая. Моих же соотечественников вел монарх, они еще не остыли от недавно нанесенного оскорбления, когда были нарушены границы их отечества, и сражались как ради личной славы, так и за честь родной страны. Король, казалось, всеми силами стремился снискать привязанность и любовь своих подданных. Дворяне воодушевлялись, видя перед собой пример венценосца, и охотно вкладывали деньги в кампанию, дабы придать ей блеск и известность.
Первый вопрос, который возник при приближении врага, заключался в том, следует ли нам прервать осаду и, заняв какую-либо укрепленную позицию, дожидаться нескорых, но верных последствий нищеты и вызванного ею разброда во вражеском войске или встретить атаку, находясь в прежнем лагере. Первое предложение сулило большую безопасность, но отважному духу Франциска оно казалось бесславным. Он всегда был сторонником быстрых мер и решительных действий; и его настроение соответствовало духу всего нашего войска, за исключением нескольких осторожных и осмотрительных советников. В течение нескольких дней мы поздравляли друг друга с принятым мудрым решением: мы представляли для врага столь устрашающее зрелище, что, несмотря на настоятельную необходимость наступления, он долго колебался, прежде чем отважился атаковать нас. Однако настал день, предвещавший события исключительной важности.
Во всем нашем лагере не было человека, не охваченного душевным порывом в связи с этим выдающимся событием, но мне оно казалось особенно захватывающим. Все мое воспитание готовило меня именно к этому случаю, и новизна зрелища производила сильное впечатление. Я жил только настоящим. Ни одна мысль, ни одно желание, ни одна мимолетная фантазия, не относящиеся к происходящему, не посещали меня. Душа моя была полна — то в ней все кипело от ожиданий, то все замирало в благоговейной восторженности. Есть что-то невыразимо прекрасное в подобной душевной сосредоточенности. Она поднимает человека над самим собой и заставляет его ощущать благородство и возвышенность своего характера, о которых он раньше даже не догадывался. Мыслям о боли и страхе не было места в моей груди; мне казалось, что наступил самый великий день моей жизни, а сам я являюсь наисчастливейшим из смертных. Воистину я был далек от того, чтобы предвидеть позорный исход, которым вскоре было суждено завершиться этому душевному восторгу.
В безоблачном небе встало яркое солнце. Зимний холод лишь добавлял легкости и подвижности мышцам и душевным силам. Я не замечал живописный пейзаж, обычно вызывающий в нас духовный подъем. В моем тогдашнем состоянии ничто не могло мне доставить большего удовольствия, чем гордая и ровная поступь военных оркестров, нетерпение лошадей и вынос военных знамен; не было музыки более завораживающей, чем пронзительный визг волынок, звон труб, ржание скакунов и гром пушек. Именно с их помощью человек закрывает глаза на истинную природу своего ремесла — он облекает то, что должно считаться самым грустным и прискорбным, в форму праздника и торжества.
Вначале императорские войска были не в силах вынести натиска доблестных французов. Они отступали по всем направлениям, мы стремительно обеспечивали себе преимущество. Я не замечал, как с невероятной быстротой сметались и уничтожались целые отряды, я не обращал внимания на огонь и умирающих — мои уши не воспринимали их стонов, ибо силы души моей были направлены на другое. Искромсанные ноги моей лошади были красны от крови, стекавшей на копыта. Я сражался не только отважно, но и яростно; я воодушевлял окружающих своим примером и восклицаниями. Может показаться нескромным говорить с такой свободой о собственных заслугах, но теперь я настолько изменился и столь далек от того, кем был тогда, что пишу скорее с прямотой историка. Эта простота и искренность и впредь будут пронизывать все мое повествование.
Но вскоре фортуна повернулась к нам спиной. Первым знаком несчастья стали трусость и отступление швейцарских союзников. Отважный командующий гарнизоном Павии в разгар сражения внезапно появился из ворот крепости и атаковал нас с тыла, а продвижение кавалерии было прервано стратегической уловкой одного из генералов императора. Характер боя внезапно переменился.
Бессмысленно даже пытаться описать весь ужас последовавшего за тем разгрома французской армии. Даже по прошествии столь длительного времени при воспоминании об этом у меня снова начинают кровоточить почти уже затянувшиеся душевные раны. Я вижу, как со всех сторон падают и гибнут мои друзья. Те, кто вместе со мной выступали утром преисполненные надежд и восторга, теперь утопали в собственной крови. Их мечты, их мысли, само их существование были оборваны роковым образом. Рядовых солдат рубили и кромсали сотнями, на что никто не обращал внимания. Многие из первейших дворян Франции, доведенные до отчаяния такой переменой хода сражения, ринулись в самую гущу врага и добровольно пожертвовали собой, предпочитая скорее погибнуть, чем бесславно обратить к нему свои спины.
В этом сражении подо мной были убиты две лошади. Первую из них уничтожали как бы по частям. У нее уже зияла одна рана на морде и другая на шее, когда ядром ей оторвало обе ноги и она распростерлась на земле. Бернардин, мой верный слуга, заметив, что произошло, тут же подвел мне свежего жеребца, но я недолго проскакал на нем, ибо и он получил смертельную рану, сразившую его наповал. Я и сам получил несколько ранений, пока удар сабли не свалил меня на землю. Здесь я довольно долго пролежал без чувств. Когда я очнулся и огляделся, то обнаружил себя в полном одиночестве — вокруг не было ни неприятеля, ни моих соратников. Вскоре, однако, я вспомнил о том, что произошло, и убедился в поражении своих соотечественников. Несмотря на слабость и раны, я попытался укрыться в более безопасном месте. Но едва я пошевелился, как увидел солдата-неприятеля, направлявшегося ко мне с явным намерением отнять у меня жизнь. К счастью, поблизости я заметил дерево, в укрытие кроны которого и поспешил; то раскачивая ветви, то меняя свое местоположение, я препятствовал осуществлению замысла врага, пока он не отказался от своего намерения. Через мгновение у меня на глазах был убит самый близкий и любимый друг. Однако вскоре после этого как раз там, где я находился, появилась группа французских беглецов, и я вместе со всеми поспешил с поля боя. Мой дядя погиб в этом сражении.
Поразительно, как сцены, подобные тем, свидетелем которых мне довелось стать, закаляют сердца людей. Поразительно, что в разгар такого ужасного неистовства, разгула варварства и смертоубийства люди не теряют способности к взаимопомощи. Но их принуждают участвовать в этом, и они вступают в дело не из прискорбной необходимости, но устремляются к нему, как к празднеству, где каждый горит желанием занять свое место и разделить со всеми удовольствие. Тогда мне думалось, как думаю я это и сейчас, что человеку достаточно увидеть такое поле, как при Павии, чтобы он навсегда отказался от ремесла насилия и вернул свой меч, когда-то изъятый для столь недостойной цели, чреву земли.
Однако эти мысли, теперь уже окончательно утвердившиеся в моем сознании, в описываемый момент были лишь преходящими проблесками. Слишком сильно было влияние воспитания и усвоенных взглядов. Ужас, охвативший меня в первые мгновения этого великого национального поражения, отступил, и воинский пыл вернулся ко мне с прежней силой. Мои убеждения и нравственная целостность души страдали непостоянством, и я сам стал воплощением той непоследовательности, о которой только что говорил.
Однако в силу целого ряда обстоятельств моему порыву не дано было воплотиться в действие. После битвы при Павии положение Франции изменилось, хотя мое умонастроение и осталось тем же. Это сражение решило исход войны. Милан, как и все другие города герцогства, распахнул ворота перед победителем, и через неделю на полях Италии уже не осталось ни одного француза. Из всей армии лишь небольшой отряд под командованием герцога Алансонского отступал организованно. Многие лица высочайшего происхождения погибли в сражении, другие были захвачены в плен. После этого события дворянство Франции значительно поредело, лишившись наиболее ярких и достойных своих представителей.
Но главным итогом этого события стало то, что сам король оказался в плену и был освобожден своим неблагородным соперником лишь после двенадцатимесячного заключения. За это время Франциск претерпел всевозможные удары судьбы. Поначалу, склонный видеть в своем противнике подобного себе, он ожидал великодушного отношения. Однако его постигло горькое разочарование. После многомесячного содержания в Милане, который был свидетелем его прежних успехов, его перевезли в Мадрид. Император не уделял ему никакого внимания, одновременно оказывая исключительное расположение его неверному подданному. Франциску были предложены самые жесткие условия. Все это то повергало его в такое уныние и угнетенное состояние духа, что, казалось, могло свести в могилу, то приводило к мысли отречься от короны и объявить о своем решении стать пожизненным узником. Наконец его заточение завершилось вынужденным подписанием условий, которые он был намерен нарушить, как только окажется свободным, — решение особенно тяжелое для человека, обладавшего величием духа. Эта перемена судьбы изменила его характер. Исчез изысканный дух честолюбия, и, хотя он сохранил бессмертные качества своей души и по-прежнему был отважен, добросердечен и великодушен, когда только было возможно, он сменил свойственные ему предприимчивость и дерзость на осмотрительность и расчетливость своего более удачливого соперника. Его гений померк перед лицом Карла; и, возможно, поражение при Павии нанесло смертельный удар по эпохе рыцарства, став прочным фундаментом для развития торговли, ремесла, лжи и коррупции.
Произведения
Критика