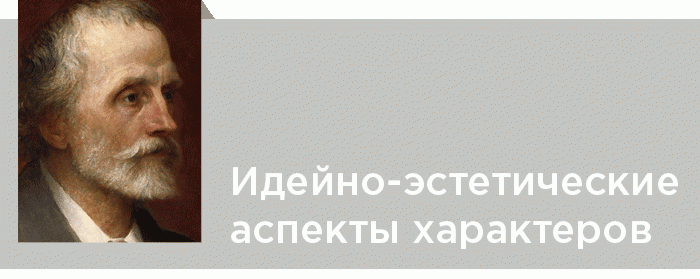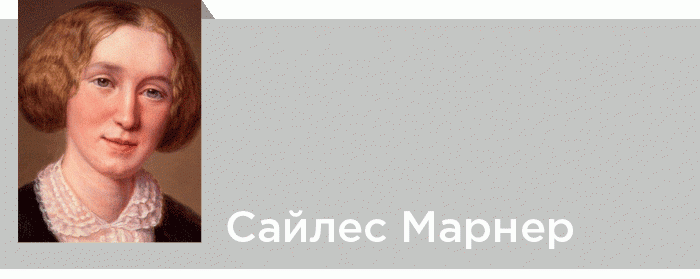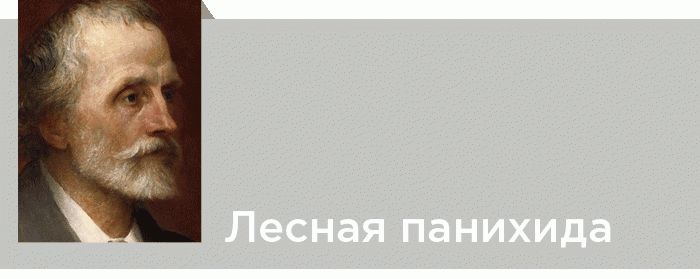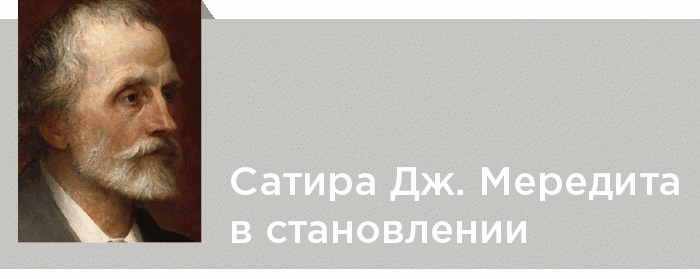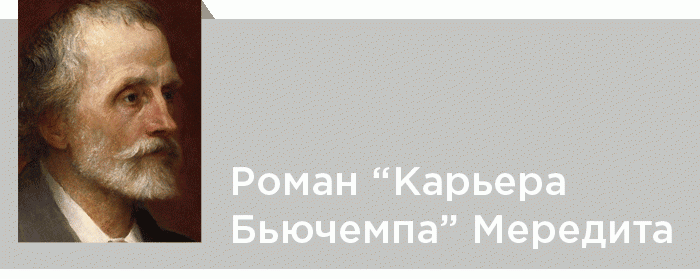Джордж Мередит. Испытание Ричарда Феверела

(Отрывок)
ГЛАВА I
Обитатели Рейнем-Абби
Несколько лет тому назад вышла в свет книга, озаглавленная «Котомка пилигрима». Она состояла из выбранных изречений безымянного философа, стыдливо и скромно изливавшего перед миром страдания разбитого сердца.
У автора не было никаких притязаний на новизну.
«Наши новые мысли, — писал он, — находят отзвук в омертвевших сердцах». Из этого признания следует, что он явно уже не молод, он больше не завидует древним. Со страниц этой книги веяло едва уловимой тоской по той поре жизни, когда мы до такой степени упоены собою, что мысли наши принимают обличье невинных девушек и, обнимая нас, клянутся, что, кроме нас у них не было и нет никого на свете, — и мы им верим.
Вот пример его взглядов касательно отношения полов: «Мне думается, что Мужчине легче цивилизовать кого угодно, но только не Женщину».
Столь чудовищное презрение к прекрасному полу вызвало известное замешательство среди дам.
Некая предприимчивая особа обратилась в Хералдз Колледж, и там удалось установить, что грифон между двумя снопами пшеницы, изображенный на титульном листе книги, является эмблемою герба сэра Остина Абсворти Бирна Феверела, баронета Рейнем-Абби в одном из Западных графств, расположенных по обе стороны Темзы; что это человек богатый и знатный, но с неудачно сложившейся жизнью.
История баронета была отнюдь не нова. У него была жена и был друг. Женился он по любви; жена его была хороша собой; друг его был в некотором роде поэтом. Сердце баронета безраздельно принадлежало жене, а откровенен он мог быть только с другом. Когда среди всех товарищей по колледжу выбор его пал именно на Дензила Самерса, то это было вовсе не оттого, что их объединяло некое сродство душ; просто он настолько чтил в человеке этом талант, что, ослепленный его блеском, упустил из виду, что приятель его начисто лишен каких бы то ни было нравственных устоев. В юные годы Дензил владел небольшим поместьем, но успел промотать его еще до того, как окончил колледж; поэтому он всецело зависел от своего поклонника, в доме которого жил, числясь там для виду на должности управляющего имениями и сочиняя стихи, сатирические и в то же время сентиментальные; дело в том, что, будучи предрасположен к порокам и по временам втайне давая им волю, он, разумеется, не мог не сделаться поэтом сатирическим и сентиментальным, считающим себя вправе бичевать свой век и сетовать на слабости человеческой природы. Его ранние стихи, напечатанные под псевдонимом Дайпер Сендо, были на редкость целомудренны и бескровны, когда в них заходила речь о любви, и вместе с тем в нравоучительной части своей столь беспощадны, что он сделался весьма популярен среди людей добродетельных, которые и составляют большую часть публики, покупающей в Англии книги. Приближение выборов всякий раз побуждало его слагать баллады в честь партии тори. Стихом Дайпер несомненно владел, но вклад его в поэзию был, в сущности, невелик, хотя сэр Остин и возлагал на него большие надежды.
Томившаяся взаперти неопытная женщина, муж которой и в умственном, и в нравственном отношении намного превосходил ее и которая, когда ее первое романтическое восхищение благородством его прошло и она увидела, что мирок ее собственных чаяний и чувств не находит в нем отклика, оказалась в то же время в повседневной и далеко не безопасной близости к человеку порывистых чувств, с легкостью изливавшему их в стихах и прозе. Сделавшись хозяйкою Рейнема, леди Феверел первое время ревновала мужа к его приятелю. Постепенно она, однако, становилась к последнему более снисходительной. А спустя некоторое время он уже играл у нее в комнате на гитаре, и они являли собою Риччо и Марию.
Как и его, судьбу мою Мария предрешила! — говорится в более позднем, построенном на аллитерациях сентиментальном любовном стихотворении Дайпера.
Вот с чего эта история началась. Весь дальнейший ход событий был определен самим баронетом. Он подошел к ним обоим с открытой душой. К одной он питал благородную любовь, к другому — беззаветную дружбу. Он положил им быть братом и сестрой и вместе с ним испытать в Рейнеме все радости Золотого Века. Словом, он щедро расточал перед ними сокровища своей души, что, вообще-то говоря, никогда не доводит до добра, и, подобно Тимону, все потерял и изверился в людях.
Его вероломная жена не могла похвастать особенно знатным происхождением. Это была рано лишившаяся матери дочь адмирала, который воспитывал ее на свою пенсию, и ее поведение могло запятнать честь только того, чье имя она приняла.
После пяти лет супружества и двенадцати лет дружбы сэр Остин остался в одиночестве, и единственным существом, на которое он мог излить свою любовь, был качавшийся в колыбели младенец. Друга своего он простил: он просто вычеркнул его из памяти, как существо жалкое и недостойное его гнева. Жену он простить не мог: как-никак она согрешила. Обыкновенная неблагодарность к своему покровителю — это вина, которую все же можно было простить, ибо сэр Остин отнюдь не был склонен вспоминать причиненное ему зло и без конца попрекать лиходея оказанными ему благодеяниями. Но ее-то ведь он возвысил до собственного уровня и судил он ее как равную. По ее вине исполненный радости мир для него померк.
Перед лицом этого померкшего мира он, однако, продолжал вести себя так, как прежде, и черты его лица превратились в подвижную маску. Миссис Дорайя Фори, его овдовевшая сестра, говорила, что Остину следовало бы на какое-то время оставить свою парламентскую деятельность и отказаться от всяких развлечений и тому подобных вещей; наблюдая его это время на людях и дома, она пришла к убеждению, что покинувшее их легкомысленное создание было всего-навсего пушинкой на сердце ее брата и что жизнь его непременно снова войдет в прежнюю колею. Надо сказать, что для человека заурядного подобное потрясение подчас действительно становится неодолимым. Впрочем, один из его братьев, Гиппиас Феверел, полагал, что Остин необычайно много выиграл от постигшей его беды, если только вообще потерю такой жены можно было назвать бедою; и если принять во внимание, что после нее именно к Гиппиасу отошли освободившиеся в Рейнеме комнаты и он вступил во владение целым крылом дома, которое до этого занимала неверная супруга, то отнюдь не бесполезно знать, какие мысли возникли у него по этому поводу. Решись к тому же баронет дать два или три ослепительных званых обеда в большом зале, он бы с успехом ввел в заблуждение все общество, как ему это удалось с родными и близкими. Но для этого он был слишком удручен; его хватало лишь на то, что не требовало особых усилий.
Проснувшаяся среди ночи кормилица поразилась, увидав, что над спящим младенцем склоняется одинокая фигура, заслоняя собою свет фонаря; потом она так привыкла к ее появлению, что если и просыпалась, то уже не испытывала испуга. Однажды ночью ее разбудили чьи-то рыдания. Возле кроватки стоял баронет в длинном черном плаще и шляпе. Пальцы его загораживали фонарь и светились красным светом напротив то и дело наползавших на стену лоскутьев тьмы. Она не верила своим глазам, увидав, как суровый хозяин дома стоит перед нею в глухом безмолвии и из глаз его льются слезы. Она окаменела от страха и горя, ни о чем не думала и только считала капавшие из его глаз слезинки. Спрятанное лицо, падение и блеск этих тяжелых капель при свете фонаря, его прямая зловещая фигура, наподобие часового механизма мерно содрогавшаяся каждый раз, когда тихое дыхание замирало, словно неся в себе смерть, — от всей этой картины бедная женщина прониклась такой безмерною жалостью, что сердце ее забилось.
— О сэр! — вырвалось у нее, и она разрыдалась. Сэр Остин направил свет фонаря на ее подушку, приказал ей немедленно лечь и тут же вышел из детской. На следующий день он ее рассчитал.
Однажды, когда мальчику уже было семь лет, он, проснувшись ночью, увидел склонившуюся над кроваткой женщину. Наутро он рассказал об этом, но его упорно убеждали, что это всего лишь сон, и так продолжалось до того часа, когда в замок вдруг привезли из Лоберна его дядю Алджернона, который, играя в крикет, сильно повредил себе ногу. Тогда все вспомнили, что в замке иногда появляется и бродит привидение, и хотя ни один из членов семьи в это привидение не верил, никто не стал этого опровергать — ведь наличие в доме привидения как-никак является самым важным свидетельством знатности рода его владельца.
Алджернон Феверел лишился ноги и был отчислен из королевской гвардии. Другой дядя маленького Ричарда Катберт был моряком и погиб в кровопролитном сражении в верховьях Нигера с вождем одного из негритянских племен. Кое-какие трофеи этого бравого лейтенанта украшали детскую в Рейнеме, Ричарду же, в глазах которого он был героем, он завещал свою шпагу. Другой его дядя, Вивиан, светский щеголь и дипломат, порхавший с цветка на цветок, кончил тем, что женился на девушке низкого происхождения, как то часто случается со светскими щеголями, и двери дома для него наглухо закрылись. Алджернон, тот жил обычно в заброшенном городском доме баронета; это был человек ничтожный, проводивший время то на скачках, то — за игрою в карты; говорили, что он придерживается нелепого убеждения, будто, лишившись ноги, можно вернуть утраченное равновесие, прибегнув к бутылке. Во всяком случае, когда он встречался со своим братом Гиппиасом, они никогда не упускали случая проверить, кому сподручнее пьется, человеку с одной ногой или с двумя. При том, что в привычках своих сэр Остин оставался пуританином до мозга костей, — будучи радушным хозяином и сверх того истым джентльменом, он не решался навязывать своих привычек приезжавшим к нему гостям. Братья его и все прочие родственники могли жить, как им заблагорассудится, лишь бы они не порочили его доброго имени. Но коль скоро такое случалось, решение его было бесповоротно: им надлежало убраться из дома и больше не показываться ему на глаза.
Алджернон Феверел был человеком цельным: он понял, когда его постигла беда — впрочем, может быть, хоть и смутно, он представлял себе это и раньше, — что вся его карьера в его ногах и что теперь она безвозвратно погибла. Он учил мальчика боксу и стрельбе, искусству фехтования. И с живым интересом, хоть и не без некоторой грусти, направлял пробуждавшиеся в нем силы. При этом в остающееся время Алджернон уделял немало внимания осуждению подачи в крикет. Это осуждение свое он распространял по всему графству и строчил требовавшие от него немалого труда литературные творения об упадке игры в крикет, которые он потом посылал в писавшие о новостях спорта газеты. Именно Алджернон оказался свидетелем и хроникером первого в жизни Ричарда поединка — с юным Томом Блейзом с Белторпской фермы, который на три года был его старше.
Гиппиаса Феверела когда-то считали самым способным в семье. На свое несчастье, он отличался большим аппетитом и слабым желудком; а поелику человек, вступающий в непрерывные схватки с обедом, не очень-то годен для битвы жизни, Гиппиас расстался с карьерою адвоката и, продолжая страдать от несварения желудка, составил увесистый труд по мифологии европейских народов. К наследнику Рейнема он не имел ни малейшего отношения, если не считать того, что ему приходилось переносить его мальчишеские проделки.
Почтенная дама, двоюродная бабка Грентли, которая собиралась оставить последнему отпрыску рода все свое состояние, занимала вместе с Гиппиасом заднюю часть дома, и они имели обыкновение вместе пить там целительный отвар. До обеда их в доме обычно никто не видел; к нему они готовились в течение всего дня и вспоминали его, должно быть, всю ночь, ибо люди восемнадцатого столетия были отменными едоками и сразу же забывали о том, сколько им лет, стоило только на столе появиться вкусному блюду.
Миссис Дорайя Фори была старшей из трех сестер баронета; это была цветущая привлекательная женщина с красивыми белоснежными зубами, еще более красивыми волнистыми светлыми волосами, норманским носом и репутацией дамы, умеющей понимать мужчин; последнее же качество у этих практичных существ неизменно означает умение ими верховодить. Она вышла замуж за подававшего большие надежды младшего отпрыска знатного рода, который умер прежде, чем все эти надежды успели осуществиться. Поглощенная заботами о судьбе своей единственной дочери, совсем еще маленькой девочки Клары, она уже снова что-то прикидывала, строила какие-то планы. Дальний прицел, неколебимая решимость, присущее женщине непрестанное упорство, когда она печется о судьбе дочери, а интересами мужчины легко может поступиться, и побудили ее добиться того, что ее пригласили в Рейнем, где она прочно обосновалась вместе с дочерью.
Двумя другими гостьями Феверела были жена полковника Вентворта и вдова судьи Харли, примечательные только тем, что у обеих были незаурядные сыновья.
История Остина Вентворта — это история сбившегося с пути юноши, и для того, чтобы как следует в ней разобраться, пришлось бы рассказать всю правду, чего сейчас никто не решается сделать.
За совершенный в ранней молодости грех, который он искупил, поступив благородно и в полном соответствии со своими взглядами, свет жестоко его осудил, и отнюдь не за самый грех, а именно за то, что он надумал его искупить.
— Женился на горничной своей матери, — шептала миссис Дорайя; лицо ее выражало ужас, и она вся содрогалась, думая о республикански настроенных юношах, взгляды которых, как говорили, он разделял.
«Искупление Несправедливости, — гласит «Котомка пилигрима», — состоит в том, что, проходя через суровое Испытание, мы собираем вкруг себя достойнейших из людей».
Надо сказать, что близкая приятельница баронета леди Блендиш, равно как и еще несколько порядочных мужчин и женщин, высоко ценили Остина Вентворта.
Со своей женою он жить, однако, не захотел, и сэр Остин, который привык задумываться над судьбами человечества, упрекал его в том, что он уйдет из жизни, так и не оставив потомства, в то время как кругом множатся простолюдины.
Главной чертою его другого племянника, Адриена Харли, была проницательность. Это был человек поистине мудрый, и это сказывалось в даваемых им советах и — в поступках.
«В поступках, — гласит «Котомка пилигрима», — Мудрость подтверждается большинством».
У Адриена было издавна тяготение к большинству, и, коль скоро свет неизменно числил его в своих рядах, прозвание «мудрый юноша» принималось окружающими без тени иронии.
Итак, на стороне мудрого юноши был свет, но друзей у него не было. Да ему и не нужны были эти надоедливые придатки успеха. Он старался вести себя так, чтобы знакомства с ним искали люди, которые могли быть ему полезны, и чтобы те, кто мог причинить ему вред, его боялись. Однако нельзя сказать, чтобы он сколько-нибудь усердствовал для достижения своей цели или пускался на риск, затеяв какую-либо интригу. Все спорилось у него с той же легкостью, с какою он ел и пил. Адриен был эпикурейцем; таким, однако, которого Эпикур, несомненно, изгнал бы из своего сада,— эпикурейцем современного толка. Жизнь свою он строил так, чтобы иметь возможность удовлетворять свои страсти, ничем не пороча своего доброго имени. Душевной близости у него не было ни с кем, кроме разве Гиббона и Горация, и общение с этими изысканными аристократами от литературы помогало ему принять человечество таким, каким оно было и в прошлом, и в настоящем: как некое исполненное иронии шествие, которому поодаль сопутствует смех богов. А почему бы и самим смертным не присоединиться к этому смеху? Сидя в своем укромном уголке, Адриен по-своему потешался над всеми. Ему были присущи все атрибуты языческого бога. Он вершил судьбами людей: это за их счет он был вылощен и окружен роскошью и — счастлив. Он жил упоенный собою, словно возлежа на пуховом облаке, нежась в лучах солнца. Ни Зевс, ни Аполлон не выбирали себе девушек на земле столь пристально и бесстрастно, не преследовали их столь безнаказанно, приняв чужое обличье, и не были окружены в их глазах таким ореолом. Сама репутация праведника становилась для него еще одним источником наслаждения. Говорят, что запретный плод сладок; а что может сравниться со сладостью незаслуженной награды!
Главное, Адриену вовсе не надо было для этого притворяться. Он нисколько не заботился о том, чтобы снискать расположение света. Не делая никаких усилий, чтобы что-то скрывать, и природа, и он сам удовлетворялись той привычной маской, которую носят все. И, однако, общество провозгласило его человеком высоконравственным и мудрым и во всех отношениях являющим приятную противоположность опозорившему себя кузену Остину.
Словом, Адриен Харли утвердился в своей жизненной философии, когда ему был всего лишь двадцать один год. Многие рады были бы сказать о себе такое и в сорок два, ибо отягчены бременем, от которого Адриен был начисто избавлен. Миссис Дорайя была, пожалуй, права в том, что говорила о его сердце. Некая несчастная случайность, имевшая место во время родов, а, быть может, еще и в материнской утробе, переместила в нем этот орган несколько ниже, расположив его в животе, где ему стало значительно легче; больше того, легкостью своей оно как бы окрыляло его шаги. Это необычное обстоятельство приносило мудрому юноше свои особые радости. Живот его уже хотел обрести округлость, позволявшую в известной мере судить о его вкусах и убеждениях. Он бывал обаятелен после обеда, будь то среди мужчин или женщин; язвительность его всех восхищала; может быть, в вопросах нравственных он и не был особенно щепетилен, но установившаяся за ним высокая репутация прикрывала сей недостаток, и все, что он говорил, воспринималось в свете приписанного ему благородства его натуры.
Таков был Адриен Харли, другой любимый собеседник сэра Остина, тот, кого он выбрал из всего человечества, чтобы сделать воспитателем своего сына в Рейнеме. Поначалу Адриен должен был пойти по духовной части. Но священником он не стал. Однажды они с баронетом обстоятельно все обсудили, и с того самого дня Адриен навсегда поселился в Рейнем-Абби. Отец его умер как раз в то время, когда подававший большие надежды сын заканчивал колледж, и, не унаследовав от него ничего, кроме его судейских замашек, Адриен стал служить на жаловании в поместье у дядюшки.
Товарищем детских игр Ричарда был мастер Риптон Томсон, сын поверенного сэра Остина, мальчик ничем особенно не примечательный. Он был единственным из сверстников, с которым наследник Рейнема в то время дружил.
Без такого товарища Ричарду все равно было не обойтись: его не хотели отдавать ни в школу, ни в колледж. Сэр Остин был убежден, что школы — это рассадники распущенности, и полагал, что родительская опека одна может уберечь подрастающего отрока от змия до тех пор, пока не появится Ева; появление же этой особы, по его словам, всегда есть возможность отсрочить. У него была своя Система воспитания сына. Как она действовала, мы увидим.
ГЛАВА II,
из которой явствует, что парки решили испытать силу упомянутой выше Системы и избрали для этого день, когда мальчику исполнилось четырнадцать лет
Четырнадцатилетие Ричарда пришлось на сияющий октябрьский день. Коричневые буковые леса и золотистый березняк пламенели, освещенные ярким солнцем. Недвижные облака нависли над горизонтом; они скопились на западе, там, где ветер улегся. Как потом оказалось, скопление их предвещало Рейнему насыщенный событиями день, хоть все и сложилось отнюдь не так, как было намечено поначалу.
Палатки для лучников, навесы для крикета поднялись уже на отлогом берегу реки, куда парни из Берсли и Лоберна приезжали в колясках и на лодках, весело крича и предвкушая, что их напоят элем и поздравят с победой; все готовились померяться силами с соперниками и сорвать с их голов лавровые венки, как то и пристало мужественным бриттам. Парк наполнился людьми и оглашался веселыми криками. Сэр Остин Феверел, будучи до кончиков ногтей добропорядочным тори, особенно не стерег свои угодья и, когда хотел, всегда умел быть радушным хозяином, чего никак нельзя было сказать о владельце поместья на противоположном берегу реки, сэре Майлзе Пепуорте, заядлом виге и грозе браконьеров. Едва ли не половина всех жителей Лоберна расхаживала по парковым аллеям. Уличные скрипачи и цыгане толклись у ворот, прося, чтобы их впустили; белые и синевато-серые блузы, широкополые шляпы, а изредка даже и какой-нибудь алый плащ, от которого веяло прошлым этого края, рябили на заросших травою угодьях.
А в это время виновник торжества уходил куда-то все дальше и дальше, стараясь скрыться от всех и увлекая за собою упиравшегося Риптона, который то и дело спрашивал, что они будут делать и куда идут, и твердил, что уже пора возвращаться, не то лобернских парней пошлют их искать, и что сэр Остин их ждет. Ричард оставался глух ко всем его увещеваньям и мольбам. Дело в том, что сэр Остин хотел, чтобы Ричард прошел медицинское освидетельствование, какое проходят все простолюдины, кого забирают в солдаты, а мальчика это привело в ярость.
Он убегал из дома так, как будто хотел убежать от мысли о позоре, которому его подвергают. Мало-помалу он стал изливать свои чувства Риптону, на что тот ответил, что он ведет себя как девчонка; замечание это его оскорбило, и Ричард не забыл о нем, и после того, как они взяли на ферме бейлифа охотничьи ружья и Риптон промахнулся, он обозвал своего приятеля дураком.
Сообразив, что все складывается так, что он действительно выглядит дураком, Риптон поднял голову и вызывающе вскричал:
— Ты лжешь!
Этот гневный протест неуместностью своей не на шутку рассердил Ричарда, который и перед этим уже досадовал на Риптона за упущенную дичь и действительно был оскорбленною стороной. Поэтому он еще раз обозвал Риптона тем же обидным словом, подчеркнуто стараясь его унизить.
— Кто бы я ни был, называть меня так ты не смеешь, — кричит Риптон и закусывает губу.
Дело принимало серьезный оборот. Ричард нахмурился и на минуту воззрился на своего обидчика. Потом он сообщил ему, что его так и следует называть и что он готов двадцать раз повторить это слово.
— Ну что же, попробуй, увидишь, что будет! — отвечает Риптон, качаясь и тяжело дыша.
С важностью, присущей только мальчишкам и тому подобным варварам, Ричард привел в исполнение свою угрозу, повторяя это слово должное число раз и акцентируя его так, чтобы повторение это не было монотонным, а презрение его и брошенный им вызов становились раз от разу сильнее. Риптон всякий раз кивал головой, как бы соглашаясь со счетом, который приятель его вел, и подтверждая тем самым претерпеваемое им глубокое унижение.
Сопровождавший их пес взирал на это странное зрелище, недоуменно виляя хвостом.
Ричард и в самом деле не больше и не меньше как двадцать раз повторил это мерзкое слово.
Когда унизительная кличка победоносно прозвучала в двадцатый раз, Риптон наотмашь ударил обидчика по лицу. Вслед за тем он тут же выпрямился; может быть даже, он сожалел о том, что сделал, ибо сердце у него было доброе, а так как Ричард в ответ только кивнул головою, как бы подтверждая, что получил от него удар, он сообразил, что зашел слишком далеко. Он, оказывается, недостаточно знал юного джентльмена, с которым имел дело. Ричард обладал неимоверною выдержкой.
— Драться здесь будем? — спросил он.
— Где хочешь, — ответил Риптон.
— Верно, лучше будет зайти чуть подальше в лес. Тут нам могут помешать.
И Ричард повел его вперед сдержанно и учтиво, чем немного охладил в Риптоне пыл, побуждавший его дать волю рукам. На опушке леса Ричард скинул курточку и жилет и, сохраняя до конца присутствие духа, принялся ждать, пока Риптон последует его примеру. Соперник его весь раскраснелся от волнения; он был старше и крупнее, но зато не так крепок, не так хорошо сколочен. Боги, единственные свидетели их поединка, решительно были против него. Ричард преисполнился присущей Феверелам решимости, и в глазах у него вспыхнул огонек, потушить который было отнюдь не просто. Его слегка приподнятые возле висков брови смыкались над правильным прямым носом; большие серые глаза, раздутые ноздри; твердо поставленные ноги и джентльменское спокойствие и готовность — вот что отличало нашего юного борца. Что до Риптона, тот пришел в замешательство и дрался, как школьник, — он ринулся на своего противника головой вперед и принялся молотить его, изображая собою ветряную мельницу. Он был неуклюж. Попадая в цель, он, правда, давал почувствовать свою силу, но ему не хватало уменья. Видя, как он кидается, моргает, пригибается к земле, пыхтит и крутит руками, в то время как решающий удар по противнику приходится между ними, вы убеждались, что им движет отчаяние и что он сам это знает. Он уже со страхом видел перед собою то, чего больше всего боялся: стоит ему сдаться, и ему будет под стать та унизительная кличка, которой его с презрением обозвали двадцать раз; нет, лучше уж умереть, но не сдаться; и он продолжал крутить свою мельницу до тех пор, пока не падал.
Бедный мальчик! Падал он часто. Больше всего его заботило то, как он будет выглядеть в чужих глазах — и он терпел поражение. Боги всегда покровительствуют какой-то одной из сторон. Царь Турн был юношей благородным; однако Паллада была не с ним. Риптон был добрым малым, но уменья у него не было. Доказать, что он не дурак, он не мог! Стоит только призадуматься над этим, и станет ясно, что избранный Риптоном способ был единственно возможным, и любому из нас было бы до чрезвычайности трудно опровергнуть сказанное как-то иначе. Риптон вновь и вновь натыкался на уверенно направленный в него кулак; и если в самом деле, как он признавался себе в короткие свободные от ударов промежутки, бить его следовало так, как разбивают яйцо, то лишь счастливая случайность спасла нашего друга и не дала ему в это разбитое яйцо превратиться. Мальчики услыхали, что их зовут, и увидели направлявшихся к ним мистера Мортона из Пуэр Холла и Остина Вентворта.
Было провозглашено перемирие, они взяли свои куртки, надели ружья на плечи, быстрыми шагами пошли по лесу и остановились только после того, как миновали несколько полян и засаженный лиственницей участок.
Во время этой коротенькой передышки каждый стал вглядываться в лицо другого. Лицо Риптона от всех синяков и грязи изменилось в цвете и приобрело не свойственное мальчику свирепое выражение. Тем не менее, оказавшись на новом месте, он бесстрашно приготовился к продолжению поединка, и Ричард, чей гнев уже утих, не в силах был удержаться и спросил, не хватит ли с него того, что он уже получил.
— Нет! — вскричал его негодующий противник.
— Ну так послушай, — сказал Ричард, взывая к здравому смыслу, — устал я тебя лупить. Я готов сказать, что ты не дурак, если ты протянешь мне руку.
Риптон немного помедлил, чтобы посовещаться со своей честью, и та уговорила его воспользоваться представлявшимся случаем.
Он протянул руку.
— Ну ладно!
Они пожали друг другу руки и снова стали друзьями. Риптон сумел настоять на своем, а Ричард решительным образом одержал верх. Таким образом, они были квиты. Оба могли считать себя победителями, и это еще больше скрепляло их дружбу.
Риптон вымыл в ручейке лицо, прочистил нос и был снова готов идти за своим другом, куда тот его поведет. Они опять принялись охотиться на птиц. Оказалось, однако, что на угодьях Рейнема птицы исключительно хитры и упорно ускользают от их мастерских выстрелов; и вот они перешли на соседние владения, пытаясь найти пернатых попроще и начисто позабыв о законах, запрещающих охоту в чужих поместьях; к тому же им и в голову не пришло, что браконьерствуют они на земле пресловутого фермера Блейза, фритредера, человека, пользовавшегося покровительством Пепуорта и не питавшего ни малейшей симпатии к грифону между двумя снопами пшеницы, — человека, которому суждено сыграть немалую роль в судьбе Ричарда от начала и до конца. Фермер Блейз ненавидел браконьеров, а пуще всего соблазнявшихся незаконной охотой подростков, которые пускались на это скорее всего из простого бесстыдства. Заслышав то тут, то там выстрелы, он вышел посмотреть, кто это ворвался в его владения, и, убедившись, что это были именно мальчишки, поклялся, что проучит сорванцов и что ему решительно все равно, лорды они или нет.
Ричард подстрелил красивого фазана и восхищался своей добычей, когда перед ним выросла зловещая фигура фермера, недвусмысленно пощелкивавшего хлыстом.
— Хорошо поохотились, молодые люди? — в словах его звучала ирония.
— Какую мы дичь подстрелили! — с торжеством сообщил Ричард.
— Ах, вот как! — фермер Блейз предостерегающе щелкнул хлыстом. — Так вы хоть покажите.
— Надо сказать «пожалуйста», — вмешался Риптон, от которого не ускользнула подоплека всей этой иронии.
Фермер Блейз вздернул подбородок и злобно усмехнулся.
— Это вам-то еще говорить «пожалуйста», сэр? Послушай-ка, милый, у тебя такой вид, как будто тебе дела нет до того, что с твоим носом станется. Ты, вижу, облавщик бывалый. Послушай-ка, что я тебе скажу!
Тут он перешел к делу:
— Фазан этот мой! Отдавайте его сейчас же и проваливайте отсюда, негодяи вы этакие! Знаю я вас! — тон его сделался оскорбительным, и он принялся поносить Феверелов.
Ричард посмотрел на него широко открытыми глазами.
— Коли хотите, чтобы я вас отхлестал, стойте на месте, — продолжал фермер, — знайте, что Джайлз Блейз баловства не потерпит!
— В таком случае мы остаемся, — промолвил Ричард.
— Ладно же! Коли вы того хотите, так нате, получайте!
В качестве подготовительной меры фермер Блейз ухватился за крыло фазана, в которого оба мальчика отчаянно вцепились и удерживали его, — в руке у нападавшего осталось только крыло.
— Вот ваша дичь! — вскричал фермер. — Отведайте-ка хлыста. Баловства я не терплю! — И тут он с размаху принялся наносить им удар за ударом. Приятели пытались подойти поближе. Сохраняя расстояние, он, однако, продолжал немилосердно хлестать того и другого. В этот день фермер Блейз возжег огонь ненависти. Как мальчики ни храбрились, им то и дело приходилось корчиться от боли. Словно перед ними извивалась змея и нещадно их жалила, и от этого яда они обезумели. Может быть, унизительность того, что с ними происходило, они ощущали еще сильнее, но и боль сама была нестерпима, ибо у фермера была твердая рука и ему казалось, что всего этого еще мало, пока он не выбился из сил. Его и без того красное лицо еще больше налилось кровью. Наконец он остановился, и в это время в лицо ему полетело то, что осталось от фазана.
— Забирайте вашу поганую птицу! — вскричал Ричард.
— Денежки мне за нее платите, молодые люди, да, платите, — прогремел фермер и снова взялся за хлыст.
Как ни позорно бежать, это было единственное, что им оставалось. Они решили покинуть поле сражения.
— Ну, берегись, скотина, — Ричард потряс в воздухе ружьем, голос его охрип от волнения, — будь оно заряжено, я уложил бы тебя на месте. Помни! Доведись мне встретить тебя с заряженным ружьем, я застрелю тебя, подлеца!
Угроза эта, столь необычная в устах англичанина, переполнила чашу терпения фермера Блейза, и он погнался за ними и нанес еще несколько последних ударов, в то время как они со всех ног удирали с его участка. Возле ограды они еще перекинулись кое-какими словами: фермер спросил, хорошо ли он их отлупцовал и удовлетворены ли они, и добавил, что если им этого мало, то пусть придут еще раз на ферму Белторп — там они получат сполна все, что он им недодал; мальчики меж тем грозились отомстить ему, но фермер не стал их слушать и презрительно повернулся к ним спиной. Риптон успел уже собрать целую горсть камней, чтобы немного поразвлечься и отплатить обидчику. Ричард, однако, тут же вышиб их у него из рук.
— Нет! — вскричал он. — Джентльменам не пристало кидаться камнями; пусть этим занимаются уличные мальчишки.
— Разок бы только в него попасть! — молил Риптон, глядя на грузную фигуру фермера Блейза и приходя в упоение от неожиданно осенившей его мысли о преимуществе легкой артиллерии перед тяжелой.
— Нет, — твердо сказал Ричард, — никаких камней. — И он быстрыми шагами пошел по направлению к дому. Вздохнув, Риптон последовал за ним. Такого великодушия со стороны его патрона он был не в силах понять. Хорошенько саданув фермера камнем, мастер Риптон испытал бы облегчение; Ричарда Феверела же это нисколько не утешило бы в том унижении, которое ему пришлось испить. Риптон был хорошо знаком с розгой — чудищем, которое становится менее страшным, когда узнаешь его ближе. Мальчик этот уже переболел «березовой лихорадкой». Жгучий стыд, недовольство собой, ненависть ко всем на свете, бессильная жажда мести, как будто тебя столкнули в темную яму, — чувство, которое овладевает человеком храбрым, когда ему приходится впервые испытать всю горечь физической боли и выстрадать осквернение всего самого для него дорогого, в Риптоне уже выветрилось и позабылось. Он был стреляным воробьем, существом, умудренным уже известным опытом; он не оставался безразличным к наказанию, как то случается с иными мальчиками, и вместе с тем в нем не было той чувствительности к бесчестью, которая причиняла столь тяжкие страдания его другу.
Кровь Ричарда была отравлена ядом. Он весь кипел от негодования. Он не мог позволить себе кидаться камнями, потому что привык презирать этот вид нападения. Чисто джентльменские соображения на этот раз в какой-то степени спасли фермера Блейза, однако во взбудораженном мозгу его противника носились другие, отнюдь не джентльменские планы; если ему пришлось отказаться от этих грозных намерений, то случилось это потому лишь, что, как он ни был разгорячен ими, Ричард все же сообразил, что осуществить их ему все равно не удастся. Удовлетворить его могло только одно: ему надо было решительно отомстить за свой позор и довести отмщение до конца. Необходимо было предпринять что-то очень страшное и ни минуты не медлить. Мелькнула мысль перерезать у фермера весь скот; вслед за нею другая — убить его самого; вызвать его на поединок и драться с ним, выбрав оружие, так, как принято у людей благородного звания. Но фермер же трус, он ни за что на это не согласится. Тогда он, Ричард Феверел, подкрадется ночью к его кровати, разбудит его и заставит стреляться с ним в его же собственной спальне; он задрожит от страха, но отказаться все равно не посмеет.
— Господи! — вскричал простодушный Риптон, в то время как эти кипучие замыслы бушевали в голове его друга, то вспыхивая ярким огнем и взывая к немедленным действиям, то погружаясь в темные глухие глубины, когда от всех надежд не оставалось следа. — Как жаль, что ты не дал мне его подбить, Ричи! У меня ведь верный глаз. Я никогда бы не промахнулся. Я бы уж повеселился, доведись мне его раздраконить! Мы бы ему показали! Честное слово! — Вдруг ему что-то вспомнилось, и воспоминание это вернуло мысли его к собственной персоне.
— Хотел бы я знать, в самом ли деле нос мой так уж разбит. Где же мне на себя взглянуть?
Ко всем этим излияниям Ричард оставался глух и продолжал идти вперед, сосредоточенно думая о своем.
Когда наконец они преодолели бесчисленные изгороди, перескочили через канавы, пробрались сквозь заросли куманики и шли расцарапанные, ободранные и изможденные, Риптон очнулся от разжигавших его воображение навязчивых мыслей — о фермере Блейзе и о том, что его собственный нос разбит: все это вытеснил теперь голод. С каждой минутой он становился все острее и наконец достиг такого предела, что, не будучи в силах терпеть далее, он отважился спросить своего спутника, куда же они в конце концов идут. Рейнема было не видать. Они спустились далеко вниз по долине и находились теперь на расстоянии нескольких миль от Лоберна, среди гнилых болот, ржавых ручьев, ровных пастбищ, унылых вересковых полей. Кое-где бродили одинокие коровы; по небу стлался поднимавшийся из глинобитной хижины дым; по дороге тащилась повозка с торфом; пасшийся на свободе осел, как видно, начисто позабыл о том, что на свете есть зло; возле пруда гоготали гуси, так же как и до появления на земле человека. В юном существе, которому нечем было утолить голод, окружающее вызывало одно только раздражение. Риптон не знал, что делать.
— Куда же мы все-таки идем? — спросил он, и в голосе его слышалось, что спрашивает он об этом в последний раз. Он решительно остановился.
— Все равно куда, — произнес Ричард, нарушив свое молчание.
— Все равно куда! — механически повторил эти безотрадные слова Риптон. — Но ты что, разве не проголодался? — Он порывисто вздохнул, как бы показывая этим, что в желудке у него пусто.
— Ничуть, — отрезал Ричард.
— Не проголодался? — замешательство Риптона сменилось яростью. — Но ведь ты же с самого утра ничего не ел! Не проголодался? Я так умираю с голода. Меня так поджимает, что я мог бы есть сейчас сухой хлеб с сыром!
Ричард усмехнулся — совсем по иным причинам, нежели те, что вызвали бы подобную усмешку в истом философе.
— Послушай, — вскричал Риптон, — ты все-таки скажи мне, где же мы с тобой остановимся.
Ричард повернулся к нему, собираясь что-то резко ему ответить. Но представшее глазам его несчастное исполосованное лицо друга совершенно его обезоружило. Нос Риптона, хоть и не окончательно посинел, но все же основательно изменился в цвете. Он понял, что упрекать своего спутника в Слабости было бы жестоко. Ричард поднял голову, осмотрелся.
— Вот здесь! — вскричал он и уселся на выжженном солнцем склоне, предоставив Риптону вдумываться в происходящее, как в загадку, решить которую становилось все труднее.
Произведения
Критика