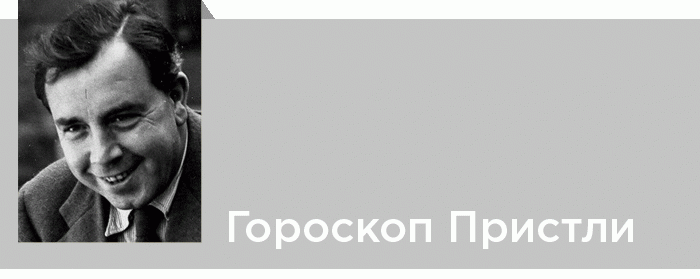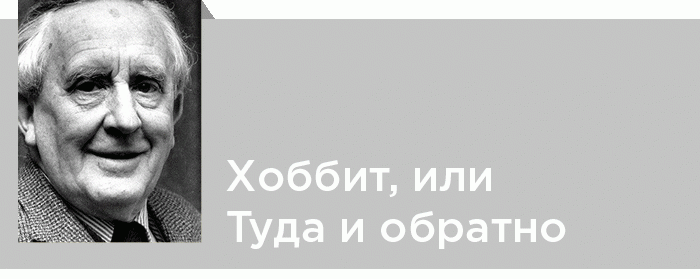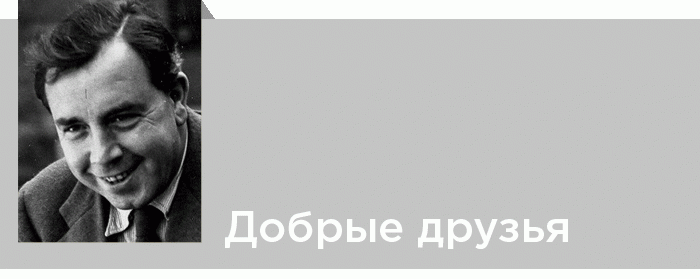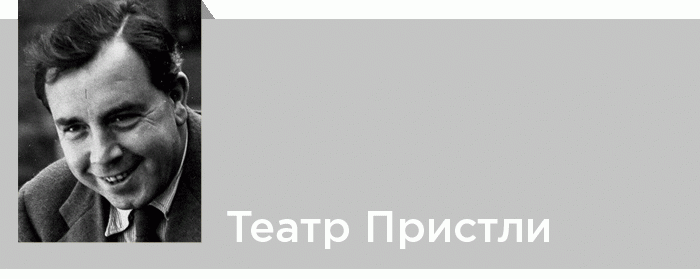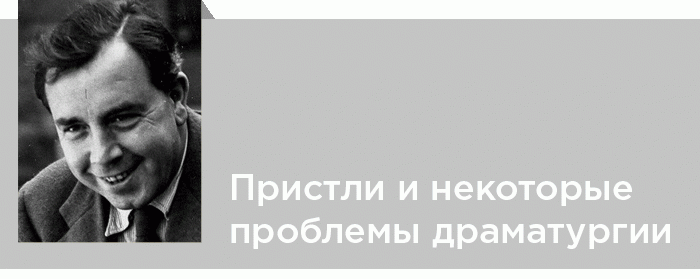Джон Бойнтон Пристли. Улица Ангела

(Отрывок)
ПРОЛОГ
Он прошел, плавно скользя, по самой широкой из лондонских улиц и остановился, тихонько покачиваясь. Это был пароход грузоподъемностью в 3500 тонн, и на нем развевался флаг одного из молодых прибалтийских государств. Тауэрский мост стряхнул с себя крохотных человечков и игрушечные экипажи, поднял вверх длинные руки; пароход прошел под ними со свитой шумных и наглых буксиров и после долгого маневрирования под рев сирен и крики матросов остановился наконец у пристани Хэй-Уорф. Яркое золото погожего осеннего дня уже переходило в угасавшее вдали дымное пламя заката, и казалось, что все лондонские мосты объяты пожаром. Но скоро сияющий день померк, оставив по себе мягкий свет, еще не тронутый сумерками. На пристани люди в кепках помогли укрепить канаты, спустить сходни. Делали они это, поплевывая с ироническим видом, словно имели свое особое мнение обо всей этой суете. Потом, отойдя, стали толпой в стороне, как насмешливый хор оборванцев. А на смену им неизвестно откуда появились люди в котелках, с портфелями, с записными книжками, с целыми пачками документов. Они обменивались какими-то им одним понятными шутками с портовыми агентами, уже поднявшимися на палубу. На самом видном месте стояли двое полицейских в голубых касках. Грузные и важные, они посматривали на пароход с таким видом, словно хотели сказать, что он может оставаться здесь, пока полиции о нем ничего предосудительного не известно. А пароход уже собирался приступить к выгрузке своего разнородного груза.
Груз был и в самом деле настолько разнородный, что среди всего прочего здесь имелся и человек, который только что вышел из кают-компании на палубу и зевая смотрел вниз на пристань. Этот единственный пассажир был мужчина среднего роста, но массивного сложения, коренастый, с мощной грудью и широкими квадратными плечами. Точный его возраст угадать было трудно: ему могло быть лет сорок пять, а могло быть и пятьдесят. Физиономия у него была несколько своеобразная: начинаясь чуть не лысиной, она неожиданно украшалась ниже парой весьма густых кустистых бровей и заканчивалась ошеломительными усами, настолько длинными и пышными, что они даже немного отвисали. Такие усы встречаются у одного из тысячи. В них было нечто вычурное, даже театральное. Обладатель их был одет с некоторой небрежностью — костюм на нем был превосходного серого сукна, но какого-то чужеземного покроя и не слишком хорошо сшитый. Пассажир этот прибыл на пароходе одной из прибалтийских стран, но, несмотря на это, несмотря на костюм, на усы, что-то в его наружности выдавало уроженца Англии. Вот, пожалуй, и все, что можно было заметить с первого взгляда. Он был из тех, кого трудно отнести к тому или иному типу. Вид его не вызывал в воображении какого-либо подходящего фона, и нелегко было представить себе его за работой или в домашней обстановке. Он приехал из Балтики на берега Темзы, но с таким же успехом мог приехать откуда угодно и куда угодно. Этот толстяк с гигантскими усами и сверкающей лысиной, при всей своей тучности ничуть не тяжеловесный и не медлительный, стоял в непринужденной позе, расставив ноги, и смотрел вниз, на пристань, без малейшего любопытства. Он не был похож на человека, который вернулся на родину или покидает ее, не был и просто путешественником. Что-то в нем было разбойничье.
— Ну, вот вам и Лондон! — раздался у самого его уха чей-то громкий голос. Это сказал помощник штурмана, маленький, чистенький, бледный, чем-то похожий на прилизанную обезьянку. — Хорош, а?
— Хорош.
— Вы сюда и ехали, мистер Голспи? Вы здесь останетесь? — Помощник штурмана жаждал попрактиковаться в английском языке, так как во время плавания ему не часто представлялась такая возможность.
— Да, останусь здесь, — прогудел мистер Голспи (такова была фамилия, которую с трудом выговаривал помощник штурмана). — То есть останусь, если найдется дело, — добавил он, словно спохватившись.
— Вы живете здесь, в Лондоне? — продолжал помощник штурмана, от которого ускользнул выразительный тон последнего замечания.
— Нет, я нигде не живу. Таков уж я. — Мистер Голспи произнес это с каким-то угрюмым удовлетворением, словно намекал, что он может внезапно объявиться где угодно, и тогда кому-то придется держать ухо востро. Не был ли он и в самом деле каким-нибудь тайным пиратом, который готовился к набегу?
Приветливо кивнув помощнику штурмана, он сделал шаг вперед, снова окинул взглядом пристань и вернулся в кают-компанию. Взял сигару из ящика, купленного капитаном, когда шли через Кильский канал, налил себе вина из стоявшей на столе бутылки. Таких бутылок здесь имелось множество, и во время путешествия они потоком текли из буфета на стол. Путешествие прошло очень весело. Мистер Голспи и капитан были старые знакомые и не раз оказывали друг другу добрые услуги. Капитан обещал мистеру Голспи приятное плавание, а для этого нужно было только сделать изрядный запас виски, коньяка, водки и других напитков и весь этот запас выставить на стол. Заботливость капитана была небескорыстна, ибо он и сам не отставал от гостя — причем, надо сказать, проявлял во время кутежей меньше выдержки.
Капитан (он служил когда-то в русском императорском флоте и завершил свою деятельность тем, что сбежал однажды ночью с корабля, перемахнув через борт в одном белье) способен был напиваться до совершенно сверхъестественного состояния. Первые две ночи плавания он упорно декламировал на четырех языках длиннейший монолог из гетевского «Фауста», чтобы доказать, что он — человек культурный. А в третью ночь, накануне того дня, когда пароход вошел в устье Темзы, капитан еще больше расходился: он беспрерывно хохотал, спел четыре песни (впрочем, мистер Голспи не мог понять ни единого слова), рассказал какой-то длинный анекдот на незнакомом языке — видимо, на русском, — всплакнул и так часто и крепко жал руку своему собутыльнику, что, вспоминая об этом сейчас, за своей сигарой, в кают-компании, где царила странная тишина, мистер Голспи почти ощущал боль в руке. Сам он таких вещей не проделывал. Он только становился благодушнее по мере того, как ночь шла и бутылки пустели. Вот и теперь, несмотря на ранний час, он был уже в таком приятном настроении, потому что они с капитаном долго просидели за завтраком. Впрочем, мистер Голспи, очевидно, не находил, что хлебнул уже достаточно, так как снова налил себе вина.
К этому времени люди в котелках успели очутиться на борту. Одни интервьюировали капитана, другие заинтересовались особой мистера Голспи, ибо им предстояло решить, можно ли ему высадиться на этом острове, где он родился. Мистер Голспи встретил представителей власти весьма любезно, что не помешало ему, впрочем, откровенно высказать свое мнение.
— Правила! Разумеется, правило есть правило, — гудел он сквозь свои громадные усы, благодушно и вместе с тем воинственно. — Но это вовсе не мешает ему быть чертовской бессмыслицей. В Англии разводят теперь больше всякой никому не нужной канители, чем разводили в России и в Турции до проклятой войны. А мы ведь, бывало, смеялись над этими странами, называли их отсталыми. Паспорта! — Он фыркнул и похлопал молодого человека по отвороту пиджака. — Никогда они не помогают задержать жулика, никогда! Чтобы улизнуть, ему требуется только капля изворотливости. А эти паспорта — одно беспокойство для честных людей вроде меня, которые хотят немного двинуть вперед торговлю. Ну, разве я не прав, скажите сами?
Он стоял и наблюдал, как таможенные чиновники рылись в двух его сундуках и трех потрепанных чемоданах.
— Вам, наверное, не терпится поскорее сойти на берег, — заметил один из этих чиновников, начиная отмечать мелом просмотренный багаж.
Мистер Голспи следил за ним с беспечным равнодушием, и никто бы не подумал, что в сундуке у этого человека ловко запрятаны двести пятьдесят сигар.
— Нет, на этот раз я не спешу. Я останусь на пароходе, чтобы пообедать со шкипером. — Он указал рукой на город, раскинувшийся вокруг: — Он подождет.
— Кто подождет? — Таможенный чиновник сделал последнюю отметку мелом.
— Лондон, — пояснил мистер Голспи. — Весь Лондон.
Молодой человек расхохотался — не потому, что это заявление показалось ему таким забавным, а потому, что пассажир вдруг напомнил ему одного актера-комика, которого он как-то видел в театре Финсбери-парка.
— Ну, конечно, он может подождать. Он ждет давно.
Оставшись наедине со своими уцелевшими сигарами, мистер Голспи минуты две размышлял о чем-то. Потом вышел на верхнюю палубу. Уж не для того ли, чтобы увидеть, что именно ждало его так долго?
Он засмотрелся на необозримую панораму Темзы. Наступали сумерки. По реке бежала темная рябь, и целая флотилия барж на той стороне почти утратила свои очертания. Но на северном берегу, там, где четко выделялись черные сваи и белый мол над ними, было еще достаточно светло, и все сохраняло свой дневной вид и форму. Справа слабо мерцали серые камни Тауэра, — словно солнце, веками сиявшее над ними, оставило в них немного своего света. Колонны Таможни были гладки и белы, как очищенный от коры прут. А еще ближе, над сумбуром камней и дыма и неясно мелькавших огней, вздымались шпили церквей. Один, стройный, белый, словно сделанный из бумаги, летел вверх, как привет небесам от города. Другой, тяжелый и темный, был как вопль отчаяния, как перст руки, взметнувшейся вверх с укором этим небесам.
Мистер Голспи лишь мельком взглянул на тот и на другой и перевел глаза на прямоугольное здание сурового ассирийского стиля, мрачную каменную громаду, гордо высившуюся над рекой и сотней глаз сторожившую Лондонский мост. Это здание задело что-то в памяти Голспи, и он внимательно всматривался в него. Да, когда он в последний раз приезжал в Лондон, оно уже стояло тут, его тогда только что выстроили. Это Аделейд-Хаус. Мистер Голспи долго смотрел на него, смотрел с уважением. Оно все еще словно упрекало его, но уже не в одной только забывчивости. Глаза бесчисленных окон, и слепые и сиявшие светом, казалось, отвечали на его упорный взгляд и твердили ему, что он не слишком многого стоит — по крайней мере здесь, в Лондоне. Потом взгляд мистера Голспи устремился за мост. Там виднелось здание холодильника, подальше — огромная, черная, похожая издали на пещеру знаменитая арка вокзала на Кэнон-стрит, а высоко над всем, уже не в городе, а в самом небе, слабо светились сквозь наступавшие сумерки шар и крест. Это была верхушка собора Святого Павла, выступавшая над крышей вокзала. Мистер Голспи, узнав ее, обрадовался, даже стал напевать сквозь зубы вспомнившуюся ему песенку, что-то насчет «Святого Павла с его великолепным куполом». Привет старому собору! Он не дразнит, не тревожит: он попросту стоит себе, наблюдая за всем, но никому не мешая. Вид этого собора как-то вдруг напомнил мистеру Голспи, что перед ним Лондон. Славный старый город-исполин, Лондон. Он точно ощущал жизнь этой громадины, слышал, как она ревет, клокочет, бурлит там, впереди.
В эту минуту Голспи почему-то неожиданно вспомнил, что на нем все еще коричневые ночные туфли, те, что ему когда-то подарила Гортензия. Он приехал, забрался в самое сердце Лондона, а на ногах у него старые ночные туфли! Он сумел провезти двести пятьдесят сигар под носом у таможенников — и даже еще до сих пор не переобулся. Да, Джеймс Голспи стоит в ночных туфлях и обозревает Лондон, а Лондон и не знает этого, и не интересуется им — до поры до времени. Эти мысли чрезвычайно тешили мистера Голспи, тешило гордое сознание своей ловкости и силы. Он готов был сам себе пожать руку. Если бы здесь на палубе оказалось зеркало, он наверное подмигнул бы своему отражению.
Он прошелся по палубе. На пристани уже загорались огни, сразу придавая неосвещенным местам какой-то мрачный и таинственный вид. Там, внизу, несколько мужчин таскали груз, то и дело громко перекликаясь. Глядеть больше было не на что. Мистер Голспи походил еще немного, затем остановился, чтобы посмотреть на Лондонский мост, на полосу воды за ним и южный берег Темзы. Та сторона горела веселыми разноцветными огнями. Высоко, на первом здании за мостом, вращались цветные буквы вокруг сверкающего изображения бутылки, восхваляя джин Бута, а дальше резало глаза малиновое сияние рекламы, напоминавшей прохожим о портвейне Сандемена. Мистер Голспи рассматривал эти рекламы одобрительно, с восхищением. Да и сам Лондонский мост нравился ему теперь, когда все автобусы были уже освещены и текли по мосту потоками расплавленного золота. Они вызывали в воображении мистера Голспи другой поток приятных картин, яркую, хотя и отрывочную панораму веселящегося Лондона: двойные стопки виски в малиновом полусвете баров; горячие, дымящиеся бифштексы и отбивные котлеты, накрытый белой скатертью столик в углу; блеск и бархат мюзик-холлов, тонкий аромат гаванских сигар, пухлые кожаные кресла, в которых можно со вкусом посплетничать у клубного камина, хорошенькие девушки — пожалуй, немного несговорчивые (хотя и не такие недотроги, как в прежние времена), но премиленькие и не такие хитрые, как девушки в чужих странах. Выходя после работы из своих контор и магазинов, они хотят только весело провести вечер — и больше ничего.
Все это мистер Голспи вспоминал с истинным наслаждением. «В Лондоне во всем чувствуется размах, изобилие, — думал он. — В нем можно найти что угодно и кого угодно, а можно и скрыться, затеряться в нем. Глупо, что я так давно не приезжал в Лондон! Но вот наконец я здесь». Мистер Голспи долгим и умиленным взглядом окинул все вокруг.
Обед на пароходе в этот вечер был превосходный — лучший из всех обедов, какими его угощали во время плавания. Кроме мистера Голспи, к столу приглашены были старший механик, который, сияя, вынырнул из нутра парохода, и штурман, обычно молчавший, как пень (так как мысли его были постоянно заняты какой-то семейной трагедией, происшедшей дома, в Риге), а сегодня невероятно общительный и веселый. Буфетчик с золотым зубом, стриженный под гребенку, расточал для них все богатства своего буфета. Бутылки, которые не успели выпить до этого вечера, были опустошены до дна, а с ними и те, которые буфетчик добыл только сегодня. Разговор (поскольку в нем участвовал мистер Голспи) велся на фантастической смеси английского, немецкого и родного языка команды, языкатой прибалтийской страны, откуда прибыл пароход. Смесь эту было бы невозможно воспроизвести здесь. Но собеседники отлично понимали друг друга, храбро пробиваясь сквозь дебри неправильных глаголов и заковыристых существительных. Ибо ничто так легко не уничтожает проклятие вавилонского смешения языков, как еда и выпивка в дружной, веселой компании. Все четверо разоткровенничались. Мыча, обменивались дружескими признаниями, выкрикивали что-то сквозь завесу сигарного дыма, хохотали, откидываясь назад, — словом, блаженствовали как боги.
— Мы скоро опять увидимся, — сказал капитан, в третий раз чокаясь с мистером Голспи. — Не так ли, друг?
— Обязательно увидимся, старина, — заверил его мистер Голспи. Он был очень красен, и его массивный лысый череп был весь усеян мелкими капельками пота.
— Вы поедете с нами обратно, как только закончите свои дела в Лондоне?
— Пока не могу сказать. Если удастся, то поеду.
— Вот и хорошо, — сказал капитан. Затем с глубокомысленным видом приложил ко лбу палец, жирный, как свиная сосиска.
— А теперь объясните нам, какие такие дела у вас здесь, а? По секрету. Мы никому не расскажем.
Старший механик подергал кончики своих усов, почти таких же пышных, как у мистера Голспи, силясь придать своему лицу выражение еще более загадочное и важное, чем у капитана, словно он был хранителем бесчисленных коммерческих тайн.
— А я скажу вот что, — прокричал великан-штурман, который сейчас был не в состоянии дожидаться, пока спросят его мнения, — я вот что скажу: это, конечно, дела настоящие. Они послужат для блага нашей родины. За ваше здоровье! — заорал он еще громче и залпом осушил свой стакан, после чего немедленно вспомнил о злосчастной истории в Риге и целых двадцать минут сидел молча, со слезами на глазах.
— Что ж, я расскажу, — начал мистер Голспи, вынимая изо рта сигару и глядя на нее так многозначительно, как смотрят на сообщника. — Мне незачем делать из этого секрет. Помните Микорского? Нет, нет, погодите. Не того коротышку, у которого была контора в Данциге, а высокого бородатого парня, что торговал лесом. Ну, вспомнили?
Капитан вспомнил и, видно, был так горд этим доказательством своей хорошей памяти, что несколько минут словно дирижировал какой-то весьма бурной симфонией. Штурман помнил тоже, но ограничился кивком: перед его мокрыми от слез голубыми глазами по-прежнему стояла картина семейной трагедии в Риге. Старший механик никак не мог припомнить Микорского и с настоящей тоской повторял его фамилию на все лады, начиная от высокого дисканта и кончая отчаянным басом.
— Я ему устроил два-три дельца в те времена, когда у меня были кое-какие связи, — продолжал мистер Голспи. — И кутили мы с ним как-то вместе несколько ночей. Вот с месяц тому назад встречаю я этого Микорского, и он говорит, что едет сейчас за город к своему родственнику, предлагает ехать с ним. Делать мне как раз было нечего, я и поехал. Была адская жара, и к тому же меня там чуть до смерти не заели комары. У этого родственника Микорского собственная фабрика мебели, и он изобрел новый способ отделки фанеры и наборки: машину и все прочее, что нужно для этого. А в тех местах рабочие руки очень дешевы. Я расспросил, куда они отправляют весь свой товар. Отвечают, что у них заказы из Германии, и Чехословакии, и Австрии, а бывает, что и для Парижа. Я спрашиваю: «Ну, а во сколько ваш товар обойдется с доставкой в Лондон?» Они мне показали расценки, и я увидел, что дело это подходящее, но им об этом и словом не обмолвился. Уехал и навел кое-какие справки. Узнал, сколько платят за этот товар в Бетнел-Грин и Хокстоне, одним словом — во всех тех местах Лондона, где изготовляется мебель…
— Бетнел-Грин, да, да, — подтвердил с гордостью старший механик. — Там работал мой дядя Стефан. Да, да, старик Стефан работал в Бетнел-Грин. — И после меланхолического размышления добавил: — Он социалист.
— Вот как! — прогудел мистеру Голспи со свойственным ему грубоватым добродушием. — Ну что ж, Бог с ним, пускай себе будет социалист. Слушайте дальше. Оказалось, что в Лондоне за такую же фанеру и наборку, ничуть не лучше, платят вдвое дороже. Что вы на это скажете, а? Как будто нельзя выписывать ее оттуда, где она стоит гроши! Ничего не видят у себя под носом. Неповоротливый народ здешние коммерсанты. «Ну вот, это для меня дело, тут можно заработать», — подумал я и опять съездил к этому родственнику Микорского. Я хотел узнать, сколько фанеры и всего прочего они могут мне отпускать ежемесячно, какие у них сорта и цены. Они мне все рассказали и дали гарантию. Сделку мы, как водится, спрыснули, и я уехал с контрактом в кармане. Так и написали — что они обязуются отпустить мне столько-то товара одного сорта и столько-то другого, когда бы я ни потребовал, и что я — их единственный представитель в Англии.
— Первоклассное дело! — с важной миной знатока заметил капитан, тараща осоловелые глаза. — Значит, теперь вы все это продаете и наживаете большие деньги?
— Теперь я буду искать людей, которые занимаются продажей этого товара, кого-нибудь, кто работает в этой отрасли, и войду с ними в долю. — Мистер Голспи шумно отхлебнул из стакана. — И не будь я Джимми Голспи, если не отыщу подходящего человечка не позднее, чем послезавтра.
— Загребете кучу денег и разбогатеете, а?
— Нет, это дело слишком чистое. Но кое-что мне перепадет, конечно. Для начала хватит.
— Нет, нет! — прокричал капитан и, перегнувшись через стол, похлопал мистера Голспи по плечу. — Вы загребете в Лондоне кучу денег, это я вам говорю. Уйму! Здесь, в Лондоне, денег ого!.. — И он протянул руки ладонями вверх, как будто ожидая, что в них польется золото Английского банка.
— Не так много, как вы думаете, — возразил мистер Голспи, медленно покачивая головой. — Нет, далеко не так много. Деньги здесь, может быть, имеются, но они лежат без движения. Их не пускают в оборот. Я же вам говорил, что лондонцы — отсталый народ.
— Вы хотите сказать, что они спят?
— Вот именно. Большинство из них живет как в полусне.
— Хо-хо! — загремел капитан. — И вы собираетесь их разбудить?
— Кое-кого, пожалуй, и удастся встряхнуть. А не удастся — двинусь дальше. Кстати, мне пора трогаться, ребята. Я сказал помощнику стюарда, тому парню, который играет на концертино, чтобы он сбегал за такси и снес вещи на берег. Такси уже, наверное, ждет меня там. Так что счастливо оставаться! Давайте выпьем еще по стаканчику на прощанье. За удачу!
Они с некоторой торжественностью пили этот последний стакан, когда воротился посланный и объявил, что такси ждет. Мистер Голспи вышел на палубу, за ним остальные. У сходней он остановился, чтобы проститься.
— Итак, в путь! — воскликнул он, обращаясь не столько к слушателям, сколько к самому себе. — Прямо в старый кроличий садок. Господи, что это за город! Миллионы и миллионы людей — и большинство из них еще не сознает, что они живут на свете. У них только и есть что глазки да хвостики, выглянут из норки — и тотчас юркнут обратно. Милый старый кроличий садок! Полюбуйтесь на него. Впрочем, отсюда, сколько ни гляди, ничего не увидишь. Что за город! Да, капитан, да, друзья, вот куда я отправляюсь!
— А ваша дочь, малютка Лина? — спросил капитан. — Она уже здесь, ожидает вас?
— Нет, она в Париже с теткой, но приедет сюда, как только я устроюсь. «Голспи и дочь» — вот как будет называться наша фирма, и посмотрим, как Лондон примет нас. Клянусь Богом, если не я, то Лина, этот ловкий чертенок, уж наверное расшевелит кое-кого. Но здесь ей придется вести себя прилично. Да, уж здесь-то я ее заставлю угомониться! Ну, капитан, будьте здоровы, не садитесь на мель и кланяйтесь от меня всем девчонкам и парням у вас на родине, а в следующий ваш рейс мы обязательно увидимся здесь. Черкните мне словечко по адресу вашей здешней конторы, а я их извещу, где меня можно найти. Но куда же девался мой парень, черт его побери? Ага, вот и он. Все снес? Отлично. Ну, пока!
Помахав на прощанье рукой, мистер Голспи неторопливо, степенно, с важным видом начал спускаться по сходням, весьма внушительный в своем широком пальто. Когда он наконец ступил на камни Лондона, он обернулся и кивнул головой оставшимся на палубе. Потом зашагал уже быстрее к углу Бэтл-Бридж-лейн, где его ожидало такси. Две минуты спустя автомобиль, гудя, нырял уже среди огней и теней огромного города, мчавшего мимо его окон, словно в бешеном вихре, то ярко вспыхивавшую, то слабо мерцавшую, то вдруг темневшую ленту лавок, трактиров, театральных подъездов, церковных папертей, оклеенных афишами заборов, малиновых, с золотом, автобусов, оград, крылечек, кружевных занавесок и витрин с горами шоколада и папирос, пивом, булками, аспирином, венками и гробами, — и море лиц, все новых и новых лиц, чужих, незначительных, бесконечно мелькавших мимо. Огни, сиявшие за стеклами такси, зажигали ответный слабый огонек в глазах мистера Голспи. И даже тогда, когда огни исчезли, мистер Голспи в темноте все еще улыбался в свои громадные усы. Лондон ничего не знал и не хотел знать о нем. Тем не менее факт оставался фактом: мистер Джеймс Голспи прибыл в Лондон.
Глава первая
Они появляются
1
Многие из тех, кто думает, что хорошо знает Лондон, вынуждены сознаться, что никогда не слыхали об улице Ангела. Можно раз пять-шесть прогуляться от Банхилл-Филдс до Лондон-Уолл или от Барбикена до вокзала на Брод-стрит — и не приметить улицы Ангела. На некоторых картах города эта улица совсем не указана, многие шоферы такси даже и не пытаются делать вид, будто знают, где она, полисмены частенько на вопрос о ней отвечают неуверенно, и только если вам удастся встретить почтальона не дальше как на расстоянии каких-нибудь пяти-шести кварталов от улицы Ангела, он с торжествующей уверенностью укажет ее вам.
Все это служит доказательством, что улица Ангела ничем не замечательна. Всякому известна, например, улица Финсбери неподалеку от улицы Ангела, потому что Финсбери — улица солидной длины и ширины, на ней имеется множество магазинов, складов, контор, не говоря уже об автобусах и трамваях, которые превращают ее в важную артерию города. А улицу Ангела никак нельзя назвать артерией города, и длина и ширина ее незначительны. Почтовые участки Е.С1 и Е.С2 вы, вероятно, в течение многих лет бомбардируете письмами, а на улицу Ангела вам никогда ничего не приходится адресовать. Эта маленькая уличка существует давно, получила свою долю — и долю немалую — закопченного дымом камня, грязных стен, рыхлого от времени кирпича и гниющих деревянных строений, а между тем она почему-то не попала на страницы истории. Короли, принцы, великие епископы никогда не тревожили ее покой. Убийц она, может быть, и видала, но все они подвизались лишь в частной жизни, не выходя на широкую историческую арену. Ни единый литературный шедевр не был создан под какой-нибудь из ее крыш. Ни в одном путеводителе, ни водном из многотомных указателей всех закоулков Лондона ни словом не упоминается об улице Ангела, и никогда не проезжают здесь набитые туристами и сопровождаемые гидом автобусы, шныряющие по Сити в предвечерние часы. Даже гид, знающий все решительно о Генрихе Восьмом, о Диккенсе и Рене, столь высококультурный, что все еще говорит с оксфордским акцентом и с большим апломбом, вряд ли мог бы вам сообщить что-либо об улице Ангела.
Это типичный переулок Сити, только еще короче, уже и грязнее, чем большинство остальных. Когда-то он, вероятно, был оживленной улицей, но сейчас только пешеходы могут выбираться отсюда, сойдя вниз по шести ступенькам на углу. Для всего же более громоздкого и менее проворного, чем пешеход, улица Ангела непроходима. Она представляет собой тупик, так как один ее конец (если не считать уже упомянутых нами ступенек) загорожен магазином фирмы Чейз и Коген «Новинки карнавала» — и даже не его фасадом, а закопченной, обветшалой задней стеной с пыльными окнами. Чейз и Коген полагают, что улице Ангела не стоит и предлагать что-либо из «новинок карнавала» (которые на каждом большом балу в Вест-Энде предоставляются посетителям вместе с возможностью потанцевать и обедом стоимостью в тридцать шиллингов), поэтому они повернулись к ней спиной, не давая ей и взглянуть на какую-нибудь шляпу Пьерро или приставной нос. Пожалуй, оно и к лучшему: кто знает, чем бы это кончилось, если бы обитатели улицы Ангела каждый день могли любоваться шляпами Пьерро и фальшивыми носами.
Нет, на улице Ангела мы видим совершенно иные вещи. Попадая сюда с главной улицы Сити, из бешеной толчеи грохочущих автобусов, грузовиков, ломовых телег, легковых автомобилей, отчаянных велосипедистов, вы видите справа прежде всего почерневшее от грязи здание неописуемого вида, вернее — стену лавки и ряд контор. Затем идет «Столовая улицы Ангела. Владелец Р. Диттон», в окне которой всегда красуются три маленьких ореховых кекса, два апельсина, четыре бутылки вишневой наливки — все это очень эффектно размещено — и либо ветчина, либо паштет из мяса и картофеля. Дальше — приплюснутый домишко, состоящий из ряда помещений под конторы, безнадежно ожидающих, когда их сдадут внаем, трактир «Белая лошадь», где к вашим услугам любое количество превосходного крепкого виски или искристого эля, «распивочно и навынос», и вы можете пить его здесь публично или в уединении, как захотите. Теперь мы с вами уже прошли половину улицы и легко могли бы швырнуть камнем в одно из окон «Чейза и Когена», — что уже, впрочем, до нас сделано кем-то, взбешенным, вероятно, мыслью о недосягаемых «новинках карнавала». На другой стороне улицы, южной, той, которая окажется у вас по левую руку, когда вы вступите сюда из внешнего мира, вы увидите прежде всего (прекрасное начало!) вывеску «Денбери и Ко. Осветительные принадлежности» и две витрины, сверкающие образцами различной арматуры. Дальше идет табачная лавка Т. Бенендена, окно которой все уставлено бутафорскими пачками папирос и табака, давно уже переставшими делать вид, будто в них имеется что-либо, кроме воздуха. Впрочем, здесь, в доказательство предприимчивости Т. Бенендена, выставлены и две-три вазочки с пыльным и сухим табаком, а под ними выцветшие буквы стыдливо лепечут: «Особая смесь по нашему собственному рецепту. Освежающая и приятная. Почему бы вам ее не испробовать?» Чтобы добраться до узкого прилавка Т. Бенендена, нужно пройти в дверь с улицы, затем в дверь налево. Прямо перед вами будет лестница (очень темная и грязная, к слову сказать), которая ведет в лавку К. Варстейна «Приклад для портных». Рядом с входом в лавки Т. Бенендена и К. Варстейна вы увидите на улице еще дверь — широкую, крепкую старую дверь, на которой краска почти вся потрескалась, облупилась и висит кусками. На этой двери нет никакой таблички или вывески, и никто, даже сам Т. Бененден, никогда не видел ее открытой и не знает, что скрывается за ней. Стоит себе эта дверь и только копит пыль да паутину, а время от времени роняет хлопья сухой краски на истертую ступеньку внизу. Быть может, она ведет в потусторонний мир. Быть может, в одно прекрасное утро она распахнется, эта дверь, из нее появится ангел, окинет взором весь переулок от одного конца до другого и вдруг затрубит, возвещая день Страшного суда. Не от того ли эта улица и называется улицей Ангела?
Во всяком случае, достоверно одно: эта дверь не имеет никакого отношения к высокому дому рядом с нею, который известен почтовому ведомству, как «№ 8 по улице Ангела».
Четырехэтажный дом № 8, некогда уютное жилище какого-то олдермена и коммерсанта, разбогатевшего в Ост-Индии, теперь превратился в настоящий улей торговых предприятий. Последние годы доход от этого дома дает возможность одной старой даме жить прилично (с компаньонкой без жалованья) в частном пансионе Палмса в Торки и вдобавок еще уделять два фунта в неделю самой младшей племяннице, чтобы та могла снимать с кем-то вдвоем студию в самом конце Фулхем-роуд и писать декорации для пьес, которые неизменно «намечены к постановке» в общедоступном театре в Хэмпстеде. Тот же дом косвенным образом оплачивает членские взносы в Клуб любителей гольфа и карманные расходы младшего компаньона фирмы «Грегг и Фултон, присяжные стряпчие». Фирме этой поручена сдача внаем помещений и сбор арендной платы по дому. Кто наниматели, узнать легко, так как их имена красуются по обе стороны приземистой входной двери. В нижнем этаже помещается акционерное общество «Бритвы Квик и Ко», во втором — контора «Твигг и Дэрсингем», верхние этажи заняты «О-вом Универсальной галантерейной торговли» и «Городскими и районными продовольственными складами», а на самом верху, откуда можно наблюдать за всем, ютится «Национальная торговая справочная контора», которая довольствуется помещением в мансарде.
Однако не думайте, что вам сказано уже все о доме № 8. Ради этого самого дома № 8 мы пришли на улицу Ангела, то есть не ради всего дома № 8, а ради его второго этажа.
Без сомнения, стоило бы только приоткрыть дверь акционерного общества «Бритвы Квик и Ко» или взобраться по лестнице, ведущей в «О-во Универсальной галантерейной торговли», или, подняв глаза к грязному слуховому окошку, окликнуть «Национальную справочную контору», — и мог бы быть создан целый ряд великих произведений, быть может, грандиозных эпических поэм.
Но мы вынуждены ограничиться менее таинственным, зато более почтенным вторым этажом, конторой «Твигг и Дэрсингем».
2
Случилось так, что в это осеннее утро миссис Кросс пришла несколько позже, чем всегда. Она не видела в том большой беды, так как сегодня не нужно было мыть полы и предстояла лишь обычная уборка — «смахнуть пыль и немного подмести». Но кто-то из тех людишек, что любят соваться не в свое дело, оставил ей записку в «общей конторе» — так называлась первая комната за перегородкой из матового стекла с окошечком вроде билетной кассы. В записке было сказано: «Миссис Кросс, нельзя ли сегодня, в виде исключения, убрать комнату как следует? Заранее спасибо».
— Вам спасибо, — произнесла миссис Кросс очень громко, с мрачной иронией и, разорвав записку, бросила ее в печку. Потом, чтобы доказать, что она не из тех женщин, которые позволяют собой командовать, она немедленно пошла в другую комнату, кабинет мистера Дэрсингема, старательно подмела ее и вытерла повсюду пыль. Сделав это, миссис Кросс, переваливаясь, прошла через «общую контору» в следующую комнату, загроможденную шкафами, ящиками, заваленную образцами дерева и всяким хламом, — комнату, которую она не любила из-за царившего в ней страшного беспорядка. Проходя через «общую», миссис Кросс не удостоила ее и взглядом, словно комната эта была полна людей, имеющих обыкновение оставлять наглые записки. Спина миссис Кросс ясно говорила, что контора будет убрана так, как она, миссис Кросс, находит нужным. Очень довольная тем, что сумела дать отпор, она, войдя в последнюю комнату, так энергично принялась за работу, что целых десять минут была окутана облаком пыли. Когда уборка была окончена, в комнате, правда, нашлось бы очень мало предметов, очищенных от пыли, но зато почти все они по крайней мере переменили прежнюю свою пыль на новую, налетевшую, может быть, из самого дальнего угла.
Миссис Кросс отбросила прядь седых волос с отечного лица, на котором время и заботы сначала провели, потом углубили морщины. С трудом волоча опухшие ноги, она подошла к старому кожаному креслу в углу, выставленному сюда за негодностью, тяжело шлепнулась в него и, сложив на коленях распухшие руки (хотя она и уверяла, что «до косточек истерла себе пальцы на работе», но горячая вода, мыло, мокрые щетки, наоборот, нарастили на этих костях избыток дряблого, бескровного мяса), тотчас же погрузилась в мрачные размышления, в которых фигурировали и мистер Кросс, страдавший ревматизмом, и их домашний очаг — две комнаты между Сити-роуд и черным Риджент-кенел, — и миссис Томлинсон, та дама, у которой она сегодня будет убирать квартиру, и мечта о куске тушеного мяса. Через некоторое время она встала и вернулась в первую комнату.
Теперь миссис Кросс не игнорировала больше эту комнату, и то, что она увидела, присмотревшись повнимательнее, неожиданно смутило и даже испугало ее. Она напрасно погорячилась (с нею это бывает) из-за той записки! Контора и в самом деле нуждается в генеральной уборке. Она ее в последнее время немножко запустила, оттого что вот уже три дня подряд приходит поздно, — и не мудрено: ведь она не высыпается. А все потому, что соседи в верхнем этаже — миссис Вильямс и ее муж — завели громкоговоритель, этакий небольшой рожок. Это не только громкоговоритель, но и поздноговоритель, от его крика голова может треснуть… Да, контору надо немного привести в порядок, иначе тот, кто оставил записку, нажалуется мистеру Дэрсингему, и тогда опять потеряешь место. А все оттого, что она такая вспыльчивая. Лучше уж срывать сердце на метле да пыльной тряпке…
Где-то за стеной часы пробили один раз, словно давая последний толчок мыслям миссис Кросс. Половина девятого! Ого, надо поторопиться с уборкой!
Она все еще «торопилась», — точнее говоря, лениво водила тряпкой по жестяному чехлу пишущей машинки, когда появился второй служащий «Твигга и Дэрсингема», и рабочий день начался. Застекленная дверь из небольшой передней, где посетителей всегда заставляли несколько минут дожидаться, распахнулась и пропустила в контору мальчика лет пятнадцати. Глаза его были устремлены на сложенный квадратиком журнал, который он держал перед собой на расстоянии четырех дюймов. Это был рассыльный (официально он назывался «младший конторщик») Стэнли Пул. Он явился сюда из Хакни, и оно еще напоминало ему о себе сохранившимся во рту вкусом какао и хлеба со свиным салом. Его тело, маленькое и худое, но довольно крепкое, увенчанное растрепанной рыжей головой со вздернутым носом, веснушками и зеленовато-серыми глазами, вот уже двадцать минут тому назад приступило к своим служебным обязанностям, атаковав сначала трамвай, потом автобус и пройдя пешком несколько улиц. Сейчас оно явилось в контору. Но душа Стэнли Пула еще не возвратилась к будничному существованию. Даже в ту минуту, когда Стэнли уже переступил порог конторы, она все еще витала в пустынных степях Мексики, переживая героические и захватывающие приключения в обществе юных летчиков, Джека Дэшвуда и Дика Робинзона, грозы всех мексиканских бандитов.
— А, пришел! — встретила его миссис Кросс, снова закладывая за ухо выбившуюся прядь. — А я только что подумала, отчего тебя до сих пор нет?
Стэнли поднял глаза и поздоровался с нею кивком головы. Со вздохом оторвался он от мира юных летчиков и мексиканских бандитов. И раньше, чем сунуть в карман свой журнал, попытался сложить его еще меньшим квадратиком.
— Все читает, читает, читает! — саркастически воскликнула миссис Кросс. — И на что только люди тратят время! Что они находят в этих книгах, ума не приложу! Ну вот о чем ты читал сейчас? Об убийствах небось?
— Нет, — возразил Стэнли, без всякой видимой надобности балансируя на одной ноге. — Это журнал для мальчиков.
Он сообщил это как-то нехотя, с угрюмым видом — не потому, что он по природе был угрюм и необщителен, а просто он по опыту знал, что старшие задают такие вопросы обычно не из любознательности, а с намерением посмеяться над ним.
— Знаю, знаю, эти дрянные книжонки по пенни за штуку!
— А вот и нет, — возразил Стэнли, балансируя теперь уже на другой ноге. — Эти по два пенса. Я покупаю их каждую неделю, с тех пор как они начали выходить. Журнал называется «Спутник мальчика». Здесь печатаются самые лучшие рассказы, — добавил он в неожиданном порыве откровенности. — Все про мальчиков, которые летают на самолетах в Мексику и в Россию, по всему свету и переживают разные приключения.
— Приключения, скажи на милость! Сидели бы лучше дома. Этак и ты, пожалуй, скоро убежишь искать приключений — и что скажет тогда твоя бедная мать?
Но эта реплика только подзадорила Стэнли и толкнула на новые, еще более опасные признания.
— Нет, я хочу быть сыщиком, — объявил он.
— Вот тебе раз! — воскликнула миссис Кросс, потрясенная и вместе восхищенная. — Сыщик! В жизни своей не слыхивала ничего подобного! Уж если хочешь стать сыщиком, так зачем же ты сюда-то поступил? Здесь сыщикам делать нечего. Выдумал тоже! Для этого дела ты слишком мал, и никогда тебе сыщиком не бывать, потому что сперва надо стать полисменом, потом уже сыщиком, — а в полисмены тебя ни за что не возьмут.
— Неправда! Чтобы стать сыщиком, вовсе не нужно раньше быть полисменом, — презрительно парировал Стэнли. Он был хорошо осведомлен в этом деле и такому профану, как миссис Кросс, не дал сбить себя столку. — Да и потом можно сделаться частным сыщиком и отыскивать украденные бриллианты и выслеживать преступников. Вот чего мне хочется: выслеживать.
— Это что же значит? Подглядывать за людьми, что ли? Ну нет, это пакость. Выслеживать, ишь ты! Уж я бы тебе показала, если бы поймала тебя за таким делом. — И миссис Кросс, подобрав метлу и совок, тряхнула ими так сердито, как будто это их она поймала «за таким делом». — Ты лучше принимайся за работу, как всякий честный, порядочный мальчик, и никому больше не рассказывай, что намерен шпионить за людьми, иначе попадешь в беду. Что ты думаешь, люди захотят терпеть такое? Если бы мистер Дэрсингем знал, что у тебя на уме, он бы тотчас приказал тебе убираться вон из конторы. И пришлось бы тебе не за людьми гоняться, а за новой службой, — вот тебе и будет «слежка»!
Стэнли повернулся к ней спиной и скорчил гримасу, выражавшую презрение не столько к самой миссис Кросс, сколько к узости того мировоззрения, представительницей которого в этот момент являлась миссис Кросс. Он вышел за дверь, принес из почтового ящика утреннюю почту и разложил ее на ближайшем столе. Затем, вдруг что-то вспомнив, посмотрел, ухмыляясь, на миссис Кросс, которая делала последний рейс вокруг комнаты.
— Видели записку, что была тут для вас оставлена? — осведомился он.
Миссис Кросс сразу перестала орудовать пыльной тряпкой.
— Да, видела. И если тебе интересно, где эта записка, так знай, что она в печке. — В тоне миссис Кросс звучало грозное предостережение всем тем, кто много мнит о себе. — А интересно знать, кто оставил эту записку? Кто ее писал? Только это мне скажи, больше мне ничего не надо.
— Ее написала мисс Мэтфилд.
— Так я и знала! Как только взглянула на бумагу, сразу догадалась, чьих это рук дело. Мисс Мэтфилд, разумеется!
Ирония миссис Кросс приняла теперь столь устрашающие размеры, что эта почтенная особа вся тряслась, и голове ее грозила опасность оторваться от туловища.
— А позвольте узнать, давно ли мисс Мэтфилд в этой конторе стучит на своей машинке? Давно ли? Всего-то два месяца! Ну хорошо, скажем — три. А сколько времени я работаю здесь, у Твиггов и Дэрсингемов, прихожу каждое утро изо дня в день и убираю контору? Этого ты не знаешь? Нет, ни ты, ни твоя мисс Мэтфилд этого не знаете. Так вот я скажу вам обоим. Семь лет я служу у Твиггов и Дэрсингемов, вот сколько! Меня нанимал не нынешний мистер Дэрсингем, а еще его покойный дядя, старый мистер Дэрсингем, — хороший был человек, лучше нынешнего, да и дельнее, насколько я понимаю. А когда нынешний мистер Дэрсингем стал хозяином, он меня позвал и говорит: «Вы будете убирать по-прежнему, миссис Кросс, и платить я вам буду столько же, сколько платил дядя». Так и сказал, вот в этой самой комнате. Я говорю: «Премного обязана, сэр, буду стараться, как всегда». А он в ответ: «Я в этом не сомневаюсь, миссис Кросс». Машинистки! Эка невидаль, подумаешь! Приходят и уходят так часто, что не стоит труда запоминать их имена. За то время, что я здесь работаю, их тут перебывало не то восемь, не то десять, а то и вся дюжина. Мисс Мэтфилд! Когда она придет, передай ей от меня ответ, — прокричала она, окончательно расхрабрившись и забыв всякую осторожность. — Скажи ей только одно: «Миссис Кросс прочитала записку и спрашивает, кто уборщица в этой конторе, она или вы. А если она, так тот, кто делает свое дело целых семь лет каждый божий день, знает его лучше, чем тот, кто трещит на машинке всего каких-нибудь три месяца. Так что миссис Кросс просит вас впредь держать свои замечания при себе, пока вашего мнения не спрашивают». Вот что ты ей скажи, мальчик. А пока до свиданья.
Миссис Кросс с большим достоинством сняла фартук, собрала свои вещи, кивком головы простилась со Стэнли и выплыла из комнаты, а через минуту с треском захлопнула за собой наружную дверь.
Оставшись один, Стэнли принялся за свои утренние обязанности с презрительной миной человека, сознающего, что он достоин лучшей участи. После того как он снял колпаки с обеих пишущих машинок, передвинул несколько счетных книг на конторках, налил чернил во все чернильницы и разложил повсюду чистые листы промокательной бумаги (это была прихоть мистера Смита), Стэнли вспомнил, что и он — человек и у него есть душа. Зажав в руке короткую круглую линейку таким образом, чтобы она отдаленно напоминала револьвер, он в течение нескольких напряженных минут скрывался за высоким табуретом мистера Смита, затем вдруг прыгнул вперед, наведя свое оружие на то место, где должна была находиться нижняя пуговица на жилете великого преступника, и хрипло произнес: «Руки вверх, Бриллиантовый Джек! Ни с места!» Он в виде предупреждения поднял воображаемый револьвер, затем сказал небрежно, через плечо, одному из своих помощников, полицейских сержантов, или кому-то в этом роде: «Уведите его». Таков был конец Бриллиантового Джека и новый триумф Стэнли Пула, молодого сыщика, чьи подвиги затмили даже подвиги Юных Авиаторов. Отведя таким образом душу, Стэнли положил на место круглую линейку и снизошел до выполнения кое-каких скучных обязанностей, которых требовали от него Твигг и Дэрсингем в этот час дня. Обязанности эти оставляли более чем достаточно времени для размышлений, и Стэнли стал соображать, пошлют ли его сегодня куда-нибудь и будет ли у него возможность погулять на свободе. Как только он оказывался вне стен конторы, начиналось блаженство. Хотя бы его послали только на почту, или на товарную станцию, или в какое-нибудь учреждение не далее, как за три-четыре квартала, дела фирмы «Твигг и Дэрсингем» немедленно улетучивались из памяти Стэнли, он тотчас с головой окунался в жизнь лондонских улиц и, прыгая и вертясь в толпе, похожий на рыженького воробья, безмерно наслаждался возможностью заниматься «слежкой» за представителями преступного мира.
Несмотря на ранний час, перед Стэнли уже вставала одна забота, которая мучила его все неотвязнее по мере того, как время шло и голод его усиливался. Надо было решить вопрос, куда идти завтракать и что купить на тот шиллинг, который мать каждое утро давала ему на еду. Утренний завтрак перед уходом из дому Стэнли всегда съедал так быстро, что желудок его почти тотчас забывал об этом, и к десяти часам Стэнли уже ощущал внутри пустоту, а около двенадцати — настоящую физическую боль. Он задавал себе вопрос: что было бы, если бы его отпускали завтракать не в половине первого, а в последнюю очередь, после всех, и ему приходилось бы ждать до половины второго?
Существует бесчисленное множество способов истратить шиллинг на завтрак, начиная от самого благоразумного — просадить всю эту солидную сумму на сосиски или жареную печенку с картофельным пюре в столовой Диттона и кончая способом, который доставляет наслаждение, но недостаточно насыщает: растратить шиллинг по мелочам, покупая в одном месте ватрушку с вареньем, в другом — банан, в третьем — шоколадку. И все эти способы были испробованы Стэнли.
Он как раз намеревался пойти сегодня снова в ближайшую закусочную Лайона и усердно рылся в памяти, стараясь припомнить, сколько стоит в этом заведении порция тушеной баранины по-ланкаширски, когда размышления его были прерваны появлением одного из сослуживцев. Это был Тарджис, служащий рангом повыше Стэнли, но пониже мистера Смита, тщедушный и угловатый молодой человек лет двадцати, с несколько длинной шеей, узкими плечами и большими нескладными руками и ногами. Уродом его нельзя было назвать, но, подумав, вы, вероятно, пришли бы к заключению, что для него было бы лучше, если бы природа создала его уродом, ибо наружность у него была очень уж невзрачная и ничем не привлекала внимания. Вы, вероятно, не заметили бы его среди других, — а большую часть своей жизни он проводил в обществе других людей, — да если бы и заметили, то посмотрели бы на него только раз и решили, что больше не стоит. Он не казался больным или истощенным, но что-то в его лице — полное ли отсутствие красок, или легкая одутловатость и нечистая кожа, словно покрытая сероватым налетом, — внушало мысль, что у этого человека все в жизни не такое, как надо, — пища, помещения, в которых он проводит свои дни и ночи, постель, на которой он спит, одежда, которую он носит, — что он живет в мире без солнца, благодатного дождя и свежего ветра. Он не был ни хорош, ни слишком дурен собой. Его немного выпуклые карие глаза были бы красивы на девичьем лице, большой нос должен бы придавать ему властный вид, но почему-то не придавал, маленький детский рот, всегда полуоткрытый, обнажал длинные неровные зубы. Подбородок был не то чтобы срезанный, но как-то вяло опущенный. Синий костюм висел на Тарджисе мешком, пузырился и лоснился уже через пять дней после того, как покинул магазин дешевого платья, в витрине которого такой же точно костюм облегал восковую модель чемпиона легкого веса и все еще коварно соблазнял Тарджиса своей новизной и острыми складками на брюках всякий раз, как этот молодой человек украдкой прохаживался мимо витрины. Его мягкий воротничок был всегда измят, галстук немного потрепан, башмаки стоптаны. Любой разумной женщине потребовалось бы не более недели на то, чтобы до неузнаваемости изменить к лучшему внешний вид Тарджиса, но было совершенно ясно, что ни одна разумная женщина не принимает в нем участия.
— Доброе утро, Стэнли, — сказал он довольно небрежно.
— Хэлло! — откликнулся Стэнли равнодушным тоном человека, который не ожидает от своих ближних ничего хорошего.
Тарджис подошел к своему месту, вынул из ящика блокнот, разложил на столе две-три конторские книги, перечел запись в блокноте, в которой он напоминал самому себе, что нужно «первым делом позвонить Уишоу», и затем посвятил пять минут меланхолическому разговору по телефону.
— Что, придется туда сходить сегодня? — с тайной надеждой осведомился Стэнли, когда Тарджис повесил трубку.
— Нет, они пришлют к нам своего человека. Ведь ты бы ушел и пропал на полдня. Хорош работничек! Ты останешься здесь, сынок, и поработаешь немного для разнообразия. Тебе это полезно.
— А что мне делать? — пренебрежительно спросил Стэнли.
— Вот это здорово, клянусь Богом! — воскликнул Тарджис. — Работы по горло, если только ты захочешь ее поискать, а не увиливать от нее. Обратись к Смитти, он найдет тебе дело. А если у тебя работы мало, могу тебе уступить часть моей. У меня ее больше, чем надо.
Стэнли поспешил переменить тему и сказал, ухмыляясь:
— Послушали бы вы, как тут расходилась мамаша Кросс из-за этой записки. Ну и орала же она!
— А что она говорила? — спросил Тарджис. Но спросил с нарочитой небрежностью, чтобы показать, как мало его может интересовать то, что интересует всякую мелюзгу вроде Стэнли.
В эту минуту они услышали, как хлопнула дверь с улицы, и затем в комнату вошла виновница всей этой кутерьмы с запиской, мисс Мэтфилд. Она бросила на свой стол книжку из библиотеки, большую сумку и перчатки, потом отошла к вешалке и стала снимать пальто и шляпу. Тарджис и Стэнли молча ожидали: и тот и другой побаивались мисс Мэтфилд. Даже мистер Смит и сам мистер Дэрсингем немного побаивались мисс Мэтфилд.
— Доброе утро, — сказала она громко, переводя взгляд с одного на другого и, как всегда, придавая своим словам смущающий оттенок иронии. — Ну, как вы все сегодня, в добром здоровье? А я нет. — Тон ее изменился. — О Господи, я думала, что никогда не доберусь сюда! Это путешествие в автобусе — такая тоска! Автобус ходит с каждым днем все хуже, все медленнее и медленнее, просто безобразие! — Она села за машинку, но и не взглянула на нее.
— А вы бы попробовали ездить подземкой, — посоветовал Тарджис не слишком уверенно. Он уже не раз давал такой совет. И все это говорилось уже не раз, и все трое знали это.
— Терпеть не могу подземку! — Так мисс Мэтфилд одной фразой уничтожила целое огромное сооружение.
В разговор вмешался Стэнли:
— А я люблю ездить подземкой. Это так весело. Жаль, что ее нет там, где я живу.
Мисс Мэтфилд рылась в своей сумочке и произнесла только: «О ч-черт!» — тоном злодея в старинной мелодраме. Позволить себе выражаться, как злодеи в старинных мелодрамах, могут только такие в высшей степени современные и независимые молодые особы, которые весь день стучат на машинке, а к вечеру возвращаются в свои крохотные комнатушки, сочетание спальни с гостиной, при каком-нибудь женском клубе, — эти существа, которым, как утверждают, будет принадлежать мир.
В последний раз безуспешно поискав что-то в сумочке, мисс Мэтфилд опять помянула дьявола, закрыла сумочку, резко щелкнув замком, схватила свои перчатки и пошла к вешалке, где висело ее пальто. Стэнли и Тарджис молча наблюдали за ней. Это была девушка лет двадцати семи или восьми, а то и двадцати девяти, с темными, коротко остриженными волосами, с резко очерченными бровями над блестящими глазами, капризно изогнутой малиновой полоской губ и решительным круглым подбородком, который грозил в будущем превратиться в двойной. Мисс Мэтфилд не была красива, но могла бы быть, если бы кто-нибудь постоянно твердил ей, что она красавица. Чуточку более ширококостная и высокая, чем средняя девушка ее типа, она обладала стройной шеей и плечами, но в целом ее фигура (которую хорошо облегали оранжевый джемпер, перехваченный поясом, короткая темная юбка и чулки искусственного шелка) была, пожалуй, чересчур развита в верхней своей части, отличалась бюстом слишком пышным по сравнению с плоскими бедрами, так что не всякому могла понравиться и, в частности, не нравилась равнодушному и печальному знатоку, Тарджису; он должен был делать над собой некоторое усилие, чтобы увидеть в мисс Мэтфилд женщину, а не просто личность.
Все в Лилиан Мэтфилд — ее лицо, голос, манеры — говорило о том, что она затаила какую-то огромную, неизбывную обиду на жизнь. Жалуясь каждый день на тысячу мелких неприятностей, она никогда не упоминала об этой главной обиде. Но тайное недовольство прорывалось, и тогда мисс Мэтфилд брюзжала и злилась на всех и все. А яростнее всего оно бушевало в ней, когда она казалась веселой и оживленной, что, впрочем, случалось не часто, а в служебные часы — почти никогда.
— Уборщица, вероятно, нашла мою записку, — заметила она, воротясь к столу. — Но надо сказать, толку от этого мало. Смотрите! Ни в одной из тех контор, где я работала, не было так грязно. Эта женщина никогда не старается убрать как следует. Вот и сегодня она только обошла комнату с метелкой — и все. Нам приходится проводить целый день среди такой пыли и грязи, оттого что она не желает утруждать себя. Я подниму скандал, так и знайте!
— Записку она читала, — воскликнул Стэнли, обрадовавшись случаю обратить на себя внимание, а кстати и насолить кое-кому. — Вам надо было слышать, как она тут разорялась! — И, желая показать, как именно «разорялась» миссис Кросс, он широко раскрыл рот и вытаращил глаза. Но вдруг быстро стушевался. Наружная дверь отворилась, и слышно было, как кто-то вытирал ноги. Это означало, что пришел мистер Смит, а мистер Смит любил заставать Стэнли за делом. Поэтому Стэнли замолчал и схватился за работу, припасенную специально для этого момента.
— Здравствуйте, все, — промолвил мистер Смит. Бросив на стол свою шляпу и сложенную газету, он потер руки. — А по утрам становится уже холодновато, не правда ли? Самая настоящая осенняя погода.
Произведения
Критика