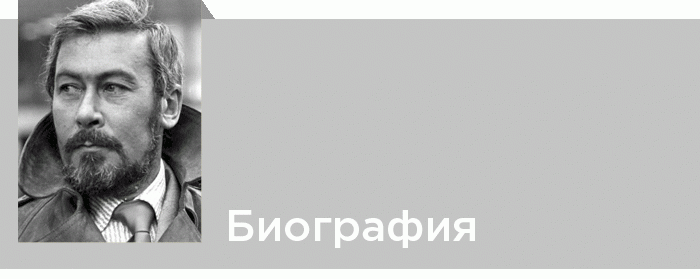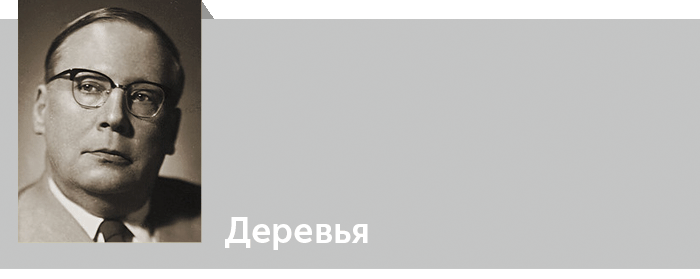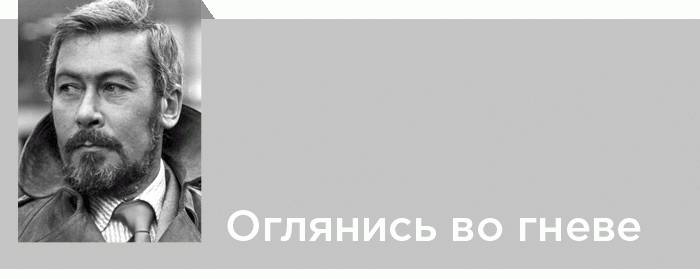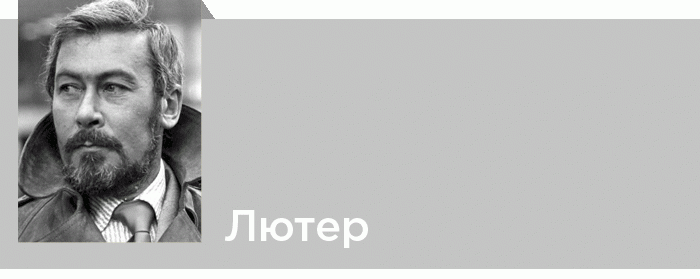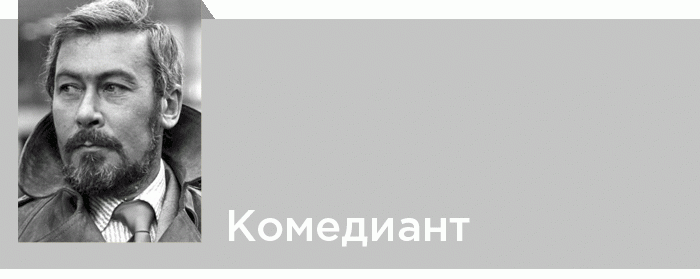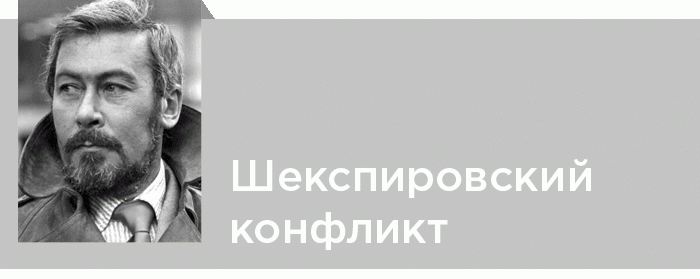Монологи Джона Осборна
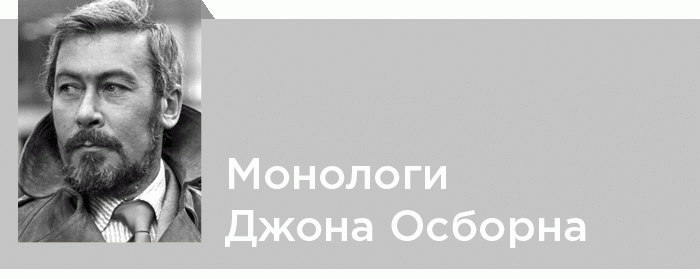
Д. Шестаков
1
Молодой человек держит при себе непроизнесенный монолог, в котором готов расквитаться на словах с тем и с теми, кто его больше всего бесит, кто больше всего надоел и с кем — бейся хоть головой об стену — ничего не поделаешь.
Вот, к примеру: «Мамашенька у нее фруктик. С виду квашня — такая сырая, кисейная, благородная... А под низом у нее — броня. И душа черней Черного моря. И хамства на всех хватит... Ей подыхать пора — хоть червей покормит...»
Или еще: «И какого черта воскресенье на газеты тратить?! Ведь каждый раз одно и то же! Даже на книги рецензии одинаковые. Книги — новинки, рецензии — по старинке...»
В лицо «мамашеньке» этого не скажешь. А на газеты — кому жаловаться? Не газетчикам ведь?! Вот и получается, что жалоба не выходит из дому. Она все более язвительна — все менее сопряжена с действием. Она адресована первому встречному — и никому не адресована. Она перерастает самое себя, оставляя в стороне вызвавшие ее к жизни импульсы. Она становится универсальной.
Так рождаются монологические драмы Осборна.
Мучающие его героя маленькие и большие несчастья, неурядицы, недовольства, цепляясь друг за друга, несутся навстречу беде. Настоящее горе, вызвав у героя острый приступ жалости, на мгновение рассеивает скопление прошлых обид. Но обиды сильнее горя, и все начинается сначала. Катарсиса не получается. Что-то этому мешает.
Сплав жалости и злобы оказался прочной эмоциональной основой для пьес Осборна, начиная прямо с «Оглянись во гневе». Каждая реплика героя «Оглянись во гневе» Джимми Портера, все его «портеризмы»— как назвала их английская критика, растащившая пьесу по строчке, — связаны с одним из этих чувств или с тем и другим вместе. Чем недоволен — все на сцену. Нужно все ругать, пока есть кого жалеть и пока способен на ругань и жалость, пока не атрофировались чувства.
Осборн превратил обыденный внутренний монолог в одну из лучших послевоенных пьес. Этой пьесой он открыл вторую половину века в английском театре и с тех пор удерживает за собой место первого драматурга Англии.
Осборновские мотивы проникли в английскую драму задолго до самого Осборна. Общее чувство беспокойства, разочарования, утраты больших целей в жизни, крах идеологических, политических, религиозных прочих систем ценностей, закреплявших структуру общественного сознания, — все эти настроения были хорошо известны и непосредственным предшественникам Осборна на английской сцене — Т.С. Элиоту или тому же Пристли.
В Англии XX века до Осборна такое удалось сделать только одному драматургу — Бернарду Шоу. Масштабы тут бесспорно разные. И не случайно Шоу шел против течения один, а Осборн отвоевывал национальную сцену вместе с целой ватагой молодых драматургов — «осборновцев».
Осборну, так же как и Шоу, которому он наследует, гораздо важнее то, что он думает о жизни, чем сама эта жизнь. Но Шоу излагал стройную систему взглядов, все ситуации его пьес выстроены парадоксальной логикой этого изложения. У Осборна нет стройной системы взглядов и нет парадоксальной логики. Жизнь заставила его поверить по крайней мере в неколебимую истинность своей формы. Ситуации у Осборна отличаются строгим, документальным жизнеподобием. Развиваясь по логике жизни, быта, они вступают в конфликт с логикой слов, идей, взглядов.
Бытовая фактура осборновской пьесы-манифеста, ее обыденные ситуации сами по себе не могли, конечно, объяснить запальчивость, с которой она была написана, сыграна и встречена. С другой стороны, шиллеровский пафос «гнева», «рассерженная» идеология Джимми Портера сами по себе тоже едва ли объясняли успех «Оглянись во гневе».
Дело было, по-видимому, в тех особых взаимосвязях, объединивших здесь жизнь и отношение к ней, быт и идеологию, материю и дух. Дело было в том, чтобы показать, как быт поверяется идеологией и как та, в свою очередь, поверяется бытом. Быт 1950-х годов (понимая слово «быт» достаточно широко) свел на нет идеологию 30-х. Можно по этому поводу сокрушаться (Джимми Портер это делает). Можно думать о прошлом ностальгически, можно жалеть отца (Джимми и это делает). Но важен, как говорится, сам факт. В свою очередь идеология Джимми, идеология «сердитого молодого человека», ставит под сомнение устойчивый, «нормальный» быт 50-х годов, сытое и регламентированное сосуществование равнодушных эгоистов. А идеализм Портера сам не выдерживает давления фактов, на которые он пытался опереться. Поединок фактов и идей сюжетно завершается победой фактов.
Герой Осборна требовал от близких «воодушевления» — любой ценой. Увидев воочию, какова эта цена, увидев страдания жены, которых он раньше желал ей как средства духовного исцеления, Джимми забывает о своем «гневе» и целиком отдается жалости.
Кроме «Оглянись во гневе» Осборн написал пьесу о неудачнике-драматурге, что продал свои способности («Эпитафия Джорджу Диллону»), пьесу о неудачнике актере, в стремлении угодить публике утратившем свое искусство («Шут»), пьесу о неудачнике вожде, оказавшемся слабее своих идей («Лютер»), пьесу о неудачнике атеисте, опередившем свое время («Скандальная история — предмет для размышлений»), пьесу о неудачнике-шпионе, жертве военной машины («Вот так патриот!»), пьесу о неудачнике адвокате («Неподсудное дело»).
Неудачников окружают в пьесах Осборна те, кто судит их по законам удачи. (Сценой такого воображаемого суда над героем открывается пьеса «Неподсудное дело».) При этом неудачник — человек живой, удачники — мертвые. Неудачник — личность, удачники — оборотни. За удачниками— правда официальная, «газетная», за неудачником — правда чувства, правда собственной ненависти и своих обид.
Вспомним, что любой подлинный герой Шоу готов проповедовать и проповедовать свою правду, ибо этой правде вести людей вперед. У осборновских героев с этим как раз ничего не выходит. Им некуда за собой вести.
В «Оглянись во гневе» одиночество Портера декларируется с некоторой манерностью: «Самые большие, самые сильные существа в этом мире, видно, самые одинокие. Так старый медведь бредет по темному лесу — вдвоем с собственным дыханием. Ни стаи, ни стада, чтобы отогреть старика». В «Лютере» проклятие одиночества героизируется, герою открывается, что только так и нужно жить: «Никто не может умереть за другого. Не может и поверить за другого и ответить — за другого. Стоит этому произойти — и нет больше человека: есть толпа». В пьесе «Вот так патриот!» та же мысль выражена простой альтернативой: «Свобода — или принуждение, веселье — или скука, одиночество — или толпа, твоя маленькая царевна — или император Франц-Иосиф».
Пьесы Осборна об одиноких еретиках мирного времени пестрят военными сравнениями. И больше всего их в «Оглянись во гневе»: «нейтральная полоса», «заложница», «противник», «изменник», «открыть огонь», «выступить в поход», «надеть доспехи», «спустить на воду броненосец», «уйти в укрытие»...
«Частный случай» неудачника Джимми Портера уже поэтому не воспринимается как частный случай. Вокруг заброшенной мансарды хоть и сердитого, и молодого, но еще и «маленького» человека кипит невидимая битва. В этой битве Портер кровно заинтересован. Она не дает ему погрязнуть в обыденности. Он здесь инициатор, этот «одинокий медведь», противник стаи, стада и толпы, строптивый партнер своей усталой «маленькой царевны» — «пушистой белочки» Элисон. Он развязал незримую баталию с привилегированными родителями жены, с ее пошлыми друзьями, с ее подругой-богомолкой, с соседями и с квартирной хозяйкой, с Британской империей и Соединенным Королевством, с «большими целями» больших людей и с «маленькими радостями» маленького человека, со «здравым смыслом и прогрессом» и с умильной «доброй старой Англией».
Но до чего же английским героем был все-таки сердитый Портер!
Англичан дразнят их сентиментальностью. Они и сами полны угрызений по этому поводу. Но только в Англии появилась нигилистическая пьеса-манифест, автор которой сумел, не насилуя природы своего героя-отрицателя, «антигероя», отыскать в его душе неприкосновенный запас ценностей, спасенных от всеобщего краха.
Критика потратила много энергии, доказывая положительный смысл всеотрицания Джимми Портера. Стоит обратить внимание и на другое. Роман-манифест Сартра назывался «Тошнота». Джимми Портера, как и экзистенциалистского героя Сартра, тошнит от всего окружающего. Но кроме ужаса перед жизнью по инерции, жизнь» «как она есть», и кроме тоски по жизни прочувствованной и продуманной, осборновский мизантроп еще ищет, даже требует человеческого участия — и находит его в полной мере. Полноте и бескорыстию человеческих отношений, которые составляют жизнь обитателей осборновской мансарды, сколько бы ни твердил Портер о своем одиночестве, могут только позавидовать персонажи Сартра или Камю. Я уж не говорю о юморе — сколько чистого веселья, помимо злобы и цинизма, в балаганных выходках Портера! Крах духовных ценностей, о котором была написана пьеса Осборна, не коснулся отношений героев, исполненных тонкой душевной привязанности, взаимной заботы, неугасимого, отзывчивого тепла.
В «Оглянись во гневе» сосуществуют два типа человеческой связи. С одной стороны, отношения истинные, пульсирующие живыми притяжениями и отталкиваниями, прерывистые и полноценные. С другой стороны, связь постоянная и «официальная» — через газеты, воскресные походы в церковь, светскую рутину и т. п. Больше всего лжи для Портера скопилось именно тут: в морщинах газетных строк, в расхожих штампах, подменяющих чувства, до неузнаваемости абстрагирующих конкретные интересы, желания, реакции, импульсы. Осборн больше всего настаивает на том, чтобы высвободить человека из-под власти слов-абстракций, из-под власти бездушного и бездумного автоматизма.
2
То же соотношение сил встречаем мы и в «Неподсудном деле», осборновской пьесе 1964 года — о новом, повзрослевшем Портере, как рекомендуют нам критики нового осборновского героя Билла Мейтленда.
Отношения между Биллом и Лиз, Биллом и Джой, а может быть, и между Биллом и Анной основаны прежде всего на искренности. В них немало взаимного участия, бережной внимательности. Но принимая это как должное, Билл Мейтленд негодует и стенает почище Джимми Портера.
Потому что в этом оазисе человеческой привязанности счет ведется на минуты, а кругом — часами, годами, десятилетиями — насаждаются официальные абстракции, приводящие всех и вся к общему знаменателю, раз и навсегда «фиксирующие» людей и их отношения по установленному шаблону. Потому что у Джимми Портера была его «белочка» Элисон, а у Билла, как выясняется, никого нет.
Тому, кто привык к искусству, направленному против искажений человеческого облика, к искусству, апеллирующему к «нормальному» порядку вещей, мечтающему о восстановлении «правильных» норм жизни — такому трудно понять Осборна. Ибо для Осборна нет ничего ненавистнее, чем этот самый «нормальный» человек, добросовестно несущий бремя существования, доверяющий нормальному ходу вещей, убежденно или легковерно исполняющий положенные функции в давно налаженном социальном механизме.
Вот за что достается коллегам Мейтленда от их незадачливого патрона. Вот почему не устраивают Билла покладистый служака Джоне и здравомыслящий «старина Хадсон». Вот за что ополчается Билл против своих современников. За то, что они дорожат порядком, который их же сковывает по рукам и ногам, за то, что каждый из них добровольно кладет по кирпичу для той стены, что отделяет их от осуществления своих невыявленных возможностей, от свободы.
Что это за свобода, Биллу неведомо. И от этого он тоже страдает. Проблесками искомой свободы кажутся его мечты — об одинокой прогулке по городу, о нежной встрече со взрослой дочерью, о чем-то радостно-покойном, что никому не нанесет обиды и на что, увы, слишком мало надежд: «Нечего надеяться, что к вам будут хорошо относиться».
А на что же надеяться? Во всяком случае, не на «старую фирму благоразумия и прогресса», банкротство которой джазист-любитель Джимми Портер сопроводил десять лет назад траурно-бравурным маршем. Счетные машины, именем которых заставляют Мейтленда клясться на воображаемом суде, не выведут людей вперед, если будут штамповать их по образу и подобию покладистого Джонса.
«Победы прогресса» — это то, что попадает в газеты, чем клянутся краснобаи-политиканы, оправдывая свое существование. А вот издержки прогресса — это уж по части Осборна и его главного героя. То, что для газеты частный случай, для Билла Мейтленда — первое дело.
Через его контору таких случаев и таких дел за день проходит с десяток. Вот дело «Тонкс против Тонкса». Вот «Гарнси против Гарнси», «Андерсон против Андерсона». Эти случаи не подтверждают информацию о «победах прогресса». А с точки зрения официального оптимизма это все свод «неподсудных дел». Они еще не доросли до официальной правды, превращающей чувства в слова, слова — в штампы, исповедь — в показания.
Противники театра Осборна обычно видят его главную слабость в том, что драматург неохотно и неумело предоставляет слово недругам своего главного героя. Драматургия Осборна при таком к ней подходе выглядит почти что бесконфликтной. Но ведь и сила, и пафос Осборна коренятся как раз в этом.
Да, он редко дает внятно высказаться «сильным мира сего» и тем, для кого они — «сильные мира». Потому что первым и так есть где себя показать, для них существуют парламент, газеты, радио, официальные встречи, наконец — большой бизнес, а другие... что ж, дай им слово, что-то они скажут?
«Неподсудное дело» — это очередная осборновская пьеса-монолог. Молчат жена и дочь Билла, сдержанно молчаливы коллеги, быстро умолкают клиенты. Судя по всему, у них нет других слов, кроме тех, которым их обучили, кроме слов, созданных для участников раз и навсегда установленных процедур, кроме штампов. Такие слова только глубже прячут правду, только помогают от нее ускользнуть.
Помните, с каким сарказмом выплевывал герой «Оглянись во гневе» вычитанные в газетах штампы? Голос газетных строк — это и есть голос главного оппонента Портера. Оппонента невидимого, но вездесущего.
Монолог в суде в «Неподсудном деле» — такое же саркастическое цитирование чужих слов, ничьих слов. Этот кошмар, мучающий Билла и во сне, и наяву, — кошмар чужих слов, которые его хотят заставить произносить. Он произносит их как нерадивый ученик: заплетающимся языком, через силу, с покорной, подобострастной интонацией тупицы.
Персонажи «Неподсудного дела» остаются живыми людьми до тех пор, пока их не заставляют говорить «по писаному», пока их не застращают машинообразным ритуалом, не вовлекут в мир анкет и готовых формул. Тут уж — никакой жизни, никакой правды, миссис Гарнси превращается в миссис Тонкс, миссис Тонкс— в миссис Андерсон, коллега становится клиентом, а сам адвокат — обвиняемым.
Все слилось воедино, обратилось в однозначный хаос, в котором запутался Билл Мейтленд. Все у него запуталось-перепуталось: клиенты все на одно лицо, а их показания не сходятся, сослуживцы разбегаются, любовью приходится заниматься на работе, а домой возвращаться, как на службу...
«Настоящий» адвокат на месте Мейтленда достиг бы определенной ясности. Он взял бы полуправду истца и полуправду ответчика, взял бы эти неприемлемые показания, заглянул в кодекс и вывел бы еще одну полуправду — для суда. Мейтленд, при всем его цинизме, на такое не способен. Во всеуслышание кается, но не может поставить себя над людьми, заставить себя манипулировать ими, как сводом показаний. Сам несчастный, сам «неприемлемый» — разве не видно?..
В своих клиентах Билл видит себя, в себе — своих клиентов. «Если бы можно было все вернуть», — вздыхает миссис Андерсон, подавшая иск о разводе. Нельзя «начать все сначала», — констатирует Билл, «человек, которому так везло».
Не случайно так подходит Биллу эта ироническая характеристика героя из другой пьесы. Таково второе название «Смерти, коммивояжера» Артура Миллера. Пьеса «Неподсудное дело» напоминает миллеровскую «Смерть коммивояжера». Оба героя — миллеровский и осборновский — ищут опоры и не могут ни на что опереться. Оба на своей шкуре почувствовали остроту столкновения иллюзии и реальности. В «Смерти коммивояжера» этот процесс представлен во времени: шаг за шагом коммивояжер Уилли Ломан возвращает свое прошлое, бережно прощупывает его, а обнаружив, что все его жизненные принципы терпят необъяснимый крах, он из жизни уходит. Поражение адвоката Билла имеет пространственное измерение. Телефонный провод соединяем его с десятком одинаковых «ситуаций», оставленных им без решения по всему Лондону, напоминающих о себе очередным настойчивым зуммером. Любой звонок, любая встреча — еще один свидетель капитуляции героя, еще одно доказательство того, что он с судьбой не справляется.
Миллеровский коммивояжер — без вины виноватый. Осборновский адвокат, напротив, убежден, что и сам не безгрешен, что хаос поселился и в нем, что и в его собственной душе трудно различимы правда и неправда. Билл кается в своей «посредственности», нерешительности, лености.
Но в стороне от завладевшего им хаоса его поджидает машинизированный порядок, люди-детали: «сделано в Англии». В этом порядке Биллу уготовано местечко — тепленькое местечко, профессия посредника в чужих судьбах. И он, ясное дело, бежит от этого — раз так стоит вопрос, раз выбирать можно только между тоскливой удачей — и провалом.
В монологах своего горе-адвоката Осборн выкладывает перед нами целый ассортимент человеческих слабостей. Билл горой стоит за эти слабости — свои и чужие, — потому что это тот человеческий, природный «остаток», к которому непричастна любая кибернетика. Билл хватается, как за соломинку, за все, что не подвластно безличной модернизации, за все индивидуальное, но нельзя безнаказанно профанировать.
Кстати, о главной «соломинке» Билла — о сексе. Любовные «победы» Билла противостоят «победам прогресса». Это издевка человека над машиной, «частного случая» — над статистикой, это вызов Билла, та единственная правда, которой он не стыдится, которой он верен в царстве полуправды, единственное достойное употребление, которое он находит для своей недюжинной энергии.
Жизнь биологическая или жизнь механическая — не продолжение ли это конфликта «быта» и «идеологии» из «Оглянись во гневе»?
«Прогресс», о котором вещают газеты и политики, «прогресс» — главный идеологический козырь цивилизации, измеряется статистически, количественно, «в государственном масштабе». Но есть в человеке что-то, что в «прогрессе» не участвует, что «прогрессу» не подвластно. «Прогресс», судя по газетам, движется вперед семимильными шагами, а Билл Мейтленд — живое существо — топчется на месте или в лучшем случае движется по кругу: от женщины к женщине, от ссоры к ссоре, от скандала к скандалу. Так же точно не могут сойти с места в своих показаниях клиенты Билла.
«Прогрессу» и Биллу не по пути. «Прогрессу» — лишь бы ни на минуту не останавливаться, лишь бы забыть, как было, а Биллу — лишь бы удержаться хотя бы на минуту, лишь бы что-то запомнить.
Идеология технического прогресса — в глазах Билла, в глазах Осборна — стимулирует худшие качества современников: безответственность, эгоизм, фальшь, фрагментарность сознания и чувств, укрепляет несправедливый статус-кво во всех сферах человеческой жизни.
Быт же всегдашний противник идеологии, понимается теперь Осборном (да и всей новой английской драмой) не совсем так, как раньше. Это естественное развитие отношений между людьми — не опосредованное никакими абстракциями: ни статьей закона, ни газетной строчкой, ни любой заповедью. Это минуты счастья, минуты горя, сладкие воспоминания и несбыточные мечты. Иными словами, это моменты абсолютной искренности. Такие моменты очень близки один другому, они сгрудились, словно люди в бомбоубежище, они окутаны страхом — над ними грохочет и мчится вперед своими семимильными шагами забывшая об искренности, насквозь «условная» цивилизация, Куда ее несет, куда?!
В этих взглядах автора «Неподсудного дела» проявляется сполна асоциальность, во власти которой был и остается Осборн. Его герои столько же ненавидят «слова», сколько и «дела». Они верны своим чувствам — своему гневу, своей жалости — до тех только пор, пока общество не посягнуло на все это, не захотело этим воспользоваться. Культ одиночества, установленный Осборном, это культ верности своим чувствам, своим первым реакциям, своим нервам — всему, что «сердитые» герои, иначе как в монологах, не могут перевести в действительный залог. Осборн вместе со своим героем не умеет и не хочет вникать в вопрос о гуманистических путях прогресса, толкуя это понятие, как и все прочие, в своем духе. Как и все социальное, прогресс мерещится Осборну в пустой сети фальшивых «слов» и пустых «дел», в изобилии средств, прикрывающем отсутствие цели. Болезненная осборновская асоциальность находит объяснение в сегодняшней английской общественной ситуации.
«Осборновских героев, от Портера до Билла Мейтленда, — пишет театральный обозреватель английского журнала «Лондон мэгэзин» Элан Сеймур, — в каких бы границах ни осуществлялся их протест, объединяет ряд общих черт: отчаянное ощущение своей ненужности; сильный интеллект, гибкая энергия, порой не способные ни на чем сосредоточиться, порой сосредоточенные не на том, на чем нужно, и всегда отвергнутые и урезанные обществом... Автор, по всей видимости, разделяет ярость своих персонажей, столкнувшихся с вопиющим фактом ненужности яркой индивидуальности в обществе, которое страшится неуступчивого таланта и вполне удовлетворяется посредственностью».
Давний романтический мотив — мотив «лишнего человека» — в осборновской Англии представляется самым современным. Подобно романтикам прошлого века, Осборну прекрасно удается передать безвременье, пафос свержения идолов — будь то бастион британского патриотизма, британских традиций или ложные упования на техническую революцию.
Тоска по новому осмыслению мира, тоска по сильному и полному чувству, сопровождающая утрату веры в предначертанностъ сущего и в неизменную человеческую природу, вечная неудовлетворенность, неприятие автоматизма бытия — это тоже объединяет Осборна и романтиков. Но романтики это романтики, а Осборн это Осборн. Он и в романтизме разуверился.
Пьесы Осборна предоставляют доступ к широко распространенным веяниям в духовной жизни Англии, посвящают нас в специфическую сегодняшнюю атмосферу английской жизни, морали, общественных настроений. Все это мы видим в острокритическом разрезе, через восприятие героя, попавшего в гущу этой атмосферы, способного взглянуть на нее со стороны, «оглянуться во гневе» и — снова в нее окунуться.
Мы вновь услышали знакомый голос «сердитого молодого человека», на этот раз голос сбивчивый, в котором прорывается настоящий страх — перед несчастьем людей и тем, что его порождает. Эта искренняя озабоченность требует к себе внимания.
Л-ра: Иностранная литература. – 1967. – № 7. – С. 112-117.
Произведения
Критика