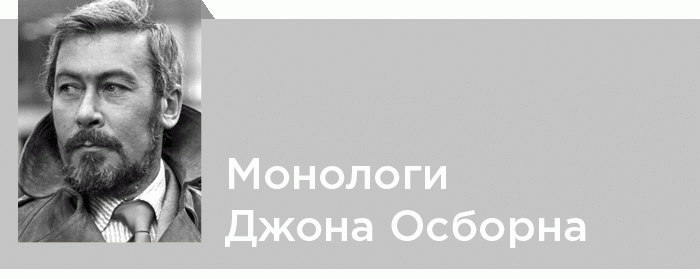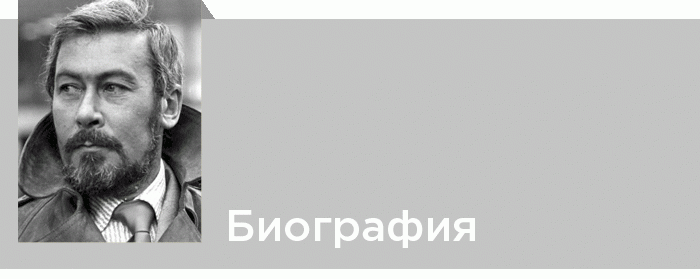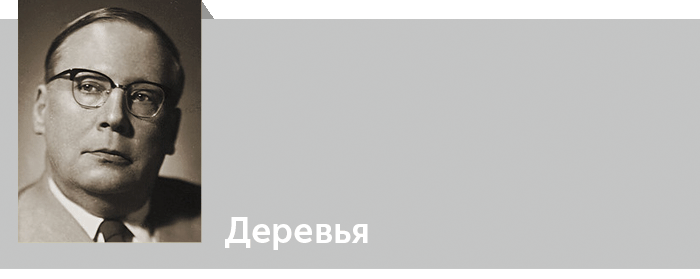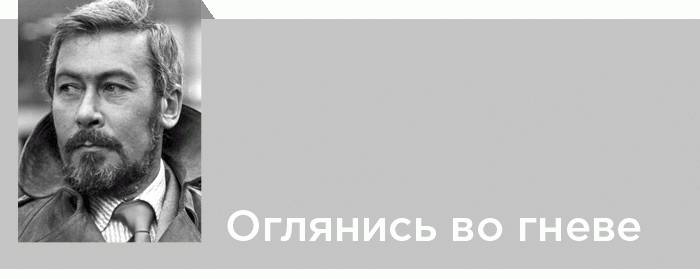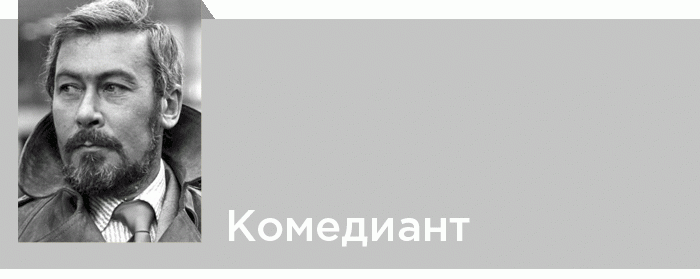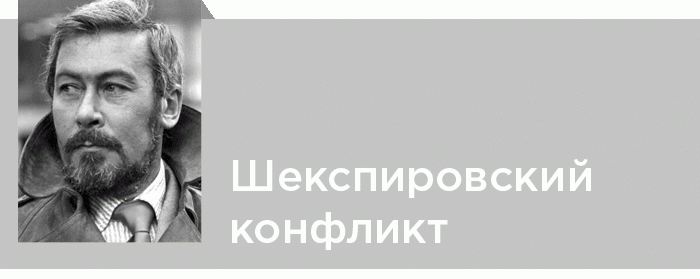Джон Осборн. Лютер
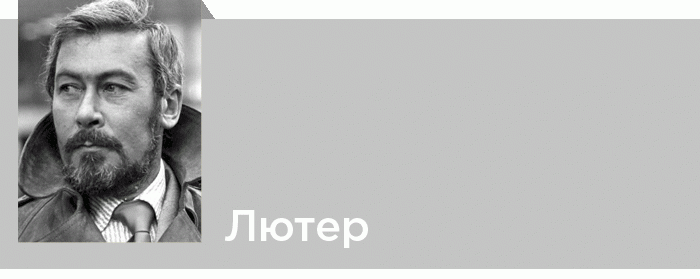
(Отрывок)
Пьеса в трех действиях
Действующие лица:
Рыцарь.
Настоятель.
Мартин.
Ганс.
Лука.
Вайнанд.
Тецель.
Штаупиц.
Каетан.
Мильтиц.
Лев X.
Экк.
Катерина.
Ганс-младший.
Августинцы,
доминиканцы,
герольд,
император,
крестьяне и др.
Действие первое
Сцена первая — Августинский монастырь в Эрфурте. 1506 год.
Сцена вторая — Там же, год спустя.
Сцена третья — Через два часа.
Действие второе
Сцена первая — Рыночная площадь в Ютебоге. 1517 год.
Сцена вторая — Августинский монастырь в Виттенберге. 1517 год.
Сцена третья — На паперти дворцовой церкви в Виттенберге. Канун праздника всех святых. 1517 год.
Сцена четвертая — Дворец Фуггеров в Аугсбурге, октябрь 1518 года.
Сцена пятая — Охотничий домик в Малъяне, Италия. 1519 год.
Сцена шестая — У Ольстерских ворот, Виттенберг. 1520 год.
Действие третье
Сцена первая — Рейхстаг в Вормсе. 1521 год.
Сцена вторая — Виттенберг. 1525 год.
Сцена третья — Августинский монастырь в Виттенберге. 1530 год.
Примечание
В начале каждой сцены появляется Рыцарь. Держа в руке знамя, он отрывисто оповещает о времени и месте предстоящей сцены, затем быстро уходит.
Действие первое
Сцена первая
Эрфурт, Тюрингия. 1506 год. Часовня в монастыре ордена святого Августина. Мартин Лютер принимает постриг. В присутствии всей братии он стоит на коленях перед настоятелем.
Настоятель. Тебе предстоит выбрать: либо ты оставишь нас теперь же, либо откажешься от мира и всецело посвятишь себя господу богу и нашему ордену. Я должен тебя предупредить: приняв решение, ты уже не вправе нарушить обет послушания, ибо принял его по доброй воле и имел возможность отказаться.
Приносят монашескую рясу и капюшон, настоятель их благословляет.
Дай ему жизнь вечную, господи, ибо по твоей воле принимает он монашеский образ. (Снимает с Мартина мирскую одежду.) Господь да разлучит тебя с прежним. Господь да облечет тебя в нового человека.
Поет хор.
Мартина облачают в орденское платье с капюшоном. Через голову надевают длинный белый наплечник, свисающий на грудь и за спину. Мартин преклоняет колена перед настоятелем и, положив руку на устав ордена, произносит обет.
Мартин. Я, брат Мартин, вступая в орден, обещаю послушание всемогущему господу богу, пресвятой деве Марии и тебе, брат настоятель этого монастыря, и именем генерального викария ордена пустынников светлого епископа святого Августина и его преемников обещаю до последнего движения жизни соблюдать обеты бедности и воздержания по уставу нашего преподобного отца Августина.
Настоятель готовится прочесть молитву, и Мартин простирается ниц, раскинув руки крестом.
Настоятель. Господи Иисусе Христе, водитель наш и наша сила, огнем смирения ты отделил раба твоего Мартина от людей. Мы молим тебя сподобить его небесной благодати, дабы огнь сей уберег его от плотского греха и соучастия в делах мира. Яви милость, удержи его при себе и введи в жизнь вечную. Ибо мало начать: спасется претерпевший до конца. Аминь.
Хор поет «Veni Creator Spiritus» или «Великий отче Августин» — по выбору режиссера. Мартину передают зажженную свечу и подводят его к алтарю, где монахи совершают обряд целования. Окруженный монахами, он медленно уходит со сцены.
Процессия скрывается за кулисами, голоса замирают. На сцене двое мужчин. Один из них, Ганс, раздраженно поднимается с колен и выходит на середину сценической площадки. Это отец Мартина, кряжистый угольщик. Пока он работяга мастеровой, но в будущем — цепкий хозяйчик-капиталист. Ганс растерян, ему и лестно и горько. Благоговейно отмолившись, к нему подходит его приятель Лука.
Ганс. Ну?
Лука. Ну?
Ганс. Занукал, старый дурак! Что скажешь?
Лука. А что сказать?
Ганс. Что думаешь, то и скажи. Как тебе это все, грамотей?
Лука. Э…
Ганс. Э! Монахи эти, Мартин, вся канитель ихняя — как ты про это думаешь? Ведь тоже заднее место отсидел, пока служба шла, тоже на все глаза лупил — мог бы что-нибудь придумать, а?
Лука. Да… Всю душу переворачивает.
Ганс. Ишь ты!
Лука. Сидишь, как в помрачении ума.
Ганс. Скажи на милость!
Лука. Слеза прошибает и…
Ганс. И чего?
Лука. Сам понимаешь. Небось, не каменный.
Ганс. Душу ему переворачивает! Не приведи господь еще раз увидеть такое.
Лука. Не надо, Ганс…
Ганс. Слеза его прошибает!
Лука. А то ты сам этого не чувствуешь.
Ганс. Ну, тебе-то можно себя потешить.
Лука. Право, Ганс, теперь поздно жалеть и роптать. Божья воля, ничего не поделаешь.
Ганс. Правду молвил, делать нечего. Спасибо, друг, на добром слове. Тебе что? Потерял зятя — другого' найдешь, их вон сколько осталось! А я? Я теряю сына. Ты вникни: сына.
Лука. Как ты можешь такое говорить!
Ганс. А так! Двух моих сыновей чума уже унесла. Теперь этот. Господи боже, а ты видел, как его оболванили? «Брат Мартин»!
Лука. В этом ордене прекрасные люди. Это не какие-нибудь доминиканцы или францисканцы…
Ганс. Яйцо с бородой, а не голова, право слово.
Лука. Ты сам всегда их хвалил.
Ганс. Ну, я рассудил, что они тоже христиане, эти капюшонники.
Лука. Ты это вря, они достойные люди.
Ганс. Ага, достойные…
Лука. Благочестивые люди, ученые — они тоже университет кончили, как Мартин.
Ганс. Сравнил! Некоторые из них имени своего прочесть не умеют.
Лука. Ну и что?
Ганс. А то! Я вот угольщик. По мне — хоть бы их вовсе не было, этих книг. Под землей, знаешь ли, темновато читать. А Мартин — ученый человек.
Лука. Это верно.
Ганс. Магистр свободных искусств! А теперь он чего магистр?
Лука. Что поделать! Бог нашел — ты потерял.
Ганс. Добрая половина этой братии только и умеют, что споласкивать свои миски и попрошайничать на улицах.
Лука. Я думаю, нам пора идти.
Ганс. Большим человеком мог стать…
Лука. И станет, с божьей помощью.
Ганс. Прямо! Мог адвокатом стать.
Лука. Теперь не станет.
Ганс. Правду молвил, не станет. А мог выбиться. При архиепископе устроиться, у герцога или…
Лука. Верно, верно.
Ганс. Да где угодно!
Лука. Пойдем.
Ганс. Мог человеком стать!
Лука. Я пошел, Ганс.
Ганс. «Брат Мартин»!
Лука. Ганс!
Ганс. Но почему, Лука? Зачем? На что ему это понадобилось? (Он уже не задирается и задает вопросы, словно надеясь получить простой и внятный ответ.) Чего ради он сюда полез?
Лука(берет его под руку). Пойдем домой.
Ганс. Чего ему загорелось — не понимаю…
Лука. Домой пора, домой.
Уходят. Звонит монастырский колокол. У стола в трапезной стоят монахи. Помолившись, они садятся и в молчании приступают к еде. У аналоя вслух читает уставщик. В грубом переднике поверх рясы Мартин прислуживает за столом.
Уставщик. Как совершаются добрые дела? Возлюби господа бога всем сердцем, всей душой, всем естеством. Возлюби ближнего, как самого себя. Не убий. Не прелюбодействуй. Не укради. Не пожелай чужого. Не лжесвидетельствуй. Угождай всем. Следуя за Христом, откажись от себя. Бичуй плоть. Не ищи легкой жизни. Подвизайся в посте. Одень нагих. Приди к больному. Погреби мертвого. Помоги страждущему. Утешь скорбящего. Превыше всего ставь Христову любовь. Не поддавайся гневу. Не питай зависти. Не допускай в сердце обмана. Не заключай притворного мира. Бойся судного дня. Страшись ада. Все помыслы души отдай заботам о вечной жизни. Всякий день помни о смерти. Неусыпно следи за собой. Знай и помни, что бог видит тебя везде. Если в сердце вступят злые мысли, растопи их светом Христовой любви и повинись своему духовному наставнику. Держи рот чистым от лукавых и подлых слов. Слова твои да будут немноги. Не говори речей суетных и возбуждающих смех. С радостью внимай чтению божественных словес. Чаще прибегай к молитве. В слезах и раскаянии всякий день исповедуйся перед богом в прегрешениях. Отринь плотские внушения. Откажись от своеволия.
Вот пути к духовному совершенству. Если неустанно днем и ночью мы будем им следовать и на Страшном суде отчитаемся в них, то получим во искупление заповеданное от господа. Не зрит око и не ведает слух, что уготовил господь возлюбившим его. Мы должны прилежно трудиться в нашей мастерской. Пусть верит господь, что вы с радостным сердцем следуете этим правилам, ибо домогаетесь лишь духовной красоты и набожным поведением разносите по свету сладостное дыхание Христово.
Звонит монастырский колокол. Монахи встают, склоняют в молитве головы, потом проходят в глубь сцены к алтарю и опускаются на колени. С помощью брата Мартин складывает и выносит стол. Вскоре все простираются ниц, и в дрожащем свете свечей начинается всеобщее покаяние. Возвращается Мартин, ложится позади всех, ближе к рампе. Истовая, тихая почти до шепота, сокровенно-доверительная, эта сцена похожа на молитву.
Брат. Исповедуюсь господу, блаженной Марии, нашему святому отцу Августину, всем святым и всем присутствующим здесь в том, что по собственной слабости согрешил словом, делом и помышлением. Молю святую Марию, святых нашего господа и вас, собравшихся здесь, — молитесь за меня. Я исповедуюсь в том, что вышел на вечерню без наплечника и вынужден был вернуться за ним. Я ни во что вменил первую степень послушания, которая есть повиноваться неукоснительно. В своей нерадивости к Христу я сокрушенно винюсь и прошу любого наказания, какое будет угодно наложить настоятелю и братьям.
Мартин. Я червь, а не человек, я притча во языцех, я всеобщее посмешище. Ступи на меня, раздави во мне червя.
Брат. Исповедуюсь в том, что сделал три ошибки — в оратории, псалмопении и антифоне.
Мартин. Я боролся с медведем в саду, где не было цветов и вокруг простиралась пустыня. Когда я попытался открыть калитку и выйти, медведь изодрал мне в кровь руки. Там была даже не калитка, а пустая рама, и можно было просто шагнуть через нее, но я был весь перемазан в крови и видел нагую женщину верхом на козле, и козел стал лизать мою кровь; я думал, от боли упаду в обморок, и проснулся в своей келье, весь мокрый после дьявольской бани.
Брат. Пусть брат Норберт вспомнит о провинности на кухне.
Мартин. Я помню и сокрушаюсь.
Брат. Пусть он вспомнит, что совершил еще более тяжкий грех, не явившись к настоятелю и братьям за епитимьей, и тем усугубил свою вину.
Мартин. Я одинок. Я одинок и в разладе с самим собой.
Брат. Каюсь. Каюсь и молю о ниспослании суровой кары за этот грех.
Мартин. Чем оправдаться?
Брат. Наберись мужества, ты понесешь наказание, и притом суровое.
Мартин. Чем мне себя оправдать?
Брат. Исповедуюсь в том, что пронежился в постели и поспел на вечерню после «Славься» девяносто четвертого псалма. Я претерпел полагающийся позор, выстояв не как обычно, в хоре, а у всех на виду, каковое место настоятель нарочно определил для столь легкомысленных грешников. Но прегрешение мое велико, прошу меня наказать.
Мартин. Я был среди одетых мужчин и женщин. Мы лежали друг на друге по семь-восемь человек в ряд. В куче было много людей. И хотя я был на самом верху, меня вдруг обуял страх, я закричал: а как же те, что внизу? Что с теми, которые на дне? И в середине? Без спешки, сохраняя порядок, мы разобрались и увидели, что лежавшие в самом низу были мало сказать раздавлены — от них осталась одна одежда. Вместо людей была одна только одежда, ровными холмиками лежавшая на земле. Пустая одежда на земле.
Брат. Я слушал мессу без свечи.
Брат. Я дважды по лености не брился и в оправдание себе возомнил, что лицом я светлее моих братьев, меньше обрастаю бородой и меньше грешен. Я выказал суетность и лень, каюсь и прошу епитимьи.
Мартин. Если бы отвалилась, рассыпалась моя плоть и я стал костью, единым костяным куском, голая кость и мозг, живые волосы и сердце из кости, — если бы я стал весь из кости, я бы взмахнул собой бестрепетно, без всякого страха, потому что чувствовал бы себя несокрушимым.
Брат. Я просил приготовить баню, убеждая себя, что это нужно, для здоровья, а погрузившись в корыто, понял, что внял суетному желанию и что чистоты не было в душе моей.
Мартин. Непрочны мои кости, раздроблены, сохнут, нет во мне крепости — один только комок костного мозга и усыхающая слизь.
Брат. Пусть брат Павлин вспомнит, как мы навещали наших Христовых сестер, как по пути он засматривался на женщин, подававших ему милостыню.
Брат. Я помню об этом и молю о прощении.
Брат. Пусть он вспомнит, что хотя наш возлюбленный отец Августин не запрещает смотреть на женщин, но он сурово порицает нас, если мы их пожелаем или захотим быть желанными. Ибо не только прикосновением и любостяжанием мужчина возбуждает в женщине распутное чувство. Это могут сделать взгляды. Если у тебя похотливые глаза, ты уже не докажешь чистоты своих побуждений. Где похотливый глаз, там и похотливое сердце. Когда люди с нечистым сердцем признаются друг другу взглядами, когда им приятно желать друг друга, тогда чистота оставляет их, хотя бы они не успели замарать себя скверным поведением. Останавливая взгляд на женщине и радуясь ответному знаку, помни: братья все видят.
Мартин. Исповедуюсь в том, что губительно согрешил против смирения, ибо не раз, досадуя на самую черную и неприятную работу, я не только не сумел убедить себя в том, что хуже и недостойнее других людей, но в глубине души отказывался этому верить. На много недель, показавшихся мне бесконечными, я был поставлен чистить отхожие места. Я делал свою работу, и делал добросовестно, не жалея своих скромных сил, не жалуясь и не переча. Я справился, я очень старался, но иногда в моем сердце поднимался ропот. Я молил, чтобы работа скорее кончилась, хорошо зная, что господь слышит ропот моего сердца и отвернется от моего труда, и, значит, я работаю впустую. Я открылся своему наставнику, и в наказание он велел мне поститься два дня. Я постился три дня, но и после этого не уверен, что во мне затихло роптание. Прошу, помолитесь обо мне, молите, чтобы мне было позволено делать прежнюю работу.
Брат. Пусть брат Мартин вспомнит все степени смирения. И пусть продолжает чистить отхожие места.
Звонит монастырский колокол. Пролежав некоторое время недвижно, братья и Мартин поднимаются и идут к клиросу. Начинается служба — возгласив, антифон и псалом. За группой монахов Мартина не видно. Вскоре из хора голосов выделяется слабый, болезненный стон. Он нарастает, переходит в яростные, исступленные вопли; в группе, где стоит Мартин, происходит движение. Только несколько голов оборачиваются на шум, пение продолжается. Такое впечатление, что все обошлось.
Шатаясь, между скамьями пробирается Мартин. Чьи-то руки безуспешно пытаются его задержать. Теперь он у всех на виду. Он весь в напряжении, дыхание срывается, он непроизвольно вздрагивает, настигнутый жестоким припадком. К нему подходят двое братьев, они с трудом удерживают Мартина — так яростно выкручивает его боль. Он пытается заговорить, делает неимоверные усилия и наконец хрипло выталкивает слова.
Мартин. Нет, не я! Только не я!
Припадок достиг кульминации, и Мартин сразу обмякает, словно он прикусил язык и во рту полно слюны и крови. Еще два монаха спешат на помощь. Мартину почти удается вырваться, но силы его оставляют, и монахи уносят его прочь. Служба продолжается, словно ничто не нарушило ее чина.
Сцена вторая
Наверху горизонтально висит лезвием вверх огромный нож, вроде тех, что у мясников. Через него переброшено тело обнаженного человека. Внизу, на сцене, огромный конус, глядящий на зрителя широким открытым основанием, словно бочка без дна; снаружи темнота. Внутри конуса горит слепяще яркий свет, и видно, как в дальнем конце появляется темная фигура, медленно бредет на зрителя и останавливается перед выходом из конуса. Это Мартин. По его осунувшемуся лицу струится пот.
Мартин. Я потерял тело ребенка, детское тело, глаза детские; с первым звуком своего детского голоса потерял. Тело младенца потерял. Испугался, стал искать. И до сих пор не отпускает страх. Страшно, и никуда не спрячешься! А главное… (срывается в крик) каждую минуту страшно! Заводится в тихую ночь собака настоятеля: укладывается на другой бок, облизывается — страшно! Темноты боюсь, ее бездны, а бывает, что она открывается под ногами каждый день. Даже по нескольку раз в день, и не видать дна, занимается дух, конца не достать. За что? Чья-то рука выжала мои кишки и не дает им ходу; я изнемогаю и не в силах освободиться. Утерянное тело, тело младенца, припавшего к груди матери, рядом с теплым и большим телом мужчины, — не могу его найти.
Мартин выходит из конуса в темноту и отправляется в келью слева. Опускается на колени около постели и пытается молиться, но вскоре падает от слабости. Справа появляется процессия монахов, несущих священническое облачение, свечи и алтарную утварь: сегодня Мартин впервые. служит литургию. Во главе процессии брат Вайнанд. Монахи проходят мимо кельи Мартина, кратко совещаются и, оставив с Мартином брата Вайнанда, удаляются в подобие будки в глубине сцены слева. По виду строение напоминает волынку тех времен; распухшее, гладкое, оно выглядит нелепо и непристойно.
Вайнанд. Брат Мартин! Брат Мартин!
Мартин. Да?
Вайнанд. Пришел твой батюшка.
Мартин. Отец?
Вайнанд. Он просил повидаться с тобой, но я сказал, что лучше после службы.
Мартин. Где он сейчас?
Вайнанд. Завтракает с настоятелем.
Мартин. Он один?
Вайнанд. Нет, с ним дюжины две приятелей.
Мартин. И мать пришла?
Вайнанд. Нет.
Мартин. Что ему понадобилось? Надо было мне его предупредить, чтобы не приходил.
Вайнанд. Я бы удивился тому отцу, который не захочет увидеть, как сын отправляет первую литургию.
Мартин. У меня и в мыслях не было, что он может явиться. Хотя бы дал знать заранее.
Вайнанд. Одним словом, он здесь. Он даже подарил братству двадцать гульденов, так что едва ли он очень недоволен тобой.
Мартин. Двадцать гульденов.
Вайнанд. Ты готов?
Мартин. Это втрое больше, чем об посылал мне в университет на целый год.
Вайнанд. Не вижу, что ты готов. Опять весь вспотел. Тебе нехорошо? Что-нибудь болит?
Мартин. Нет.
Вайнанд. Позволь я оботру тебе лицо. Времени осталось немного. Ты правде здоров?
Мартин. Живот свело. Обычное дело.
Вайнанд. Ты брился?
Мартин. Да, перед исповедью. А нужно еще раз?
Вайнанд. Нет, нет. Несколько пропущенных волосков беды не наделают, как, впрочем, и несколько неотпущенных грехов. Ну вот, так лучше.
Мартин. Что ты имеешь в виду?
Вайнанд. Ты весь вымок, как свинья на бойне. Знаешь пословицу? Повесишь нос, а дьявол радуется.
Мартин. Я не об этом. Про какие грехи ты говоришь?
Вайнанд. Я только хотел сказать, что есть священники, которые отправляют таинства, не вымыв чисто уши. Но рассуждать об этом не время. Поднимайся, Мартин, тебе решительно нечего бояться.
Мартин. Что ты знаешь?
Вайнанд. Ты всегда так говоришь, будто за спиной у тебя сейчас ударит молния.
Мартин. Ответь: какие грехи?
Вайнанд. А такие, что весь монастырь считает их напраслиной, твоим поклепом на себя. Разве не так? Никакой разумный духовник тебя не поймет.
Мартин. А зачем тогда вообще говорить о покаянии, если его не чувствовать?!
Вайнанд. Отец Нафан рассказал мне, что не далее как позавчера вынужден был наказать тебя, поскольку ты ударился в смешную истерику из-за стиха в «Притчах Соломоновых» или где-то еще, не знаю.
Мартин. «Имей попечение о стадах».
Вайнанд. И прицепился-то ведь к одному-единственному слову. Когда ты чему-нибудь научишься? Отдавай отчет в своих поступках. Ведь некоторые братья открыто смеются над тобой и твоей задерганной совестью. Плохо, что смеются, знаю, но их тоже можно понять.
Мартин. Это «одно-единственное слово» всегда и беспокоит меня больше всего.
Вайнанд. Едва ты исповедуешься и приступишь к алтарю, как снова зовешь священника. Да что там! Все говорят, что ты бежишь к исповеднику, даже когда спустишь ветры.
Мартин. Так и говорят?
Вайнанд. Любимая шутка в нашем монастыре.
Мартин. Вот оно что.
Вайнанд. Мартин! Здесь ты защищен от множества житейских зол. Властвовать над ними, а не попадать под их власть— вот чего от тебя ждут. Господь велит положиться на его вечную милость. Постарайся это помнить.
Мартин. И ты мне это говоришь! А что я приобрел, вступив в этот святой орден? Разве я не такой же, как раньше? Я по-прежнему завистлив, по-прежнему нетерпим и не избавился от страстей.
Вайнанд. Как у тебя язык повернулся задать такой вопрос?
Мартин. Повернулся, и я тебя спрашиваю: что я здесь получил?
Вайнанд. В любом случае мы учимся только одному — как умереть.
Мартин. Это не ответ.
Вайнанд. Другого пока не знаю. Собирайся.
Мартин. Меня в этом святом месте вы учите только сомнениям…
Вайнанд. Даже умеренное поощрение на время тебя успокаивает, но уже малый искус греха и смерти сокрушает тебя.
Мартин. Вы научили меня сомневаться, и я никак не могу выбраться из червивого мешка дьявола.
Вайнанд. Мне больно видеть тебя таким — присосался к своим заботам, словно пиявка.
Мартин. Ты будешь рядом?
Вайнанд. Конечно, и если что-нибудь пойдет не так или ты запнешься, мы тебе поможем. Справишься. Пустые страхи, ты не собьешься.
Мартин. А если собьюсь? Хотя бы в одном слове? Одно слово — это один грех.
Вайнанд. Стань на колени, Мартин.
Мартин. Прости, брат Вайнанд, но все дело в том…
Вайнанд. Опустись на колени.
Мартин опускается на колени.
Мартин. Вот ведь что: господень гнев — я его очень чувствую, он всегда со мной.
Вайнанд. Повторяй апостольский символ.
Мартин. Он ненасытен, он гложет меня, пожирает и выплевывает кусками.
Вайнанд. Повторяй за мной: «Верую во единого бога-отца, вседержителя, творца неба и земли…»
Мартин. Я корыто, он осушает меня. По капле.
Вайнанд. «…и в Иисуса Христа, его сына единородного, господа нашего…»
Мартин, «…и в Иисуса Христа, его сына единородного, господа нашего…»
Вайнанд. «…зачатого от святого духа, рожденного девой Марией, страдавшего при Понтийском Пилате…»
Мартин(бормочет), «…распятого, умершего и погребенного. Сошедшего в ад, на третий день восставшего из мертвых, восшедшего на небо, севшего одесную всемогущего бога-отца и грядущего судит живых и мертвых… И каждый восход солнца славит смерть».
Вайнанд. «Верую…»
Мартин. «Верую…»
Вайнанд. Продолжай.
Мартин. «Верую в духа святого, в святую католическую церковь, в сонм святых, в отпущение грехов»!
Вайнанд. Повтори!
Мартин. «Верую в отпущение грехов».
Вайнанд. Веруешь? Тогда запомни: святой Бернард учит, что член апостольского символа «Верую в отпущение грехов» должен давать нам уверенность в прощении наших собственных грехов. Значит?
Мартин. Освободить бы мне свои кишки. Я заперт, как в склепе.
Вайнанд. Ты постараешься это помнить, Мартин?
Мартин. Постараюсь.
Вайнанд. Отлично. Ну, давай собираться. Вставай, мы тебе поможем.
Появляются несколько братьев с одеянием и прочими атрибутами, помогают Мартину облачиться.
Мартин. Сколько, ты говоришь, отец передал братству?
Вайнанд. Двадцать гульденов.
Мартин. Большие деньги. Он же простой угольщик.
Вайнанд. Да, он говорил.
Мартин. Старик с норовом. Где он сидит?
Вайнанд. Я думаю, где-нибудь впереди. Теперь ты готов?
Звонит колокол. Появляется процессия монахов.
Мартин. Спасибо, брат Вайнанд.
Вайнанд. За что? Такой день для всякого — тяжелое испытание. Еще несколько минут, и ты впервые примешь в свои руки тело и кровь Христа. Благослови тебя бог, сын мой. (Крестит его.).
Монахи уходят.
Мартин. Уже в теле младенца сатана прознал корень моих мучений. Потому он так ловко расставляет мне ловушки, всякими средствами унижает, и мне все кажется, что я единственный подвергаюсь искушениям, наваждениям и боюсь сделать шаг.
Вайнанд(он уже порядочно рассержен). Ты глупец! Истинно глупец! Господь нь гневается на тебя, это ты на него гневаешься! (Уходит.)
За дверью братья ждут Мартина.
Мартин (опустившись на колени). Мария, благая Мария, я вижу в Христе радугу, гневом налившуюся, заступись за меня перед сыном, попроси его умерить свой гнев, ибо не смею я поднять глаза. За что мне такая мука?
Встает, присоединяется к процессии, все уходят. Издалека доносится начало литургии. Сцена пуста. Потом в конусе, нестерпимо ярко разгорается свет и вскоре появляется Мартин. Он вошел с дальнего конца конуса и идет на публику. У него на руках нагой ребенок. Мартин выходит^ наружу, делает несколько шагов вперед и застывает в неподвижности.
Мартин. Ну, вот. Славословие кончилось, началось кощунство. (Возвращается в конус.)
С окончанием литургии свет постепенно гаснет.
Сцена третья
Монастырская трапезная. За столом Ганс, Лука и несколько монахов. Лука оживленно беседует с братьями, Ганс погружен в размышления. Он порядочно выпил, его тянет пошуметь, поспорить.
Ганс. Как насчет винца? На мне не выгадаешь, старый жук. Я свои двадцать гульденов отгуляю сполна. Надо отметить, все-таки торжественный день. Верно говорю?
Лука. Верно, торжественный.
Вайнанд. Простите, не уследил. Пожалуйста… (Наполняет стакан Ганса.)
Ганс(примирительным тоном). Ничего, ладно. Вообще-то вы, монахи, народ аккуратный: все-то вы видите, все-то слышите. Лучше скажи, что ты думаешь о брате Мартине. Вайнанд. Он хороший, богобоязненный монах.
Ганс. Да, да, вы же тут боитесь перехвалить друг друга. У вас тоже вроде артели. А скажи-ка, брат: вот в вашем монастыре или в каком еще, в вашей артели может слабый работник всех пересилить?
Вайнанд. Нет, думаю, так не бывает.
Ганс. …А может — поверь, я без задней мысли, просто интересуюсь, — может один плохой монах, настоящее чудовище, какой-нибудь поганец, если, конечно, ему дать волю, может он настолько загадить доброе имя своего ордена, что придется со временем — как это говорят? — ликвидировать орден? Ликвидировать, а? Ты человек образованный, знаешь латынь, греческий, древнееврейский…
Вайнанд. К сожалению, только латынь и совсем немного греческий.
Ганс (он завел об этом речь нарочно, чтобы чуть похвастаться.) Правда? Мартин знает латынь и греческий, а сейчас, говорят, по уши залез в древнееврейский.
Вайнанд. У Мартина светлая голова. Не у всех его способности.
Ганс. Ну, все равно, какое будет твое мнение?
Вайнанд. Мое мнение таково, что церковь сильнее своих верующих.
Ганс. Само собой, но разве не могут ее пошатнуть, скажем, несколько человек?
Вайнанд. Многие пытались, но церковь стоит. И потом, у человека слабый голос, а мир велик. Церковь же обнимает весь мир и всюду слышна.
Ганс. Ладно, а что ты скажешь об Эразме?
Вайнанд(держится спокойно и вежливо, поскольку уверен, что Ганс ровным счетом ничего не знает об Эразме). Что?
Ганс. Об Эразме. (Старается удержать инициативу.) Вот о нем ты что думаешь?
Вайнанд. Эразм, бесспорно, большой ученый, его уважают повсюду в Европе.
Ганс(раздраженный, что его берутся поучать.) Я знаю, знаю, кто он есть, без твоей помощи знаю. Ты на вопрос отвечай: что ты о нем думаешь?
Вайнанд. Что думаю?
Ганс. Ну, с вами говорить, что воду решетом мерить. Критикует он церковь, правду люди говорят?
Вайнанд. Он ученый, и по-настоящему его критику могут разобрать только ученые.
Лука. Не вступайте вы с ним в спор. Он обо всем готов спорить, особенно когда ничего не смыслит в деле.
Ганс. Я знаю, что говорю, я спросил простую вещь…
Лука. В такой день мог бы обойтись без вопросов. Ты только подумай, Ганс…
Ганс. А я что делаю? Распустил слюни, как баба.
Лука. Такое бывает однажды. Как свадьба.
Ганс. Или похороны. Кстати, где наш покойник? Где брат Мартин?
Вайнанд. Должно быть, у себя в келье.
Ганс. Что же он там делает?
Вайнанд. Ничего, просто немного взволнован.
Ганс(оживившись). Вон как! Взволнован! Чем это он, интересно, взволнован?
Вайнанд. Первая литургия может глубоко потрясти впечатлительную натуру.
Ганс. Это хлеб-то и вино?
Вайнанд. Да, и еще многое другое.
Лука. Воистину! Как тут за всем уследить — не представляю.
Ганс. А мне показалось, он не вполне совладал. Он хоть знает, что мы еще здесь? Ему сказали, что его все ждут?
Вайнанд. Он придет, скоро придет. Отведайте еще нашего вина. Он хотел немного побыть один.
Ганс. Так сколько уже времени прошло!
Лука. А может, мальчик немного волнуется, что увидит тебя?
Ганс. Чего ему волноваться?
Лука. Все-таки три года не виделись…
Ганс. Я-то его уже видел. Это он меня не видел.
Входит Мартин.
Лука. Вот и он. А мы забеспокоились, что с тобой. Иди сюда, садись. Мы тут с твоим батюшкой опустошаем монастырские погреба. Не привык я, знаешь ли, спозаранок.
Ганс. За других не говори, пугало огородное! Мы еще и не начинали, верно?
Лука. Как ты себя чувствуешь, сынок? Очень ты бледный.
Ганс. Краше в гроб кладут. «Брат Мартин». Тебе бы братом Лазарем называться!
Смеется, и вместе с ним шутке улыбается Мартин. Оба держатся настороженно, стараются нащупать безопасную почву.
Мартин. Нет, мне хорошо. Спасибо, Лука.
Ганс. Тошнило, что ли?
Мартин. Сейчас лучше. Спасибо, отец.
Ганс(безжалостно). Живот расстроил, не иначе. Постился, видать, много. (Скрывая участие.) На живую смерть похож.
Лука. Выпей немного вина. Бели немного, наверное, можно? Тебе станет легче.
Ганс. Этот мутный взгляд я знаю. Нагляделся. Очень рвало?
Лука. Да ну, он уже лучше выглядит. Глоток вина, и опять будет румяненький. Как, тебе получше, сынок?
Мартин. Да. А как вы…
Лука. Ну вот и хорошо. Видите, он уже здоров.
Ганс. Всю келью, должно, заблевал. (Вайнанду.) Убирать за собой сам будет?.
Лука. Неужто было так плохо? Бедняга! И еще переживал, что мы его ждем!
Ганс. Потому что матери тут нет — выгребать за ним.
Мартин. Я управился сам. А как ваши дела, отец?
Ганс(слышит вызов, но решает не сдаваться). Мои дела? Дела у меня в порядке. Вон и Лука скажет. Ничего меня не берет. Твой старик еще держится. А иначе нам нельзя — что мне, что Луке. Чуть сдашь — сразу на лопатки уложат, или на колени ткнут, или еще как. А уж если на лопатках — пиши пропало, спета твоя песенка. Как же это можно, тогда всему конец. Так что держись до последнего. Живешь, понимаешь ли, — так живи!
Мартин. Я не всегда понимаю, что люди хотят этим сказать.
Лука. Мартин, твой отец пошел в гору. У него доля в товариществе, и теперь он в известном смысле работает на самого себя. Сейчас все так делают.
Мартин(Гансу). Очень хорошо.
Ганс. Получать денежки хорошо, только ломать за них спину — не очень.
Мартин. Как мать?
Ганс. Скрипит помаленьку. Всю жизнь работа, дети — понятно, устала. (Скрывая замешательство.) Ты прости, что она но приехала, все же не ближний свет. Велела передать привет. Да, и еще пирог. Но мне сказали (указывает на Вайнанда), что отдать нужно не тебе, а настоятелю.
Мартин. С подарками такой порядок, отец. Ты просто забыл.
Ганс. Хоть кусочек-то тебе перепадет? Мать так тряслась над пирогом, и еще дочка Луки посылает тебе привет.
Мартин. Правда? Как она?
Ганс. Лука, подтверди, что она просила передать привет Мартину.
Лука. О да, она часто вспоминает тебя, Мартин. Даже теперь. Она ведь вышла замуж.
Мартин. Я не знал.
Лука. Да, и уже двое детей, мальчик и девочка.
Ганс. Вот, вот: двое в окне выставлены, а теперь уж и третий лезет из-под прилавка. Верно, Лука?
Лука. Из нее хорошая мать получилась.
Ганс. Самое милое дело. Так только и можно насолить окаянному, когда он явится по твою душу, — выставляй ему ребят! Если ребята получаются и нет чумы, выпускай их из-под приладка на беса! На-ка, выкуси! И опять же для себя делаешь дело на всю жизнь и на веки вечные. Аминь. (Пауза.) Ну, угощай, брат Мартин, а то гости заскучали. Вон, у Луки стакан пустой, как матка у монахини. Сухо в глотке-то, старый пень?
Мартин. Сейчас, сейчас, простите меня.
Ганс. Вот так, и старика отца не забудь. (Пауза.) Жалко все-таки, что мать не выбралась приехать. Веселого здесь мало, хотя посмотреть, как сын совершает святую службу, старухе, наверно, было бы приятно. Погоди, а разве после обряда мать не должна плясать с сыном? Вроде Христос плясал с матерью? Что-то не представляю, как бы наша мать справилась. Небось, думаешь, я вместо нее пройдусь?
Мартин. Этого совсем не нужно, отец.
Ганс. Ведь это вроде как девку замуж выдают, точно?
Мартин. Пожалуй, так.
До этой минуты они избегали прямого контакта, но теперь взглядывают друг на друга и понемногу сбрасывают напряжение.
Ганс(осмелев). Нет, вы только посмотрите! Он же совсем как женщина в этой хламиде!
Мартин(растроганно). Какая уж там женщина, отец.
Ганс. Что ты понимаешь в этом деле? (Коротко рассмеявшись.) Эх, брат Мартин…
Мартин. Да? (Пауза.) Ты пробовал рыбу? А мясо? Возьми, тебе понравится.
Ганс. Брат Мартин. Да, брат Мартин, у алтаря тебе пришлось попотеть. Верно? Я бы не хотел быть в твоей шкуре. Эти твои — они же каждое слово караулят, каждый шаг, все ждут, где промахнешься. Я сам глаз не мог отвести. В одном месте нам почудилось, что ты того и гляди сорвешься, правда, Лука?
Лука. Да, были тревожные моменты.
Ганс. Тревожные, аж дух захватывало. Сижу и думаю: «Сорвется, испортит им всю обедню». В каком это месте ты запнулся и брат…
Мартин. Вайнанд.
Ганс. Да, Вайнанд подоспел тебе на помощь? Один раз он тебя просто на руках вынес.
Мартин. Было.
Вайнанд. С молодыми священниками это часто случается на первой литургии.
Ганс. Будто начисто забыл, что сегодня — рождество или простая среда. Нам почудилось, что всю вашу работу заклинило. Ждем, а ничего не дождемся. Где это было-то, Мартин?
Мартин. Не помню.
Ганс. Не помнишь, где застрял?
Мартин(скороговоркой). «Прими, святый отче, вечный и всемогущий господи боже наш, незапятнанную эту гостию, которую я, твой недостойный раб, предлагаю тебе моих ради неисчислимых грехов и ради всех присутствующих здесь и всех верующих христиан, живых и мертвых, дабы способствовать им обрести спасение и жизнь вечную». Я ушел в монастырь, чтобы открыто говорить с богом, без помех, от своего имени, а когда дошло до дела — все слова растерял. Со мной всегда так.
Лука. Ничего, Мартин, с кем не бывает?..
Мартин. Спасибо брату Вайнанду. Отец, почему тебе так не нравится, что я здесь?
Прямой вопрос раздражает Ганса.
Ганс. Не нравится? Что ты мелешь? Ничего подобного.
Мартин. Если можно, скажи прямо, отец. Так лучше.
Ганс. Ты не знаешь, что говоришь, брат Мартин, сам не знаешь, что говоришь. Слишком трезвый, вот в чем беда.
Мартин. Только не говори, что я мог стать адвокатом.
Ганс. А что ж, и мог. Мог устроиться даже лучше. Бургомистром мог стать, судьей, канцлером — да хоть кем! Э, что там! Не хочу и говорить об этом. Что тебе приспичило спрашивать? Все равно перед чужими людьми я не стану говорить.
Мартин. Противно тебя слушать.
Ганс. Да что ты? Ну, спасибо, брат Мартин. Уважил, что правду сказал.
Мартин. При чем здесь правда? Это совсем не то. Ты много пьешь, а я…
Ганс. Много пью! Эту монастырскую мочу я готов пить до конца света, когда Гавриил протрубит, а его трубу мы сразу после дождичка в четверг услышим, так что много я и не выпью. (Пауза. Пьет.) В причастии у вас это вино? Это? Скажите прямо: это вино? (Мартину.) Выпей-ка.
Мартин берет стакан, пьет.
Знаешь пословицу?
Мартин. Нет, а какую?
Ганс. Сейчас скажу: ты есть хлеб, ты есть вино — вместе будем троица.
Пауза.
Мартин. Не обижайтесь на отца. Он очень набожный человек, правда.
Несколько братьев встают из-за стола.
Мартин(Луке). Брат Вайнанд покажет вам монастырь, если, конечно, вы кончили.
Лука. О, я с удовольствием. Конечно, кончил, спасибо. Пойдемте, брат Вайнанд. Я зайду за тобой, Ганс. Ты ведь здесь останешься?
Ганс. Как хочешь.
Лука(Мартину). Ты уже выглядишь лучше, сынок. До свидания, мой мальчик. Я еде увижу тебя перед отъездом?
Мартин. Конечно.
Все уходят. Остаются Мартин и Ганс. Пауза.
Ганс. Мартин, я не хотел тебя подводить.
Мартин. Я сам виноват.
Ганс. И еще перед людьми.
Мартин. Не надо было тебя спрашивать. Мы столько не виделись, я просто растерялся от неожиданности. Я ведь целыми днями молчу — только служба, да еще пение люблю, это ты знаешь, а отвести душу, кроме духовника, не с кем. Я почти забыл свой голос.
Ганс. Скажи, сын, почему ты напутал в литургии?
Мартин. Ты огорчен?
Ганс. Просто хочу знать. Мартин, я человек простой, наукам не обучен, но какая-никакая голова есть на плечах. А ты человек ученый, латынь знаешь, греческий, древнееврейский. В тебе сызмала развивали память. Такие люди просто так слов не забывают.
Мартин. Не знаю, что на меня нашло. Я поднял глаза на святые дары и словно впервые услышал, какие произношу слова, и они (пауза) перевернули мне всю жизнь.
Ганс. Не знаю, не знаю. Может, отец с матерью не правы, а прав один бог. Наверно, так. Видно, тебе на роду было написано стать монахом. Вот и весь ответ, пожалуй.
Мартин. Но ты сам так не думаешь, да?
Ганс. Да, не думаю.
Мартин. Тогда объясни мне.
Ганс. Пожалуйста, коли есть охота слушать. Я думаю, что такая жизнь хуже смертоубийства.
Мартин(сразу занимая оборонительную позицию). Я духовное лицо. Я никого не убиваю, только себя.
Ганс. А какая разница? Мне страх на это смотреть. Если хочешь знать, я и мать-то сюда поэтому не взял.
Мартин. У меня одна мать — Евангелие.
Ганс(торжествующе). Раз ты читал Евангелие, ты должен помнить, что там написано: «Почитай отца твоего и мать».
Мартин. Ты меня не понял, потому что не хочешь понимать.
Ганс. Хороший у нас разговор, духовный, только это пустой разговор, Мартин. Пустой, потому что, сколько ни старайся, из своей шкуры не выпрыгнешь. В ней ты родился, в ней и помирать будешь. И от тела отца-матери не оторвешься. Живые люди, Мартин, на всю жизнь друг с дружкой связаны. Ты такой же, как все. Тебе мерещится, что ты всем обязан одному себе, что ты сам себя сотворил. А ведь ты рожден женщиной от мужчины.
Мартин. Церкви, короли, отцы — зачем они так много просят? Зачем берут больше, чем заслуживают?
Ганс. Вот вам! А я все-таки думаю, что заслужил больше, чем ты мне дал.
Мартин. Дал! Я ничего тебе не должен! Я есть — вот моя единственная расплата. Ты этим вознагражден сполна, больше с меня брать нечего, никакой отец не может рассчитывать на большее. Вот ты хотел, чтобы я выучил латынь, стал магистром, юристом, и все затем, чтобы оправдать себя. Ну, а я не могу и, главное, не хочу. Я самого себя не умею оправдать. И хватит разговоров о том, что я смог бы сделать для тебя. Я сделал для тебя все, что в моих силах: я живу и жду смерти.
Ганс. Что ты меня все попрекаешь?
Мартин. Я тебя не попрекаю. Но и благодарить особенно не за что.
Ганс. Слушай, я, например, человек не так чтобы очень правильный, но я верю в бога и в Иисуса Христа, его сына, церковь обо мне печется, к свою жизнь я умею так устроить, чтобы иметь от нее какую-то радость. Какую радость получаешь ты? Ты еще из университета, помнится, писал, что один Христос может наполнить светом твое обиталище. Но какой смысл, какой в этом смысл, если ты забился в конуру? Может, тогда лучше совсем ослепнуть?
Мартин. Нет, я хочу видеть.
Ганс. Да на что тут смотреть-то?
Мартин. Ты очень расстроен, я вижу.
Ганс. А почему я расстроен? Молодой человек, ученый, полный сил — мой сын! — и пожалуйста, позорит свою молодость страхом и смирением! Ты решил, что здесь тебя к чему-то готовят, а на самом деле ты просто спрятался, сбежал.
Мартин. Раз тут так спокойно, почему же остальной мир не стучит в наши врата, не просится к нам?
Ганс. Потому что людям еще не надоело жить.
Мартин. Так. А я, выходит, отрекся от жизни?
Ганс. Именно отрекся. Голова у меня болит после этой поповской мочи.
Мартин. Чем богаты…
Ганс. Верно, свое богатство чужому не впрок.
Мартин. Наверно, отцы и сыновья всегда огорчают друг друга.
Ганс. Я для тебя работал, терпел нужду…
Мартин. Ну и что?
Ганс. «Ну и что!» (Почти тревожно.) Если я и колотил тебя частенько, и, может, больно иногда колотил, то ведь не больше тебе попадало, чем другим ребятам, а?
Мартин. Конечно, нет.
Ганс. Знаешь, что тебя отличает от других? Упрямство твое. Все люди как люди, а ты упрямый, всегда насупротив идешь.
Мартин. Ты тоже доставлял мне огорчения, и чуть не всегда, но этим, пожалуй, я тоже не отличался от других ребят. Зато никто так не любил своего отца. Ты был нужен мне постоянно. Ни от кого больше я не хотел любви. Я хотел достаться одному тебе. Смешно сказать, но еще сильнее меня огорчала мать, и я любил ее меньше, гораздо меньше. Она пробила брешь, которую никто не мог Заполнить, и сама же разводила ее шире, шире — больно вспоминать…
Ганс. Я что-то ничего не понимаю. Право слово, не понимаю. Лучше я пойду, Мартин. Наверно, так будет лучше. И потом, у тебя тут дела…
Мартин. Был случай, когда я украл орех, и твоя жена выпорола меня. Ах, как я это помню! Она била меня до крови, я еще очень удивился, когда увидел на своих пальцах кровь. Да, точно, за украденный орех. Не это обидно. К побоям моя спина привыкла. Но когда меня били раньше, это была какая-то далекая боль, словно не мне одному доставалось. А в этот раз впервые боль была моя и ничья другая, она жгла только мое тело, и к моим коленям тянула подбородок.
Ганс. Знаешь, Мартин, мне кажется, ты всегда был какой-то пуганый, ну, прямо сызмала. Всего на свете боялся. Просто потому, что тебе нравилось всего бояться. Право слово! Вот как в тот день, когда ты возвращался домой из Эрфурта: гром ударил — так ты чуть в штаны не напустил. Повалился наземь, стал звать святую Анну. Молнию принял за видение.
Мартин. А это и было видение.
Ганс. Просил ее заступиться и спасти тебя, обещал за это стать монахом.
Мартин. Да, мне было видение.
Ганс. Видение? Значит, все-таки святая Анна? Тогда зачем мать с отцом винить в своем постриге?
Мартин. Наверное, так было правильно.
Ганс. Нет, будет правильно, когда ты немного задумаешься об этом небесном видении, что соблазнило тебя на монастырь.
Мартин. Как это?
Ганс. А очень просто: надеюсь, что это и впрямь было видение, а не уловки и соблазны сатаны. Право, надеюсь, потому что думать иначе очень тяжело. (Пауза.) До свидания, сын. Жалко, что мы повздорили. Не нужно бы в такой день.
Пауза.
Мартин. Почему ты дал согласие, отец?
Ганс. Это на твой постриг?
Мартин. Да, ты же мог отказаться.
Ганс. Ну, видишь ли… Когда твои братья умерли от чумы…
Мартин. Ты что же, и меня тогда списал в мертвые?
Ганс. Прощай, сын. Вот, выпей-ка святого вина. (Уходит.)
Мартин держит в руке стакан, смотрит в него, потом медленно, словно впервые пробуя, пьет вино, Садится к столу, стакан ставит перед собой.
Произведения
Критика