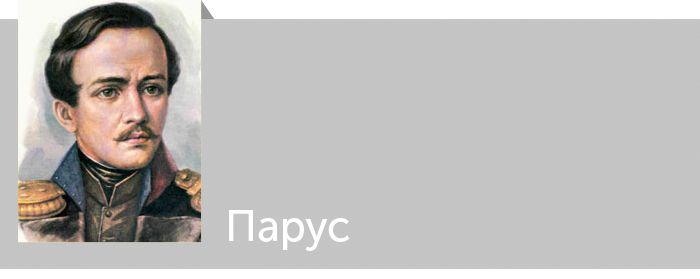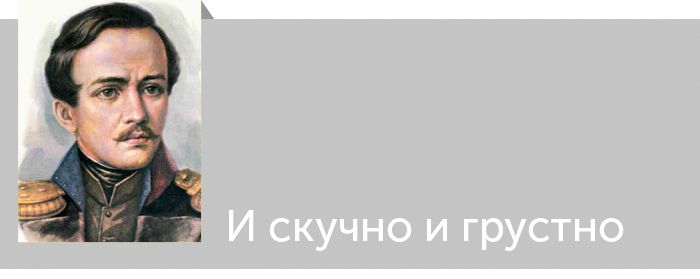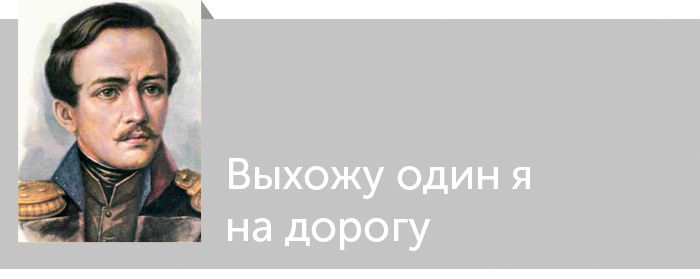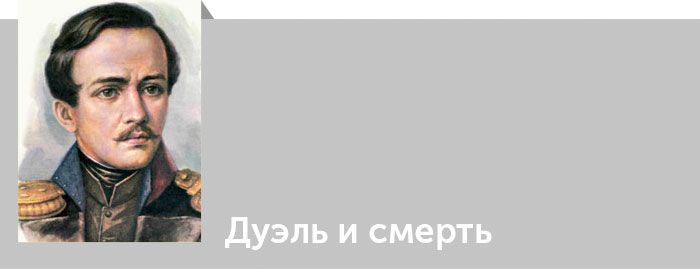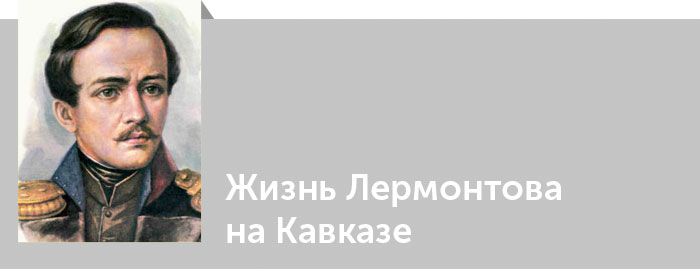Мир символов, пророчества и грез из цикла «Этюды о Лермонтове»

И.П. ЩЕБЛЫКИН
Лермонтов «предвидел», к примеру, свой скорый конец, свою гибель. Для доказательства обычно ссылаются на следующие строки Лермонтова, написанные в 1831 году.
Кровавая меня могила ждет,
Могила без молитв и без креста.
На диком берегу ревущих вод
И под туманным небом; пустота...
Вспоминаются и такие слова, также относящиеся к 1831 году:
Ни друг, ни брат прощальными устами
Не поцелуют здесь моих ланит;
И сожаленью чуждыми руками
В сырую землю буду я зарыт. (1, 170)
Спору нет, в процитированных строчках поразительно верно угадана поэтом ситуация собственной гибели: его действительно ожидала «кровавая» могила, то есть насильственная преждевременная смерть «на диком берегу» — иначе — вдали от родных мест, у подножья Машука, в 1841 году еще не очень «обжитого». И опущен он в могилу «чуждыми» руками, то есть в отсутствие бабушки, до которой было далеко, и, к сожалению, без «молитв», без отпевания, так как пятигорский священник Эрастов отказался это сделать, ссылаясь на запрет отпевать души погибших на дуэли.
Много тут можно бы еще вспомнить, в том числе и такое предвидение:
Я раньше начал, кончу рано,
Мой ум немного совершит... (1, 270)
И все-таки мне кажется, что во всех этих поразительных предчувствиях надо видеть проявление некой мистической силы, которой будто бы наделен Лермонтов.
Посмотрим, как она обнаружила себя в зарисовках и выводах поэта. Возьмем прежде всего случаи, где Лермонтов предрек свою раннюю, притом «кровавую» смерть. Анализ стихотворных произведений убеждает в том, что эти предчувствия приходятся в основном на 1830-1832 годы. Но и позже, создавая в 1837-1839 годах роман «Герой нашего времени», Лермонтов с точностью до указания места, рода оружия и даже причины дуэли опишет все, что произойдет именно с ним на Кавказе в 1841 году, с той лишь разницей, что в реальной действительности будет убит не Грушницкий (Мартынов), а Печорин (Лермонтов).
Простым совпадением этого не объяснишь. Все дело здесь в истинности воспроизведения, в силе концентрации тех обстоятельств жизни, которые были враждебны Лермонтову как обладателю, носителю гениального таланта. И в самом деле, с одной стороны, глубокая страсть, готовность ради утверждения прекрасной любви «весь мир на битву звать», уподобление своей души «храму» для возлюбленной, а с другой — «коварная измена», всеобщее вероломство («людей известно вероломство»), масса лиц, для которых «ничтожество» есть благо и которые «счастливы в пыли». Диссонанс добра и злобы, великодушия и эгоизма, искренности и тайного расчета, честности и торжествующего лицемерия ясно указывал на исход противоречий. Их оставалось только воплотить в видимой, образной картине, что и сделал Лермонтов в известных нам уже зарисовках.
Что же касается «несовпадения» концовки дуэли Печорина с Грушницким с дуэлью Лермонтова и Мартынова, то и тут есть свои причины, лучше сказать — объяснение причин. Лермонтов не мог изобразить своего героя (как впоследствии и себя представить в такой роли) человеком, покорно подчиняющимся немилостивой судьбе, «обстоятельствам». Жизненным девизом Лермонтова была борьба с пошлостью и препятствиями, этому верен и Печорин. Идя наперекор -судьбе-, полагаясь на свою «волю», он часто выходил (во всяком случае, этого хотелось самому Лермонтову) победителем. В реальных ситуациях, однако, существуют и возможны разные варианты. Лермонтову достался не лучший жребий. И это понятно; его идеал был противоположен действительности, слишком высок, чтобы восторжествовать в мире, не избавленном от засилия порочности. Ранняя смерть поэта (но не сдача позиций!) была неизбежна:
За дело общее, быть может, я паду,
Иль жизнь в изгнании бесплодно проведу;
Иль, может, клеветой лукавой пораженный,
Пред миром и тобой врагами униженный,
Я не снесу сплетаемый венец
И сам себе сыщу безвременный конец.
Это — как бы «перевод» из текстов французского поэта А. Шенье. Но у Шенье такого стихотворения нет. Следовательно, слегка отталкиваясь от мотивов другого поэта, Лермонтов сконструировал» свою собственную судьбу, и, как видим, во многом верно.
Значительно сложнее обстоит дело с предварениями Лермонтова в сфере общественной, исторической. Вчитаемся в строчки поэта:
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь:
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел.
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный град терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узреешь - и поймешь.
Зачем в его руке, булатный нож…
Как видим, рисуя год, когда «царей корона упадет», Лермонтов именует его «черным годом» России. Никакой «радости» от своего предсказания поэт испытывать не мог, и она не ощущается ни в одной строчке. Далее. Время «падения короны» Лермонтов рассматривает как время ужасного и страшного по своим последствиям беспорядка (хаоса) ввиду беспомощности «низвергнутого закона. Наступит голод, одичание «черни», безмерными будут страдания детей и жен невинных. Нет, эта картина не похожа на прославление будущей «революции» с ее победными и «благодатными» итогами для народа, Скорее — наоборот: если Лермонтов и имел в виду стихийное восстание масс, то восторга по этому поводу он, как мы видим, не испытал. Значит, нечего было и нам записывать его в ряды сторонников народного возмущения. И не о народном возмездии говорится в его стихотворении, а о возмездии судьбы. Это она, «черная Немезида» (богиня мщения) выстраивает последовательную цепь «наказаний»: потеря уважения к власти («царей корона упадет») ведет к разрушению порядка, «закона».
«Низвергнутый» закон не в состоянии предотвратить хаос. Владычицей страны становится «чума», которая в поэтической системе символов Лермонтова олицетворяет, как я думаю, не только «смерть», но и разгул анархического своеволия, соблазн «свободою обитателей «хижин». Не отсюда ли: «чтобы платком (?? — И.Щ.) из хижин вызывать»? Кого вызывать, зачем? Видимо, «чернь», посулив ей нечто, дабы превратить ее потом в мясо для червей. Одним словом, жуткая картина, олицетворяющая сокрушение всего и вся...
Возникает вопрос, в чем смысл такого пророчества и в какой мере оно сбылось на нашей российской земле? Сбылось, очень многое сбылось, если иметь в виду всю совокупность событий, разразившихся у нас, начиная с конца XIX века. И «глад и «мор», и горечь бессмысленных метаний, соблазн «свободами» и, наконец, «хаос» — все это мы пережили и все еще переживаем. Так что Лермонтов здесь действительно как в воду глядел.
Однако есть, вероятно, и причины такого страшного наказания. Определенного ответа на данный вопрос в тексте лермонтовского стихотворения мы не найдем. Но его можно угадать, если учесть эволюцию лермонтовских настроений в начале 30-х годов.
Известно, что в эти годы поэт остро переживал (из-за неудачи в любви, противоречий общественной жизни) крушение своих надежд на счастье, утрату перспектив на гармоническое и деятельное развитие. Мир ужаснул его безнравственностью, господством зла едва ли не во всех сферах жизни. Поэту открылась правда, подобная бездне, принять которую было нелегко:
В одном все чисто, а в другом все зло.
Лишь в человеке встретиться могло
Выход из этих мучений возможен только как преобладание одной стихии над другой. Но мало, мало было надежд у юного, максималистски настроенного поэта на победу «священного» в современном ему человеке. Отсюда и «недобрые» пророчества, предвосхищение гибели огромной страны, какой была дворянская Россия, предвосхищение неотвратимого, поистине апокалипсического крушения.
Как теперь понятно, поэт не ошибся: крушение произошло, возмездие свершилось, виноваты в этом все (такой подтекст содержится в стихотворении Лермонтова), начиная от «короны» и кончая «чернью», простыми смертными. Что делать! — у каждой нации, у каждого народа есть свой долг и ответственность за собственное благополучие. Народы, забывающие об этом или теряющие по каким-либо причинам все это (как было у нас), ввергаются в хаос и разрушение, что и следует рассматривать как возмездие, ниспосланное для искупления "вины", в первую очередь нравственной. Такое объективный смысл провидческой символики "Предсказания» Лермонтова.
Остается добавить еще, что вершителем "Суда» у Лермонтова выступает не народ, не «чернь» (с ее буйства, "непочтения» к «короне» лишь начинается крушение порядка), а некий «мощный человек», в руках у которого "булатный нож», во взоре беспощадность, Это романтический, условный образ. Но мы ясно понимаем, что он олицетворяет расплату, «возмездие» всем и каждому, в ком «зло» возобладало над правдою. И туг Лермонтов не ошибался. Зло (как это мы знаем из многих примеров) само порождает своего «мстителя» и кару.
У Лермонтова были и другие прозрения, Например, он знал, что его гений «века пролетит», то есть получит признание, несмотря на раннюю смерть, и долго будет почитаем. Что «европейский мир» ослабнет, «измученный в борьбе сомнений и страстей», что «без веры и надежд» он станет «игралищем детей», то есть ареной бесконечных политических манипуляций, разрушающих стабильность, прочность существования («Умирающий гладиатор»). Всему этому мы являемся непосредственными свидетелями, несмотря на кажущееся «процветание» Запада. Процветание это иллюзорно и конвульсивно, притом оно касается только материальной стороны дела. В действительности Запад переживает, как и мы, глубокую драму, кризис, в первую очередь — кризис идей, духа. Этого не скрывают теперь многие европейские мыслители.
Наконец, Лермонтов предвидел и безжалостное «шествие» «прогресса», технической цивилизации («Спор») во вред «естественной» свободе человека, а часто и его нравственности. Во всех этих случаях Лермонтов выступает как глубокий аналитик противоречивого развития общества.
Но уместно спросить; были ли у Лермонтова «светлые» предсказания, то есть вера в лучшее? И угадывал ли он (коль скоро мы признаем за ним способность реального провидения) возможные пути человеческого обновления? Несомненно, угадывал... Однако надо иметь в виду, что Лермонтов не политик, не экономист, не историк. Он — поэт! И все, о чем мечтал, что выразил в качестве оздоровляющих начал человеческого существования, выразил в образах, так сказать, в мире поэтических грез. Почему «грез», а не каких-то конкретных рекомендаций? Да потому, что истинный идеал, как справедливо заметил В.Г. Белинский, это не выдумка, не мечты, и «...не список с действительности, а угаданная умом и воспроизведенная фантазиею возможность того или иного явления».
Возможность иной действительности, то есть идеал, у каждого писателя, если только он тяготеет к этому, воплощается по-разному. У Лермонтова такая действительность (правда, не часто] находила (и могла найти) свое отражение только в грезах. Это объясняется его максимализмом и романтическим (по преимуществу) пафосом творчества, тем, что мысли и чувства поэта, как правило, воплощались в образах с повышенной экспрессией, в неповторимо индивидуальной и в то же время красочной языковой форме. Вот почему все ценное, положительное, что может быть в человеческой жизни, дано у Лермонтова чаще в изображении «сна», «мечты», фантастических «грез», «воспоминаний».
Н. Огарев, соратник А.И. Герцена, верно подмечал, что Лермонтов «ищет своего идеала вне действительности, противоположного ей». Однако критик был не прав, когда все это объяснял нарочитым уходом, чуть ли не бегством от действительности. На самом деле лермонтовское «вне» объясняется отсутствием в самой действительности нужных «материалов» для воплощения мечты о совершенстве человеческого бытия. Отсюда все эти дивные «грезы» поэта, так не похожие на действительность, но тем не менее «возбуждающие» нас, зовущие в мир истинной гармонии и красоты.
Что же нужно для достижения «гармонии» в человеческой жизни, куда звал, какие дороги «пророчил» Лермонтов, уповая на необходимость совершенствования общественного бытия?
Прежде всего Лермонтов предсказал невозможность оздоровления человека без органической (глубинной) его связи с природой, Лишь осознание себя «частью» природы может дать «успокоение», а главное — умерить эгоистические, порою агрессивные инстинкты человека, которые сами по себе уже есть безнравственность. Вот почему, «когда волнуется желтеющая нива», и «свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду малиновая слива», когда «студеный ключ играет по оврагу», мысль поэта погружается «в какой-то смутный сон». Душа его при этом испытывает отраду, возникает даже греза «о мирном» отдаленном крае:
Тогда смиряется души моей тревога, Тогда расходятся морщины на челе. — И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу Бога.
Но почему, собственно, «включенность» в природу дает человеку, по Лермонтову, сильнейшую основу для совершенствования? Как видно из процитированных строк, отношения человека с природой (когда мы осознаем себя не покорителем, а частью ее) — это духовные отношения. Такие отношения действительно могут вывести человека на путь истинного радения не только о себе, но и о других. Лермонтов здесь абсолютно прав. Отдаленность человека от природы в духовном смысле прямо пропорциональна наращению в нем агрессии и индивидуализма. Лермонтов же показывает и «предсказывает» самую светлую дорогу человечеству: найти, наконец, общий и вечный «язык» с природой. В этом наше спасение!
Вместе с тем поэт прекрасно осознавал трудности коренной переориентации в отношениях человека и природы, как, впрочем, и в отношениях друг к другу, то есть в мире общественном.
Трудности эти состоят в том, что человек в каждодневной деятельности часто исходит из принципа отрицания, а не утверждения.
Правда, случилось у Лермонтова это не сразу, а в последние годы жизни. Но тем не менее он ушел из мира земного именно с таким убеждением, о чем свидетельствует поэма «Демон».
Демон возжелал мира («хочу я с небом примириться»), блага и любви («хочу любить, хочу молиться, хочу я веровать добру»). Однако остался при этом гордой и самовластной личностью, все подчиняющей своей воле («...люби меня!» — обращается он к Тамаре, едва ли не приказывая ей уступить напору страстных чувств). Конец известен: едва лишь прикоснулся Демон к трепещущим устам Тамары — как тотчас же последовала смерть несчастной. И это понятно: ведь Демон, в сущности, поглощенный отрицанием, не мог любить в полном смысле слова. В «любви» он не радовался, а торжествовал, то есть испытывал сатанинское чувство личного превосходства, Однако превосходство, основанное на отрицании и злобе, — мнимое. И Демон это почувствовал на себе. Он подчинил Тамару физически, но не смог взять ее душу. Душа Тамары в руках ангела, посланника Господа: «Она страдала и любила — и рай открылся для любви». А Демон — чем он кончает, что ему дало отрицание?
И проклял Демон побежденный
Мечты безумные свои.
И вот, остался он надменный,
Один, как прежде, во вселенной Без упованья и любви!..
Бессмысленно, стало быть, мечтать о благе и добре, оставаясь только на почве отрицания, уповая на всемогущество своей воли. Это как раз и разъясняет («пророчит») Лермонтов человечеству в своей самой колоссальной «грезе», в обобщенном образе зла и отрицания, в образе Демона.
Но как же быть в таком случае с известной похвалой Некрасова, высказанной в адрес Гоголя: «Враждебным словом отрицанья он проповедовал любовь»? Мы ведь принимаем этот тезис, полагая, что он может стать основой плодотворного деяния. Разумеется, отрицание необходимо, оно даже неизбежно, но лишь в том случае, когда направлено на защиту добра, истины. Об этом именно и говорит Некрасов, оттеняя гражданский подвиг писателя, нравственную правомерность его критики, сатиры.
К сожалению, отрицание как исходная точка человеческих усилий может применяться и для достижения корыстных, разрушительных целей. Собственно, в этом и состоит трагическая сторона человеческого развития. Очень часто под видом отрицания и с помощью его утверждаются отношения, прямо противоположные истинному прогрессу, гуманности. Вот почему «генетическим» (живородным) и потому основным принципом человеческого поведения (как в личной, так и общественной жизни) остается все-таки принцип добра, утверждения. Отрицание — лишь момент, фаза в непрерывном движении, целью которого является добро.
Но как же различить отрицание, служащее «добру», и отрицание, которое закрепляет в людских отношениях торжество «зла», первенство порока? Установить такие различия чрезвычайно трудно, тем более с помощью отвлеченных понятий. Однако есть один признак, одно свойство человеческого поведения, которому можно довериться и по которому можно определить изначальную природу «отрицания», Таким признаком является любовь, шире говоря, милосердие, без которого нет блага на земле и нет воли, которая вела бы к добру. Понимаю, что это не простой закон человеческого бытия, особенно если пытаться найти его в общественной, социальной сфере. Но он открылся Лермонтову, был принят им и в какой-то степени «завещан» последующим поколениям. И когда Толстой скажет в романе «Война и мир» устами умирающего Андрея Болконского о том, что «любовь есть жизнь», что «все связано одною ею» и что «любовь есть Бог», то тем самым он повторит Лермонтова, За две недели до гибели поэт высказал свое самое сокровенное желание, из которого ясно следует, чему он поклонялся всю свою жизнь, какое чувство, какой мотив считал спасительным для человечества. Поэт мечтает о том, чтобы «забыться и заснуть». Но именно так, чтобы «в груди дремали жизни силы»:
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел.
«Выхожу один я на дорогу...»
«Сладкий» — значит врачующий, оздоровляющий, возвышающий. Таким свойством обладает только любовь человека к себе подобному. Она-то и «предсказана» Лермонтовым как основной путь достижения «добра» и подавления в себе «злых» инстинктов разрушительного отрицания,
И наконец, еще об одном «предсказании» Лермонтова. Собственно, это и не предсказание как таковое, а условие полнокровного существования и развития личности на земле. Конечно, это любовь. Глубинным источником любви человека к человеку является Бог и Отчизна. Отрыв одного от другого (или противопоставление) разрушительно действует на животворное чувство любви, равно как и на благополучие семейного союза. Лермонтов это, кажется, ясно осознал в конце своей жизни. Смотрите:
С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым.
Смотреть до полночи ютов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
Это — родина, Россия, которую признал, понял и которой поклонился Лермонтов. В ее милых сердцу неброских приметах Лермонтов угадал тайный и всемогущий смысл; родина врачует и ведет, родина собирает нас в единый «организм», который не умирает вместе с нами и, значит, может давать нам силу, тепло, как мать, опору, как отец. Любить родину, значит любить Истину. Сильнее и дороже истины нет ничего на свете, оттого любящий Истину обретает силу; и, значит, любовь есть проводник силы (духовной, нравственной), которая идет от Бога и Отчизны. Так мы приходим к выводу, что нет Бога вне Отчизны и — увы! — нет Отчизны без Бога. Лермонтов это понимал. Вот почему два вершинных его стихотворения (и итоговых) стоят рядом — написаны в 1841 году, последнем году жизни. Это «Родина» и «Выхожу один я на дорогу...».
«Дорога», на которую «вышел» Лермонтов, — дорога родины, она ведет к Богу и Истине. И только она, дорога Отчизны — больше никакая другая! — сможет привести человека к Истине. Это завещал нам, об этом рассказал Лермонтов в своих последних символических картинах.
Источник: Литература в школе. – 2000. - №4. – С. 30-37.