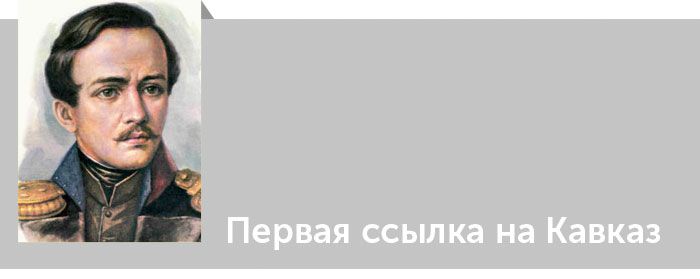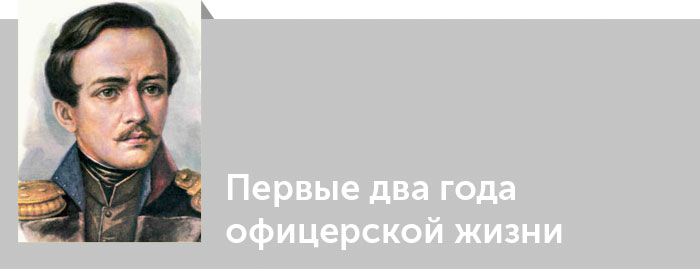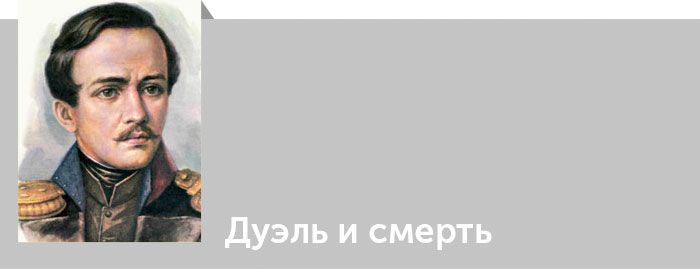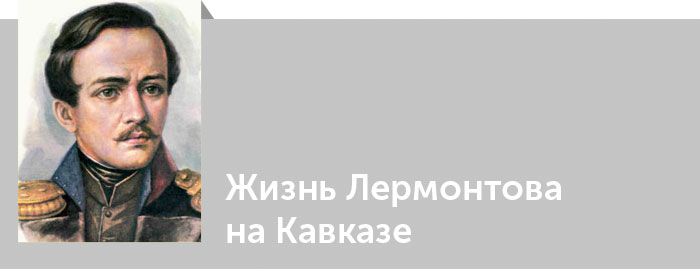Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Возвращение на Кавказ. Жизнь в Пятигорске

9 мая Лермонтов приехал в Ставрополь. На этот раз поэт приехал на Кавказ не с тем настроением, с каким был здесь в 1840 году. Тогда волнения боевой жизни увлекали его, захватывала красота природы Кавказа и своеобразная жизнь кавказских народов; теперь же все его внутренние интересы были связаны с планами широкой литературной работы, которой он хотел отдаться всецело. Лермонтов хотел даже по получении отставки уехать в Тарханы, чтобы писать задуманное. Вот что определяло главным образом настроение Лермонтова и его настойчивое желание выйти в отставку.
В коротеньком письмеце к бабушке из Ставрополя, в котором он извещает ее только о своем приезде на Кавказ, у него вырываются слова, говорящие о главной его думе: «Я все надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощение, и я могу выйти в отставку».
А в письме к С. Н. Карамзиной в то же время пишет: «Пожелайте мне счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что только можно мне пожелать».
Из Ставрополя Лермонтов отправился вместе со Столыпиным в Шуру, в полк, но по дороге изменил свой план и решил ехать в Пятигорск. На одной из почтовых станций по дороге из Ставрополя Лермонтов и Столыпин встретились с ремонтером1 одного из кавказских полков, П. И. Магденко, и, как это обычно бывает в дороге, попутчики быстро познакомились и от крепости Георгиевской путь продолжали вместе, в одной коляске.
«Дорогой и Столыпин и я молчали, — вспоминал Магденко, — Лермонтов говорил почти без умолку и все время был в каком-то возбужденном состоянии. Между прочим, он указывал нам на озеро, кругом которого он джигитовал, а трое черкесов гонялись за ним, но он ускользнул от них на лихом своем карабахском коне.
Говорил Лермонтов и о вопросах, касавшихся общего положения дел в России. Об одном высокопоставленном лице я услыхал от него тогда в первый раз в жизни моей такое жесткое мнение, что оно и теперь еще кажется мне преувеличенным».
Нет никакого сомнения, что «жесткий» отзыв поэта о «высокопоставленном лице» касался Николая Первого, как виновника положения дел в России.
«Промокшие до костей, приехали мы в Пятигорск, — вспоминает далее Магденко, — и вместе остановились на бульваре в гостинице, которую содержал армянин Найтаки. Минут через 20 в мой номер явились Столыпин и Лермонтов, уже переодетыми, в белом как снег белье и халатах. Лермонтов был в шелковом темнозеленом с узорами халате, опоясанный толстым снурком с золотыми жолудями на концах. Потирая руки от удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину:
«Ведь и Мартышка, Мартышка здесь! Я сказал Найтаки, чтобы послали за ним».
Так Лермонтов приятельски называл своего хорошего знакомого, офицера Николая Мартынова, с которым он вместе учился в гвардейской школе.
Это было 13 мая. 14-го утром Лермонтов и Столыпин оформили в комендатуре свое право на лечение в Пятигорске. Плац-майор комендантского управления Чиляев предложил им флигель во дворе, рядом с большим домом, в котором жил он сам и князь Васильчиков из Петербурга.
В три часа дня Лермонтов и Столыпин явились к Чиляеву смотреть квартиру. Флигель небольшой, четыре комнаты и крохотные сени, стоит в углу маленького двора, поросшего травой. Три окна во двор, по другую сторону домика — тенистый сад. Сторона, обращенная в сад на юго-запад, имеет два окна и стеклянную дверь на балкончик.
Усадьба Чиляева находилась на самой крайней, высокой улице, у подножия Машука. Вид открывался во все стороны чудесный. Тогда не было никаких строений до самого Машука.
Пока хозяин и Столыпин вели деловые переговоры по найму флигеля, Лермонтов, обойдя комнаты, остановился на балконе и стал всматриваться в даль. С балкона на горизонте видна была часть снеговой цепи гор с возвышающимся над ними Эльбрусом. Поэта охватили какие-то думы. Когда Столыпин с хозяином вышли к нему на балкон и Столыпин спросил его, как он находит квартиру, Лермонтов как бы очнулся от далеко унесшихся мыслей и торопливо ответил: «Ничего... здесь будет удобно... дай задаток».
Домик был самый простой: крыша камышовая, тонкие бревенчатые стены вымазаны глиной и выбелены, окна все разной величины. Вид квартира имела более чем скромный. Комнаты были обставлены сборной мебелью разной обивки и дерева. Во всех комнатах стояло несколько стульев с высокими спинками и мягкими подушками, обитыми дешевым ситцем.
А в Пятигорске в то время были квартиры, очень хорошо обставленные. Но не таков был поэт, чтобы придавать какое-нибудь значение этому. Вот близость природы ему нужна была прежде всего, и поэтому он взял квартиру под самым Машуком, на окраине города.
Этот простой домик уцелел до наших дней и охраняется, как святыня: в нем поэт провел последние дни жизни и написал свои последние стихотворения. Теперь здесь музей.
Небольшая комната рядом со столовой с широким, вроде итальянского, окном в сад служила поэту и кабинетом и спальней.
По утрам Лермонтов брал ванны, гулял, после завтрака садился работать перед открытым окном своего кабинета; любил сидеть и на балкончике.
У окна его комнаты росла белая акация, которая как раз в то время была вся в цвету. Лермонтов любил иногда ранним утром ездить в степь верхом на своем сером скакуне, которого купил сейчас же по приезде в Пятигорск. Вскоре он купил вторую лошадь — для Столыпина и товарищей.
Еще в «Княжне Мери» Лермонтов словами Печорина говорил о своей любви к быстрой верховой езде: «Я люблю скакать на горячей лошади по высокой траве, против пустынного ветра... Какая бы горесть ни лежала на сердце, какое бы беспокойство ни томило мысль, все в минуту рассеется; на душе станет легко, усталость тела победит тревогу ума».
А в последние дни жизни поэта в Пятигорске поводов для горестей и тревог ума было больше, чем когда-либо.
Дневные часы до обеда Лермонтов отдавал занятиям.
Больше всего его интересовали литературные вопросы. 28 июня Лермонтов писал бабушке: «Напрасно вы мне не послали книгу графини Ростопчиной; пожалуйста, тотчас по получении моего письма пошлите мне ее сюда в Пятигорск. Прошу вас также, милая бабушка, купите мне полное собрание сочинений Жуковского последнего издания и пришлите также сюда тотчас. Я бы просил также полного Шекспира, по-английски, да не знаю, можно ли найти в Петербурге... Только, пожалуйста, поскорее; если это будет скоро, то здесь еще меня застанет».
Вскоре по приезде Лермонтова около него сгруппировалась компания веселой, живой молодежи, которая собралась в Пятигорске не столько для лечения, сколько чтобы отдохнуть и приятно провести время.
Декабрист Н. И. Лорер, который лето 1841 года проводил в Пятигорске, в своих «Записках декабриста» вспоминает: «Гвардейские офицеры, после экспедиции2 нахлынули в Пятигорск, и общество еще более оживилось. Молодежь эта здорова, сильна, весела, как подобает молодежи; вод не пьет, конечно, и широко пользуется свободой после экспедиции...
У Лермонтова я познакомился со многими из них и с удовольствием вспоминаю теперь имена их... Вся эта молодежь чрезвычайно любила декабристов вообще, и мы легко сошлись с ними на короткую ногу».
Кроме Лорера, у Лермонтова часто бывали и другие декабристы, жившие тогда в Пятигорске.
В одном дворе с Лермонтовым, в большом доме Чиляева, кроме князя Васильчикова, приехавшего в Пятигорск по служебной командировке, жил князь С. Трубецкой, участвовавший в Валерикском сражении вместе с Лермонтовым. В соседнем доме жил М. Глебов, раненный в том же сражении, и Мартынов — майор в отставке. Вечера часто проводили вместе.
«Мы, — вспоминает князь Васильчиков, — жили дружно, весело и несколько разгульно, как живется в этом беззаботном возрасте, 20—25 лет». Каждый вечер компания предпринимала какое-нибудь развлечение— пикники, прогулки, кавалькады, вечеринки с пением и танцами.
Чаще всего молодежь собиралась в гостеприимном доме генерала Верзилина. У радушной, хлебосольной хозяйки дома М. И. Верзилиной было три дочери. Старшая, Эмилия Александровна, красивая девушка лет двадцати пяти, впоследствии вышла замуж за А. П. Шан-Гирея. Она в своих воспоминаниях писала о Лермонтове:
«Как сейчас вижу его: среднего роста, коротко остриженный, большие красивые глаза; говорил он приятным грудным голосом; любил повеселиться, посмеяться, поострить, затевал кавалькады, распоряжался на пикниках, дирижировал танцами и сам очень много танцевал. В продолжение последнего месяца перед смертью он бывал у нас ежедневно. Здесь, в этой самой комнате (зал, где произошла ссора с Мартыновым), он любил рассказывать, танцевать, слушать музыку; бывало сестра заиграет на пианино, а он подойдет к ней, опустит голову и сидит неподвижно час, другой. Зато как разойдется да пустится бегать в кошки-мышки, так бывало нет удержу... характера он был неровного, капризного, то услужлив и любезен, то рассеян и невнимателен».
Э. А. Шан-Гирей отметила неровность в настроении Лермонтова. Живая, кипучая натура его требовала деятельности. Сборища, прогулки, развлечения до некоторой степени разнообразили жизнь. Но такое состояние могло только «налетать» на поэта, особенно при посторонних, а обычно наедине с собою он был задумчив. Характерным в этом отношении является свидетельство П. Гвоздева, товарища Лермонтова по гвардейской школе. 8 июля молодежь по инициативе Лермонтова устроила под открытым небом бал около грота Дианы, в Цветнике. После бала, на котором Лермонтов был весел и много танцевал, поздно ночью он встретил на бульваре Гвоздева. Они пошли по бульвару. Гвоздев впоследствии рассказывал: «Ночь была тихая и теплая... Лермонтов был в странном расположении духа — то грустен, то вдруг становился желчным и с сарказмом отзывался о жизни и обо всем, его окружавшем. Между прочим, в разговоре, он сказал: «Чувствую — мне очень мало осталось жить».
Каково было душевное состояние Лермонтова в эти последние дни его жизни?
Что переживал поэт?
Самым верным показателем его дум и чувств являются стихотворения, написанные им в Пятигорске.
Поэт написал здесь несколько стихотворений в книжке, подаренной ему Одоевским: «Дубовый листок...», «Свиданье», «Сон», «Тамара», «Морская царевна», «Утес», «Выхожу один я на дорогу...» и «Пророк».
Все эти стихотворения замечательны и по художественному совершенству, и по глубине содержания, и по тому отражению личности поэта, которое лежит на каждом из них. Все они в этом смысле автобиографичны. Без них мы не имели бы полного представления о Лермонтове.
В стихотворении «Дубовый листок» в образе оторванного от дерева листка, гонимого жестокою бурей до самого Черного моря, поэт-изгнанник выразил свои переживания и размышления под воздействием последних событий его жизни. Образ оторванного, одинокого листка встречался и раньше в поэзии Лермонтова, например в «Мцыри»: к образу мятежного Мцыри поэт применил сравнение «грозой оторванный листок». Но ни в одном стихотворении этот образ не был проникнут такой глубокой, безысходной тоской, вызванной одиночеством, оторванностью от жизни. Страдания поэта даны в таких образах, которые, отражая настроение поэта, рисуют цельную, высокохудожественную картину природы:
Дубовый листок оторвался от ветки родимой
И в степь укатился, жестокою бурей гонимый;
Засох и увял он от холода, зноя и горя;
И вот наконец докатился до Черного моря.
У Черного моря растет чинара, широко раскинув на просторе свои ветви. Листок у нее приюта молит с тоскою глубокой:
...Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных.
Немало я знаю рассказов мудреных и чудных».
Но чинара не приняла пришельца.
Вынужденные путешествия убивали в Лермонтове надежду на свободу и его планы стать ближе к творческой, общественной работе. Они обрекали его на бесконечно долгое одиночество и закабаление на военной службе, а поэту, как и листку, символизирующему судьбу его, нужен был свет и простор, чтобы полнее проявить свои неисчерпаемые творческие силы.
Мысль, выраженную образно, поэтически в «Дубовом листке», Лермонтов высказал просто, прозаически в письме к С. Н. Карамзиной по приезде в Ставрополь: «...признаюсь вам, что я порядком устал от всех этих путешествий, которым, кажется, суждено продлиться вечность». Ясен смысл этих слов: вынужденная оторванность от жизни определила горечь их. А в письме к Е. А. Арсеньевой поэт просит ее разузнать хорошенько, отпустят ли его в отставку, если он подаст, и добавляет: «...а чего мне здесь еще ждать?»
В 1837 году, когда первая ссылка вырвала Лермонтова из среды «душного света», когда он был захвачен новыми впечатлениями, он писал С. А. Раевскому о своих путешествиях по Кавказу: «Ты видишь из этого, что я сделался ужасным бродягой, а, право, я расположен к этому роду жизни». Теперь же, когда новая высылка убивала все его творческие замыслы, вынужденные путешествия, подневольная жизнь безгранично тяготили его. И мы чувствуем, сколько глубокой скорби, им самим переживаемой, вложено поэтом в слова дубового листка:
Один и без цели по свету ношуся давно я...
Мотив «Дубового листка» тесно связан с мотивом стихотворения «Выхожу один я на дорогу...», он объясняет содержание последнего. Стихотворение это всем известно, оно давно вошло в народный обиход как песня, оно поется повсеместно.
Стихотворение «Выхожу один я на дорогу...» по тем переживаниям и думам Лермонтова, отражением которых оно является, глубоко трагическое.
Без этого стихотворения мы не представляли бы всей глубины страданий, до каких его довела преступная самодержавная власть. Перед читателем встает вопрос огромного значения: почему Лермонтов, поэт необъятных сил, при его неустанной жажде борьбы, творческого участия в жизни, ничего от жизни уже не ждет?
Ответить на этот вопрос помогут факты его жизни последнего времени.
Вся жизнь Лермонтова, от юных лет до последних дней, была преисполнена мучений и тоски; чувство постоянной неудовлетворенности вызывали общественные условия русской действительности и невозможность борьбы с ними. Но события последнего года жизни еще более усилили его страдания.
Мы видели, каким был Лермонтов в последний приезд в Петербург. По свидетельству современников (среди них такого, как Белинский), Лермонтов был увлечен творческими планами, общественными и литературными. Для осуществления этих замыслов Лермонтову нужно было освободиться от военной службы, и он рвался к этому всей душой.
Одно время появилась надежда, и Лермонтов был бодр, весел, и со многими из своего окружения он делился своими планами. Но отказ в отставке со стороны близоруких, бездушных людей убил всякую надежду. Уезжал поэт на Кавказ в тяжелом настроении. Желание свободы перешло в неотступную мысль. Для Лермонтова военная служба после того, что он пережил в 40-м году, потеряла смысл, она мешала ему развернуть свои могучие силы. А жестокая самодержавная власть окончательно закабалила рвущегося на свободу поэта.
Лермонтов еще в «Герое нашего времени» писал: «...гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума...»
Гениальный поэт оказался сам прикованным к бессмысленной для него службе и испытывал истинно прометеевские муки. Лермонтов, по свидетельству Герцена, прощаясь перед отъездом на Кавказ, говорил друзьям, что «постарается скорее умереть». А в Пятигорске, когда уже начались против него интриги врагов, он сказал по поводу них приблизительно в те же дни, когда писал стихотворение «Выхожу один я на дорогу...»: «Им жизнь нужна моя, — ну, что же, пусть возьмут не мне жалеть о ней!»
Каждому читателю понятно в последних словах поэта беспредельное страдание и отражение его в стихах:
Что же мне так больно и так трудно?
И дальше:
Я б хотел забыться и заснуть!
Более тяжелого, безысходного состояния, как последнее время в Пятигорске, не было в жизни Лермонтова. И оно было вызвано преступным, позорным злодейством самодержавной власти.
В этом злодействе — начало гибели поэта.
Стихотворение «Выхожу один я на дорогу...» — это глубочайшей искренности исповедь Лермонтова. В ней мы чувствуем человека, не примирившегося с той жизнью, на какую обрекли его, гениального поэта, всесильные враги.
Прекрасно выразил свое непосредственное впечатление от этого стихотворения, впервые прочитав его, такой необычайно чуткий читатель, как уже упомянутый современник поэта, известный художник Федотов: «... эти стихи мог только написать богатырь в минуту скорби неслыханной!»
Последним произведением Лермонтова было стихотворение «Пророк». Тема стихотворения — высокая миссия поэтического призвания и непонимание этого толпой — занимала Лермонтова с самого начала его литературного поэтического поприща. Поэт всю жизнь мучился противоречием между высокими идеями, наполняющими его душу, и темными сторонами жизни, которых он не мог преодолеть одинокой силой:
С тех пор как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья...
Завет предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя...
«Смотрите: вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами:
Глупец, хотел уверить нас.
Что бог гласит его устами!
Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм и худ и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»
Лермонтов в своих произведениях настойчиво высказывал мысль, что поэтическое творчество и служение высоким целям общественной жизни нераздельны, что поэт должен быть вдохновителем и вождем общественной борьбы. Эта идея подсказана Лермонтову всей его деятельной, пламенной натурой поэта-борца. Еще пятнадцатилетним мальчиком, на заре своего поэтического поприща, он это почувствовал и по-детски выразил в стихах:
Я буду петь, пока поется.
Пока, друзья, в груди моей
Еще высоким сердце бьется
И жалость не погибла в ней.
И последнее вдохновенное поэтическое слово Лермонтова было о поэте-пророке, провозглашающем «любви и правды чистые ученья».
Стихотворение «Пророк» принадлежит к лучшим произведениям Лермонтова. Возвышенная идея общественного служения поэта чудно выражена Лермонтовым в возвышенном образе пророка, одухотворенного высокой идеей и готового отречься от всех благ жизни во имя служения этой идее. В основе стихотворения лежит скорбь поэта-гражданина о том, что высокое учение пророка не признается толпой. Еще в 1839 году Лермонтов предвидел, что его «пророческую речь» толпа назовет «коварной бранью». Глубже и сильнее Лермонтов выразил эту мысль в стихотворении «Пророк»: еще беспощаднее отнеслась эгоистическая, мелкая толпа к пророку-поэту — она доходит до преследования, глумления и унижения его.
Картине грубости, мелочности мещански настроенной толпы Лермонтов противопоставляет величественный образ природы, необыкновенной силы и красоты:
И вот в пустыне я живу...
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами радостно играя.
В этом противопоставлении восторженного внимания звезд к пророческой речи поэта бездушному, жестокому отношению людей чувствуется глубокий протест Лермонтова против этого бездушия.
Белинский по поводу «Пророка» воскликнул: «Какая глубина мысли! Какая страшная энергия выражения! Таких стихов долго, долго не дождаться России!..»
Вот те глубоко скрытые думы и чувства, которые охватили Лермонтова в последние дни в Пятигорске при внешне веселой и беззаботной жизни. Никто из товарищеского окружения не замечал собирающихся над его головой темных, зловещих туч.
Пятигорск как курорт в те годы входил в моду. Кроме военных, было много приезжих, среди них несколько человек знати из столиц. Те социальные предрассудки, которыми насквозь был проникнут господствующий класс, сказались и здесь. Местная аристократка генеральша Мерлини, которая играла низкую роль в политическом преследовании доктора Мейера, известного на Кавказе, объединила в своем салоне некоторых из представителей петербургской знати. В ее кружок «избранных» входил также полковник Кушинников, командированный Бенкендорфом из петербургского корпуса жандармов для наблюдения и осведомления обо всех подозрительных лицах на Водах, и еще более важная персона — полковник Траскин, начальник штаба войск Кавказской линии. Он был близким человеком у военного министра Чернышева.
К этому кружку примкнул потом и князь Васильчиков, который, будучи ранее приятелем Лермонтова, начал двойственно держаться по отношению к нему. В этом кружке невзлюбили Лермонтова.
Не любили они Лермонтова и за остроту языка и за независимость характера, а главным образом потому, что знали о немилости к нему царя и всей придворной клики. С истинно рабским чувством они следовали примеру «господ». «...этот-то человек, — говорили они, — опальный и в последнее время выброшенный из Петербурга за «неумение вести себя», и тут опять играет роль, первенствует, острит, глумится...»
Насколько Лермонтов был прост, внимателен к людям, служит прекрасным примером знакомство его в этом же Пятигорске как раз в то время, когда местная аристократия начала злобствовать против него, с бывшим профессором медицинского факультета И. Е. Дядьковским, уволенным николаевским правительством из Московского университета.
И. Е. Дядьковский был клиницистом-теоретиком, соединявшим в своем лице талантливого врача и крупного мыслителя-материалиста. Имя его было окружено восторженным уважением медицинской молодежи, и оно было в их глазах синонимом борьбы живой науки с рутиной.
И. Е. Дядьковский по приезде в Пятигорск зашел к Лермонтову по просьбе бабушки поэта. Не застав его дома, передал слуге о себе и просил, чтобы Лермонтов был у него. В тот же вечер Лермонтов пришел к Дядьковскому. Беседа поэта с ним зашла далеко за полночь. Долго беседовали они о Байроне, Англии, о философе Беконе. По уходе его Дядьковский много раз повторял: «Что за умница! что за умница! . .»
На другой день поутру Лермонтов пришел звать на вечер Дядьковского в дом Верзилиных по приглашению хозяйки. Тот отговаривался болезнью, но вечером Лермонтов приехал за ним в экипаже и ночью привез его обратно. Опять Дядьковский с восторгом повторял: «Что за человек! Экой умница! А стихи его — музыка, но тоскующая...»
С каким вниманием и участием подошел Лермонтов к незнакомому, но достойнейшему человеку! Поэт, постигавший с первого взгляда человека, оценил сразу и большой ум и благородство нового знакомого.
Трогательный эпизод знакомства Лермонтова с И. Е. Дядьковским особенно ярко подчеркивает тупость, слепоту мелких, презренных людей. Они не способны были увидеть и оценить в Лермонтове его прямое, искреннее отношение к людям.
Прекрасные черты именно такого Лермонтова дает в своей дневниковой записи товарищ поэта по университетскому пансиону, П. Туровский. Он пишет о встрече с Лермонтовым в Пятигорске незадолго до дуэли:
«Как недавно, увлеченные живою беседою, мы переносились в студенческие годы; вспоминали прошедшее; разгадывали будущее. Он высказывал мне свои надежды скоро покинуть скучный Юг и возвратиться к удовольствиям Севера; я не утаил надежд наших литературных и прочитал на память одно из лучших его произведений. Черные большие глаза его горели: он, казалось, утешен был моим восторгом и в благодарность продекламировал несколько стихов, которые и теперь еще звучат в памяти моей. Вот они...»
Выписав далее текст стихотворения «И скушно и грустно», Туровский заканчивает запись словами:
«Так провел я в последний раз незабвенные два часа с незабываемым Лермонтовым»3.
В записи П. Туровского очень ценно указание на дружеский тон беседы (одни горящие глаза Лермонтова чего стоят!), а также сообщение, что Лермонтов надеялся вернутъся в Петербург, надеялся покинуть «скучный Юг». Лермонтов не мог сразу после долгой разлуки открыть товарищу все свои планы, и Туровский по-своему истолковал стремление его в Петербург как желание «возвратиться к удовольствиям Севера». Но это не важно. Самое важное для нас, что запись Туровского лишний раз подтверждает, насколько Лермонтов был захвачен основным своим желанием.
Примите к сведению, читатель, что Лермонтов в эту пору, 28 июня 1841 года, в письме к Е. А. Арсеньевой опять коснулся того же вопроса: «То, что вы мне пишете о словах Г. Клейнмихеля, я полагаю, еще не значит, что мне откажут отставку, если я подам; он только просто не советует; а чего мне здесь еще ждать? Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я подам.
Прощайте милая бабушка, будьте здоровы и покойны...»
В кружке «избранных» возникло решение проучить «несносного выскочку» и «задиру», как называли там поэта. Явилась мысль подговорить кого-нибудь из молодежи, задетого остротами Лермонтова, вызвать его на дуэль. Воспользовавшись остроумными шутками Лермонтова над молоденьким офицером Лисаневичем, стали внушать этому юноше, что терпеть насмешки Лермонтова не согласуется с честью офицера, советовали «проучить» Лермонтова. Но двадцатилетний юноша оказался благороднее и независимее, чем это думали подстрекатели. Он ответил им: «Что вы! Чтоб у меня поднялась рука на такого человека? Нет, этого я не сделаю никогда». Заговорщики не устыдились, а стали подыскивать более сговорчивое лицо.
Пятигорская интрига — это продолжение петербургской интриги 1840 года. Прямых указаний, что верхушка петербургской знати руководила пятигорским заговором, нет. Но такие вопиющие факты, как лишение Лермонтова наград, заслуженных им геройскими подвигами, и приказ царя, лишающий Лермонтова возможности заслужить их в дальнейшем, внезапная высылка его из Петербурга в сорок восемь часов в достаточной мере подготовили злодейский замысел.
Заговорщики заранее знали, что встретят сочувствие в высших сферах и строгого наказания не понесут.
Убийцей Лермонтова явился его бывший товарищ по гвардейской школе — Мартынов.
Подстрекнуть Мартынова было нетрудно. По словам одного современника, близко знавшего его, «Мартынов был человек довольно бесхарактерный и всегда находился под чьим-либо посторонним влиянием».
Мартынову было двадцать шесть лет. Он обладал красивой внешностью, был фатоват, тщеславен, самолюбив. Он любил покрасоваться, пооригинальничать, особенно в женском обществе: носил черкеску и огромную папаху, а на поясе — привешенный сбоку длинный кинжал. В таком живописном наряде принимал эффектные позы или напускал на себя мрачность, загадочность. Этой картинной внешностью он производил впечатление на женщин, но тем, кто знал Мартынова ближе и давно, он был смешон. Лермонтов, не терпевший ничего фальшивого, показного, не упускал случая посмеяться над «Мартышкой», как он называл его. Но приятели Лермонтова понимали, что он забавлялся и шалил и ради острого словца не щадил ни себя, ни других, и если замечал, что его шутками оскорблялись, всегда спешил успокоить обиженного и примириться.
Мелочно-самолюбивый Мартынов не прощал Лермонтову его насмешек; одна из них повела к роковому столкновению. О том, как произошла ссора Мартынова с Лермонтовым, что было сказано ими друг другу, мы имеем рассказ Э. А. Шан-Гирей — она была свидетельницей начала столкновения. В своих воспоминаниях она по этому поводу пишет: «По воскресеньям бывали собрания в ресторации, и вот именно 13-го июля собралось к нам несколько девиц и мужчин и порешили не ехать в собрание, а провести вечер дома, находя это и приятнее и веселее... мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Лев Сергеевич Пушкин, который также отличался злоязычием, и принялись они вдвоем острить свой язык a qui mieux…4 Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей, Надеждой, стоя у рояли, на которой играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его montagnard au grand poignard5 (Мартынов носил черкеску и замечательной величины кинжал). Надо же было так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово poignard раздалось по всей зале.
Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом весьма сдержанным сказал Лермонтову: «Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах», и так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал опомниться Лермонтову, а на мое замечание: «язык мой — враг мой» — М. Ю. отвечал спокойно: «Ce n’est rien; demain nous serons bons amis»6. Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора».
Как и где произошел вызов, сведений точных нет. Вероятнее всего, по выходе из квартиры Верзилиных.
1 Ремонтёр — в дореволюционной русской армии офицер, занимающийся закупкой лошадей для действующей армии.
2 Здесь — в старинном значении: поход, боевая операция.
3 Запись опубликована в небольшой книжке П. Туровского под заглавием «Поездка по России в 1841 г.», изданной историком А. А. Голомбиевским в 1913 году. Книжка забыта. Нам напомнила о ней старший научный работник Государственного исторического музея М. Ю. Барановская, за что приношу ей благодарность.
4 Взапуски (франц.).
5 Горец с большим кинжалом.
6 Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями.
- Детство
- Переезд Лермонтова в Москву. Поступление в университетский Благородный пансион
- Лето в Середникове
- В Московском университете
- Переезд в Петербург
- Лермонтов в гвардейской школе
- Первые два года офицерской жизни
- Стихотворение «Смерть поэта»
- Первая ссылка на Кавказ
- Возвращение из ссылки в Петербург
- Дуэль с Барантом и вторая ссылка на Кавказ
- Жизнь Лермонтова на Кавказе
- Отпуск в Петербург
- Дуэль и смерть
- Заключение