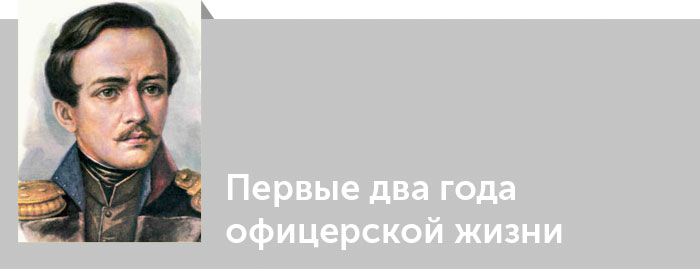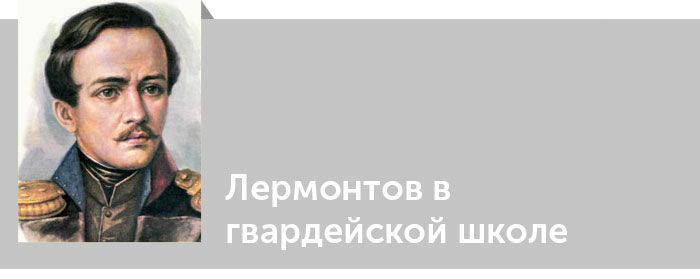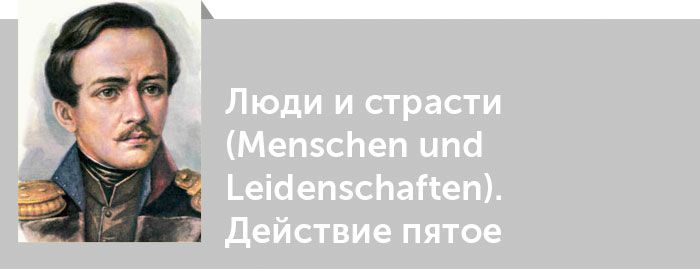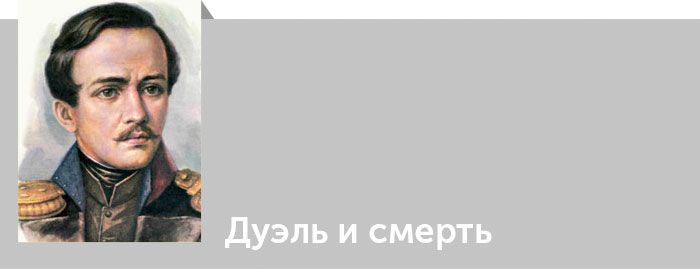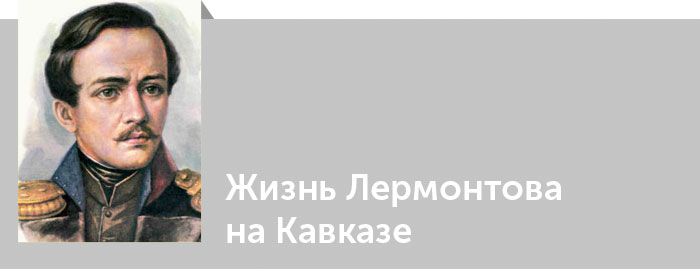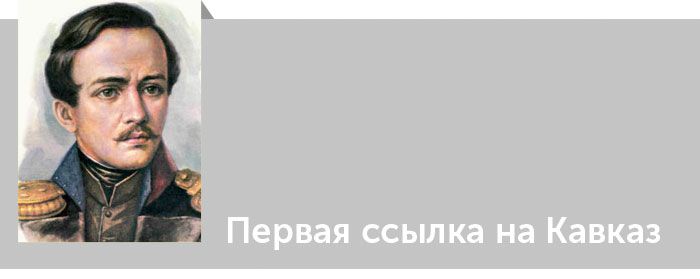Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Дуэль с Барантом и вторая ссылка на Кавказ

На балу у графини Лаваль сын французского посланника Барант потребовал у Лермонтова объяснения по поводу дошедших до него слухов о нелестном отзыве о нем, де Баранте, Лермонтова. Не удовлетворенный ответом Лермонтова, Барант вызвал его на дуэль. О подробностях вызова и о дуэли мы узнаем из показаний самого поэта.
18 февраля 1840 года, утром, дуэль состоялась, но кончилась благополучно: Лермонтов был слегка ранен в грудь шпагой. Когда же противники сошлись на пистолетах, Барант промахнулся, а Лермонтов выстрелил в сторону. В этот же день Лермонтов завтракал у Краевского. Был очень возбужден, весел, сыпал остротами. О дуэли говорил мимоходом, очень просто. «Рисовка совершенно была чужда Лермонтову», — замечает Краевский.
Недели две история эта оставалась неизвестной, но потом в свете началась болтовня о ней, и слухи о дуэли пошли по городу. Ближайший начальник Лермонтова, полковой командир Плаутин, потребовал от Лермонтова объяснений. Лермонтов в письме к нему изложил все обстоятельства дуэли:
«16 февраля на бале у графини Лаваль господин Барант стал требовать у меня объяснения насчет будто мною сказанного; я отвечал, что все ему переданное несправедливо, но так как он был этим недоволен, то я прибавил, что дальнейшего объяснения давать ему не намерен. На колкий его ответ я возразил такой же колкостию, на что он сказал, что если б находился в своем отечестве, то знал бы, как кончить это дело; тогда я отвечал, что в России следуют правилам чести так же строго, как и везде, и что мы меньше других позволяем себя оскорблять безнаказанно. Он меня вызвал, мы условились и расстались. 18-го числа в воскресенье в 12 ч. утра съехались мы за Черною речкой на Парголовской дороге. Его секундантом был француз, которого имени я не помню и которого никогда до сего не видел. Так как господин Барант почитал себя обиженным, то я предоставил ему выбор оружия. Он избрал шпаги, но с нами были также и пистолеты. Едва успели мы скрестить шпаги, как у моей конец переломился, а он мне слегка оцарапал грудь. Тогда взяли мы пистолеты. Мы должны были стрелять вместе, но я немного опоздал. Он дал промах, а я выстрелил уже в сторону. После сего он подал мне руку, и мы разошлись.
Вот, ваше превосходительство, подробный отчет всего случившегося между нами».
Но этим объяснением дело не кончилось.
11 марта Лермонтов был арестован и помещен в Ордонанс-гауз1. Бабушка поэта была больна, но она все-таки выхлопотала у коменданта разрешение на свободный вход к Михаилу Юрьевичу Акима Шан-Гирея, чтобы иметь о нем ежедневные и достоверные сведения. Шан-Гирей приносил Лермонтову городские и политические новости, вновь выходящие книги.
15 марта на допросе Лермонтов дал показания, что он не считал себя вправе не принять вызова Баранта, так как француз задевал честь русского офицера, что он сознательно выстрелил в воздух. Суд принял показания Лермонтова во внимание. Возможен был благоприятный исход дела. Но светская вздорная болтовня повредила поэту и тут. На свидании Шан-Гирей сообщил Лермонтову, что Барант, недовольный показаниями его, что он выстрелил в воздух, распространяет везде слух, что это неправда и что он, Барант, по выпуске из-под ареста Лермонтова накажет его за хвастовство. Лермонтов немедленно написал записку двум товарищам-офицерам, чтобы они привезли к нему Баранта. Вечером же товарищи были у Лермонтова с Барантом. «Лермонтов, — рассказывает Шан-Гирей со слов самого поэта, — высказал свое неудовольствие и предложил, если он, Барант, недоволен, новую встречу по окончании своего ареста, на что Барант при двух свидетелях отвечал (на французском языке. — М. Н.) так: «Слухи, которые дошли до вас, не точны, и я должен сказать, что считаю себя совершенно удовлетворенным».
Вся дальнейшая история показывает, до чего много было мелких людей в светском окружении Лермонтова и до чего беспощадны они были к поэту в своем недоброжелательстве.
Лермонтов говорил и действовал смело и благородно, как подсказывала ему его честь, не поступаясь ею ни перед какими соображениями риска. Барант перед Лермонтовым как будто струсил, но не угомонился. Сплетни об этом свидании полетели по городу. Мать Баранта поехала к командиру гвардейского корпуса и наклеветала, что Лермонтов требовал к себе на гауптвахту ее сына и вызывал его снова на дуэль.
После этого судебное следствие круто повернулось против Лермонтова. Против него было выдвинуто новое обвинение. Несмотря на осложнение дела, Лермонтов в заключении продолжал творить. Он написал несколько стихотворений: «Воздушный корабль», «Пленный рыцарь», «Соседка» и «Журналист, читатель и писатель».
Последнее стихотворение написано в драматической
форме — в виде разговора трех лиц в комнате писателя. Тема его, глубоко занимавшая Лермонтова, — взаимоотношения поэта и общества, положение и значение литературы в русской жизни того времени.
Устами читателя Лермонтов выразил энергично, резко одну из основных мыслей, тревоживших поэта в то время:
Когда же на Руси бесплодной,
Расставшись с ложной мишурой,
Мысль обретет язык простой
И страсти голос благородный?
Одно из замечаний читателя вызывает горячий ответ писателя — исповедь его, которая является центром всего стихотворения.
В ней поэт говорит о трудной миссии поэта, когда его окружает светская толпа. Обращаться к ней с призывом бесполезно. Поэт одинок. Только в минуту вдохновенья выливаются из души сокровенные думы:
Тогда с отвагою свободной
Поэт на будущность глядит,
И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и обмыт.
Но эти творения, вылившиеся по внезапному вдохновенью, поэт вынужден скрывать, так как светская толпа их отвергнет, а народ не услышит. Между ним и поэтом лежали в николаевское время непреодолимые преграды: реакция к 40-му году усилилась, цензура свирепствовала.
Почему писатель, по мнению Лермонтова, вынужден скрывать свои высокие вдохновенные творения?
Служение народу — первейший долг писателя: писатель вскрывает язвы общественного строя, выступает с пророческой речью, а возбуждает в господствующей толпе злость и ненависть.
Причины все те же, от которых гибло все живое в России в николаевское время и рождалось мучительное противоречие.
В этом заключалась страшная трагедия Лермонтова. Он всю жизнь стремился служить народу, а темные силы отдаляли его от народа.
В заключении Лермонтова навестил В. Г. Белинский и в первый раз поговорил с ним так серьезно, как давно ему хотелось.
Белинский встречался несколько раз с Лермонтовым у Краевского, но ни разу между ними не произошло такого обмена мнениями, какого можно было ждать от встречи этих двух гениальных людей — поэта и критика. Белинский чрезвычайно высоко ценил талант Лермонтова, интересовался им. Встречаясь с Лермонтовым у Краевского, не раз пытался завести с поэтом разговор на серьезные темы, но Лермонтов отделывался шуткой и уклонялся от серьезной беседы. Белинского это и смущало и огорчало. На этот раз при свидании в заключении он увидел Лермонтова таким, каким хотел его всегда видеть. Беседа продолжалась четыре часа. Писатель Панаев в своих воспоминаниях рассказывает, что после свидания с Лермонтовым Белинский прямо зашел к нему, и он по взволнованному, восторженному лицу Белинского сразу понял, что с ним произошло что-то необычайное.
«— Знаете ли, откуда я? — спросил Белинский.
— Откуда?
— Я был в Ордонанс-гаузе у Лермонтова и попал очень удачно. У него никого не было. Ну, батюшка, в первый раз я видел этого человека настоящим человеком!
...Первые минуты мне было неловко, но потом у нас завязался как-то разговор об английской литературе и о Вальтер-Скотте... «Я не люблю Вальтер-Скотта, — сказал мне Лермонтов, — в нем мало поэзии. Он сух», — и начал развивать эту мысль, постепенно одушевляясь. Я смотрел на него — и не верил ни глазам, ни ушам своим. Лицо его приняло натуральное выражение, он был в эту минуту самим собою...
В словах его было столько истины, глубины и простоты! Я в первый раз видел настоящего Лермонтова, каким я всегда желал его видеть... Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем!.. Недаром же меня так тянуло к нему. Мне наконец удалось-таки его видеть в настоящем свете. А ведь чудак! Он, я думаю, раскаивается, что допустил себя хотя на минуту быть самим собою, — я уверен в этом...»
Об этом свидании Белинский писал своему другу Боткину 16 апреля 1840 года: «Недавно был я у него в заточении и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного! О, это будет русский поэт с Ивана Великого! Чудная натура!.. мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Я это сказал ему — он улыбнулся и сказал: «дай бог!» Боже мой, как он ниже меня по своим понятиям, и как я бесконечно ниже его в моем перед ним превосходстве! Каждое его слово — он сам, вся его натура, во всей глубине и целости своей.
Я с ним робок, — меня давят такие целостные, полные натуры, я перед ним благоговею и смиряюсь в сознании моего ничтожества».
Как необычайно красива и значительна эта задушевная встреча двух величайших людей того времени — гениального поэта и гениального критика! Эта беседа имела огромное значение для понимания Лермонтова позднейшими поколениями. Без свидетельств Белинского Лермонтов, может быть, не был бы так понят и как человек и как поэт. Никто из современников, знавших лично поэта, так глубоко, как Белинский, не заглянул в душу Лермонтова. Гениальным умом, гениальной чуткостью своего горячего сердца Белинский проник в глубину сложной натуры Лермонтова. Белинский первый понял, что исключительная мощь поэзии Лермонтова есть порождение не только великого таланта, но и великого, «могучего духа» его.
Лермонтов принадлежал к числу немногих поэтов не только русской, но и мировой литературы, в которых величие гения соединяется так неразрывно с величием души его.
Самобытную силу и цельность натуры Лермонтова отмечает еще один современник, писатель П. В. Анненков, в своих воспоминаниях: «Выдержка у Лермонтова была замечательная: он не сказал никогда ни одного слова, которое не отражало бы черту его личности, сложившейся, по стечению обстоятельств, очень своеобразно; он шел прямо и не обнаруживал никакого намерения изменить свои горделивые, презрительные, а подчас и жестокие отношения к явлениям жизни на какое-либо другое...»
Цельная, «львиная», как выразился Белинский, натура Лермонтова оказала большое влияние и на самого Белинского. Это свидетельствует Анненков. Великий критик переживал в эту пору идейный кризис, и под влиянием поэзии Лермонтова, пишет Анненков, он утвердился на той мысли, что «единственная поэзия, свойственная нашему веку, есть та, которая отражает его разорванность, его духовные немощи, плачевное состояние его совести и духа. Лермонтов был первым человеком на Руси, который навел Белинского на это созерцание... Оно пустило обильные ростки впоследствии».
Историческое свидание Белинского с Лермонтовым произошло, как видно из слов Белинского, между 5 апреля, когда был кончен суд, и 13 апреля, когда последовало решение дела царем.
13 апреля на докладе генерал-аудитора царь Николай наложил свою резолюцию:
«Поручика Лермонтова перевести в Тенгинский пехотный полк тем же чином».
С первого взгляда решение царя может показаться более снисходительным, чем предшествующие резолюции начальствующих Лиц, которые приговорили Лермонтова к лишению всех прав и ссылке, но на самом деле оно было тоже крайне сурово. Тенгинский полк тогда был в действующих частях на Северном Кавказе, где происходили горячие сражения с горцами. Резолюция царя посылала поэта под вражеские пули.
До недавнего времени история столкновения Лермонтова с Барантом оставалась малоизвестной и не до конца ясной. Неясно было, почему, несмотря на признание и судьями и передовым общественным мнением высокого патриотического чувства Лермонтова, побудившего его принять вызов, несмотря на признание благородства и великодушия в поведении его на дуэли в отношении противника и на признание его исправной службы, последовало такое строгое наказание, совершенно не соответствовавшее его вине.
Было неясно, почему усиленные ходатайства друзей Лермонтова перед высшими властями о разрешении ему остаться в Петербурге оказались безрезультатными.
Выступление Лермонтова со стихотворением «Смерть поэта», с точки зрения Николая и его окружения, было несравненно более серьезной виной, и все-таки снисхождение тогда было сделано. Почему же столкновение с ничтожным Барантом вызвало к Лермонтову непримиримую ненависть царя и всей влиятельной верхушки, которая и привела к трагической гибели поэта?
Современное лермонтоведение на основании новых архивных изысканий раскрывает низкую, невероятно жестокую по последствиям интригу против Лермонтова некоторых тогдашних государственных деятелей и их ближайшего окружения. Интрига осложнила судебный процесс над Лермонтовым и определила исход всего дела.
Активными участниками в истории Лермонтова с Эрнестом Барантом являются французский посол де Барант (отец Эрнеста) и его жена, руководившая салоном французского посольства в Петербурге. Принимали живейшее участие и самые видные, самые влиятельные при дворе сановники — шеф жандармов Бенкендорф, канцлер граф Нессельроде, уже известный нам по делу Пушкина, и его жена, графиня Нессельроде. Эта знатная интриганка руководила в своем салоне мнением всего «высшего света» в Петербурге.
Можно представить себе, какой шум подняли, сколько клеветы излили они на Лермонтова, защищая Эрнеста Баранта!
Распорядившись об аресте Лермонтова, царь позаботился, чтобы Эрнеста Баранта не подвергали даже допросу. Канцлер Нессельроде стал хлопотать о выдаче Эрнесту Баранту паспорта для выезда за границу.
Графиня Нессельроде пишет сыну: «Я тебе сообщала о дуэли Баранта... Офицер Лементьев [?!] под судом... Государь был отменно внимателен к семье Баранта, которой все высказали величайшее сочувствие».
Что знала аристократия о Лермонтове? Имела ли она представление о нем как о великом поэте, творчество которого обещало еще более великое будущее? Для нее имя Лермонтова ничего не говорило: Лементьев — Лермонтов — это все равно; гусарский офицер, и больше ничего. Со злобой только помнили о том, что три года назад в стихотворении «Смерть поэта» он бранил французов и «разнес сливки общества на чем свет стоит».
Как в истории Пушкина аристократия спешила выразить внимание его убийце — Дантесу, так и в данной истории ничтожному иностранцу она выразила величайшее сочувствие.
Барант-отец, не успел сын доехать до Парижа, начал хлопотать о возвращении его в Петербург. Но отец боялся, что сын его, наклеветавший на Лермонтова и освобожденный от суда, будет неловко себя чувствовать в некоторых кругах петербургского общества. Надо было и от этого его избавить. Что же он придумал? Он решил добиться с помощью таких своих друзей, как Бенкендорф, чтобы Лермонтов написал унизительное для себя письмо Эрнесту Баранту. Бенкендорф охотно пошел навстречу Баранту: планы Баранта вполне совпали с его желанием.
Бенкендорф вызвал к себе Лермонтова и потребовал от него извинительного письма к Эрнесту Баранту, в котором Лермонтов признался бы в ложных своих показаниях перед судом. Такое письмо послужило бы оправданием Баранту и унизило бы в глазах всего русского народа великого национального поэта.
Этот факт известен в биографии Лермонтова давно, но не были известны мотивы этого чудовищного, невероятно грубого требования Бенкендорфа. Закулисная сторона дела теперь, после новых изысканий, ясна.
Лермонтов, выслушав Бенкендорфа, без колебаний, твердо отказался исполнить требование всесильного шефа жандармов.
Лермонтов понимал, что такое предложение унижает честь не только его самого, но в его лице оскорбляет честь и достоинство русского офицера. Зная, что великий князь Михаил Павлович как командир гвардейского корпуса очень ревниво относился к вопросам офицерской чести, он решил просить его защиты.
Вот письмо Лермонтова к Михаилу Павловичу:
«...получив приказание явиться к господину генерал-адъютанту графу Бенкендорфу, я из слов его сиятельства увидел, что на мне лежит еще обвинение в ложном показании, самое тяжкое, какому может подвергнуться человек, дорожащий своей честью. Граф Бенкендорф предлагал мне написать письмо к Баранту, в котором бы я просил извинения в том, что несправедливо показал в суде, что выстрелил на воздух. Я не мог на то согласиться, ибо это было бы против моей совести...»
Дальше Лермонтов просил защитить его, «ибо в противном случае теряю невинно и невозвратно имя благородного человека».
«Ваше императорское высочество, — писал Лермонтов, — позволите сказать мне со всею откровенностью: я искренно сожалею, что показание мое оскорбило Баранта; я не предполагал этого, не имел этого намерения; но теперь не могу исправить ошибку посредством лжи, до которой никогда не унижался. Ибо сказав, что выстрелил на воздух, я сказал истину, готов подтвердить оную честным словом, и доказательством может служить то, что на месте дуэли, когда мой секундант, отставной поручик Столыпин, подал мне пистолет, я сказал ему именно, что выстрелю на воздух, что и подтвердит он сам...»
Михаил Павлович по просьбе родственника Лермонтова А. И. Философова передал письмо Лермонтова с несколькими словами защиты поэта царю. Царь направил письмо к Бенкендорфу, чтобы приложили письмо к делу.
Таким образом, чудовищный замысел был приостановлен.
Но Барант-отец утешил себя самой гнусной, самой невероятной клеветой. Он пишет 30 апреля в Париж своему секретарю:
«Эрнест может возвратиться, Лермонтов вчера должен был уехать, полностью и по заслугам уличенный в искажении истины; без этой тяжелой вины едва ли он был бы наказан. Я хотел бы большей снисходительности,— Кавказ меня огорчает, но с таким человеком нельзя было бы полагаться ни на что; он возобновил бы свои лживые выдумки, готовый поддержать их новой дуэлью».
В каждой строчке, в каждом слове чудовищное искажение фактов. Письмо это рядом с требованием Бенкендорфа вызывает чувство омерзения. До какой клеветы и злословия доходили враги поэта, перед которыми действительно «суд и правда, все молчи!»
Последние дни перед отъездом в далекий путь Лермонтов проводил у себя дома, у бабушки, и прощался со своими добрыми знакомыми. Товарищи по полку хотели устроить ему проводы, но полковой командир не разрешил: побоялся, что при дворе это будет истолковано как протест против перевода поэта в другой полк. Семья Карамзиных была последней, с кем простился поэт в день отъезда. В этой семье поэт встречал и понимание и искреннее душевное участие, особенно со стороны дочери историка Софии Николаевны. Здесь он был самим собой, без всякой маскировки.
В. А. Соллогуб рассказывал впоследствии П. А. Висковатову:
«Друзья и приятели собрались в квартире Карамзиных проститься с юным другом своим, и тут, растроганный вниманием к себе и непритворною любовью избранного кружка, поэт, стоя в окне и глядя на тучи, которые ползли над Летним садом и Невою... (Карамзины жили на Фонтанке, против Летнего сада), написал стихотворение «Тучи».
...Софья Карамзина и несколько человек гостей окружили поэта и просили прочесть только что набросанное стихотворение. Он оглядел всех грустным взглядом выразительных глаз своих и прочел его:
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.
Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?
Нет, вам наскучили нивы бесплодные…
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно-холодные, вечно-свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.
Когда он кончил, глаза были влажны от слез...»
Поэт двинулся в путь прямо от Карамзиных. Тройка, увозившая его «с милого севера в сторону южную», уже ждала у подъезда дома.
Проездом на Кавказ Лермонтов остановился на несколько дней в Москве. Сведений о его пребывании в Москве немного
9 мая Лермонтов был на именинном обеде у Гоголя, устроенном в большом саду историка Погодина. Здесь собрались все известные писатели и ученые Москвы. Кроме самих хозяев — Погодина и Гоголя, были П. А. Вяземский, М. Н. Загоскин, И. И. Дмитриев С. Т. Аксаков, А. И. Тургенев, А. С. Хомяков, писатель Ю. Ф. Самарин, профессор П. Г. Редкин и другие. «Обед был веселый и шумный, — вспоминал впоследствии
С. Т. Аксаков. — ...После обеда все разбрелись по саду маленькими кружками. Лермонтов читал наизусть Гоголю и другим, кто тут случились, отрывок из новой своей поэмы «Мцыри» и читал, говорят, прекрасно...» На этом вечере Лермонтов много разговаривал с Ю. Ф. Самариным, но когда гости стали расходиться, с Лермонтовым заговорил Гоголь. Беседа их продолжалась до двух часов ночи2.
За время пребывания в Москве чаще всех из литературного круга Лермонтов виделся с Ю. Ф. Самариным, с которым был знаком еще раньше. Самарин пишет в своем дневнике об этой встрече на обеде у Гоголя после долгой разлуки: «Он узнал меня, обрадовался; мы разговорились про Гагарина (друга Самарина. — М. Н.); тут он читал свои стихи — Бой мальчика с барсов (Мцыри). Ему понравился Хомяков... Лермонтов сделал на всех самое приятное впечатление. Ко мне он охотно обращался в своих разговорах и звал к себе».
Самарин был замечательно даровитый и чуткий юноша. Он сумел заглянуть в душу Лермонтова, такую в глубине своей замкнутую, сложную, и с большой проницательностью определил некоторые черты его характера. Под непосредственным впечатлением этих последних встреч с поэтом Самарин написал вскоре своему другу Гагарину и дал замечательную характеристику поэта: «Я часто видел Лермонтова за все время его пребывания в Москве. Это чрезвычайно артистическая натура, неуловимая и не поддающаяся никакому внешнему влиянию, благодаря своей наблюдательности и значительной доле индифферентизма. Вы еще не успели с ним заговорить, а он вас уже насквозь раскусил; он все замечает; его взор тяжел, и чувствовать на себе этот взор утомительно. Первые минуты присутствие этого человека было мне неприятно: я чувствовал, что он очень проницателен и читает в моем уме; но в то же время я понимал, что сила эта имела причиною одно лишь простое любопытство, без всякого иного интереса, и потому поддаваться этой силе мне казалось унизительным. Этот человек никогда не слушает то, что вы ему говорите, он вас самих слушает и наблюдает, и после того, как он вполне понял вас, вы продолжаете оставаться для него чем-то совершенно внешним, не имеющим никакого права что-либо изменить в его жизни».
Лермонтов выехал из Москвы в половине мая. Опять с подорожной в руках поэт-изгнанник отправляется в длинный-длинный путь.
Перед ним вновь открывается широкий почтовый тракт. Он несется на почтовой тройке со звоном и переливами русского колокольчика. По сторонам мелькают полосатые верстовые столбы, почтовые станции, печальные деревни; за ними раскинулась ширь необъятная зеленеющих полей, лесов и лугов. В душу поэта вливается красота родной природы, которую так сильно и глубоко он любил.
Через месяц по таким же столбовым и проселочным дорогам почта развозила во все концы России вышедший в мае из печати роман «Герой нашего времени» и июньскую книжку «Отечественных записок», в которой была напечатана статья Белинского с проникновенным разбором этого замечательного произведения.
Белинский познакомил всю читающую Россию с романом «Герой нашего времени», в котором, как писал критик, Лермонтов поставил самый животрепещущий вопрос современности.
Лермонтов описал в романе внутреннюю жизнь поколения, которому пришлось жить в самую мрачную пору последекабристской эпохи. Оценивая роман в письме Боткину, Белинский писал: «Лермонтов великий поэт: он объективировал современное общество и его представителей».
Критик отмечал в романе такие черты истинно великого поэтического произведения, как самобытность, оригинальность, богатство содержания, силу и простоту в художественной обрисовке образов, глубокое знание человеческого сердца.
Каждое из этих положений критика многое говорит о романе, в целом же отзыв его указывает на новое выдающееся явление в русской литературе.
«Героем нашего времени» все русское общество зачитывалось. Оно увидело перед собой новое после Пушкина прозаическое произведение, исключительное по художественной силе.
Лермонтов-прозаик сразу был признан современниками таким же великим творцом, как и поэт.
Вдумываться, всматриваться в построение, в приемы художественного творчества Лермонтова в этом гениальном романе и теперь доставляет каждому внимательному читателю безграничное наслаждение.
Очень советую читателям ознакомиться с романом, не откладывая. Вероятно, многие скажут на это: «Да уж мы читали!»
На это отвечу вам словами Белинского: «...взгляд наш упал на первую страницу — и страницы начали одна за другою переворачиваться под рукою. Сколько раз читали мы эту книгу — пора бы уж было ей и надоесть; ничуть не бывало: все старое в ней так ново, так свежо, как будто мы читаем ее в первый раз. И предшествовавшие чтения не только не ослабили эффекта нового, но еще как будто усилили его».
Все в этой книге необыкновенно, начиная с ее построения.
Роман «Герой нашего времени» состоит из пяти глав: «Бэла», «Максим Максимыч», «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталист». Все эти главы различны по содержанию, действие происходит в разной обстановке, с разными лицами. И хотя каждая из них является законченным отдельным рассказом, вместе они, объединенные одним героем, одной идеей, слиты в одно целое, яркое, богатое по содержанию произведение.
Григорий Александрович Печорин был намечен Лермонтовым как главный герой еще в 1836 году в романе «Княгиня Литовская». События романа развивались на фоне петербургского высшего света. Эта среда ставила героя в узкие рамки, не давала простора для разностороннего проявления его характера.
Ссылка Лермонтова на Кавказ в 1837 году перенесла его в совершенно другие условия, расширила жизненный горизонт поэта. Творческие планы Лермонтова изменились. Петербургский роман остался неоконченным, действие романа перенесено на Кавказ. Автор ставит главного героя, Печорина, в самые разнообразные условия, он показывает его действующим в различных обстоятельствах, сталкивает со множеством разнородных лиц, совершенно несходных с петербургским обществом. Разнообразная среда, в которой вращается Печорин, со многих сторон освещает его характер. Идея романа, образ героя углубились, расширились.
Лермонтов располагает составные части романа не в той последовательности, как происходили события в жизни Печорина.
В хронологической последовательности они должны были расположиться в таком порядке:
1. Печорин выслан из Петербурга за какую-то громкую историю (вероятно, за дуэль) на Кавказ; по пути к месту назначения он задерживается в Тамани, где происходит столкновение его с контрабандистами.
2. После участия в военных походах (повесть «Тамань») Печорин получает отпуск на лечение в Пятигорск и Кисловодск, где переживается роман с Мери и дуэль с Грушницким («Княжна Мери»).
3. За эту дуэль Печорин переведен на «линию» в крепость на левый фланг, под начальство штабс-капитана Максима Максимыча. Там Печорин переживает роман с Бэлой («Бэла»).
4. Из крепости Печорину нужно было отлучиться на две недели в казачью станицу, где происходит роковой случай с Вуличем («Фаталист»).
5. Из крепости Печорин переведен в Грузию, а потом возвращен в Петербург. Через пять лет он выходит в отставку и едет в Персию, по пути во Владикавказе встречается с Максимом Максимычем и с проезжим офицером («Максим Максимыч»).
6. На обратном пути из Персии Печорин умирает («Предисловие к журналу Печорина»).
Лермонтов заменил хронологическую последовательность в расположении повестей последовательностью знакомства проезжего офицера, а следовательно, и читателя, с личностью Печорина — сначала по рассказу штабс-капитана (рассказ «Бэла»), затем по впечатлению собственной встречи с ним Максима Максимыча («Максим Максимыч»). Затем в романе даются записки самого Печорина («Тамань»), и, наконец, странствующий офицер дает дневник Печорина («Княжна Мери» и «Фаталист»).
Великое художественное мастерство Лермонтова проявилось уже в этой композиции романа. От такого последовательного знакомства читателя с личностью Печорина: сначала по наблюдениям посторонних лиц (прием совершенно объективный), затем по его дневнику, в который вошел субъективный элемент, — представление о герое складывается полнее, разнообразнее и глубже.
Печорин воспринимается читателем до наших дней как живой человек, как будто мы узнали его из самой жизни, а не из книги.
Роман начинается с описания переезда офицера через горы по Военно-Грузинской дороге и знакомства его с попутчиком штабс-капитаном.
С первых же строк читатель оказывается во власти высокого художественного искусства. Картины Военно-Грузинской дороги, описание гор, трудность подъема на перевал, люди, окружающие путников, — все изображено кратко, сжато, просто, но так живо и ярко, как будто все происходит у вас перед глазами, точно вы не повесть читаете, а перед вами развертывается действительная жизнь и вы в ней сами участвуете. Кавказ встает перед вами такой живописный, как будто вы сами видите его.
Нельзя не указать на величайшее искусство, с каким даются автором в «Герое нашего времени» характерные черты в обрисовке лиц. Два-три беглых штриха — и вы уже многое видите в человеке. Так, вы сразу видите пожилого штабс-капитана. После вопросов друг к другу, офицера к штабс-капитану, обычных дорожных: откуда, куда едут, офицер спросил: «А вы давно здесь служите?»
«Да, я уж здесь служил при Алексее Петровиче3, — отвечал он приосанившись. — Когда он приехал на Линию, я был подпоручиком, — прибавил он, — и при нем получил два чина за дела против горцев».
Авторское замечание о том, что Максим Максимыч приосанился при упоминании о Ермолове, чрезвычайно выразительно. Оно показывает, что для штабс-капитана вся жизнь и честь были в верной службе отечеству. Генерал Ермолов, герой Отечественной войны двенадцатого года, умел требовать верной и честной службы, умел и ценить ее, и лучшие офицеры гордились службой и наградами, полученными при нем. Из одного этого замечания мы видим старого военного служаку, всецело преданного военному делу и хорошо знающего условия военной жизни на Кавказе.
Проследите, читатель, как естественно, просто, без видимого вмешательства автора развивается рассказ. Путники, поднимаясь все выше и выше, приближались уже к почтовой станции у вершины Гуд-Горы. Перевал был близок. В темноте уже мелькали приветные огоньки станции. Вдруг пахнул холодный ветер, ущелье загудело, пошел дождь, за ним снег.
« — Нам придется здесь ночевать, — сказал он с досадою: — в такую метель через горы не переедешь».
За неимением комнаты для проезжающих на станции путникам отвели ночлег в дымной сакле. Сначала они попали в хлев с коровой и овцами. Хлев примыкал к жилому помещению, полному народу — детей, старых и молодых осетин, расположившихся на полу около разведенного огня. Поневоле и путники присели к огню. Обитатели сакли, все в лохмотьях, молча уставились неподвижными глазами на приезжих. Естественно, сначала путники заговорили об этих обитателях сакли. На огне вскипел чайник офицера. Он подал штабс-капитану стакан чаю и предложил к чаю рому. Тот отказался, так как дал давно зарок не пить. Штабс-капитан объяснил: раз в молодости он с товарищами подгулял, а ночью напали горцы. «...да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал: не дай господи, как он рассердился! чуть-чуть не отдал под суд. (Из большого уважения к доблестному генералу Ермолову старые кавказские служаки иначе не называли его, как по имени и отчеству. — М. Н.) Оно и точно, другой раз целый год живешь, никого не видишь, да как тут еще водка — пропадший человек!..
— Да вот хоть черкесы, — продолжал он: — как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз насилу ноги унес, а еще у мирнова князя был в гостях».
— Как же это случилось? — спросил заинтересовавшийся офицер. И штабс-капитан рассказал о своей жизни в глухой крепости за Тереком, куда под его начало однажды был прислан молодой офицер, высланный из России. И опять: две-три черты в рассказе — и перед вами рисуется уже образ капитана, нравы военной службы на Кавказе...
«Вы, верно, — спросил я его: — переведены сюда из России?»—«Точно так, господин штабс-каписан»,— отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно... ну, да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и пожалуйста — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости.
— А как его звали? — спросил я Максима Максимыча.
— Его звали... Григорьем Александровичем Печориным...
— А долго он с вами жил? — спросил я опять.
— Да с год. Ну да уж зато памятен мне этот год; наделал он мне хлопот, не тем будь помянут! Ведь есть, право, этакие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи!
— Необыкновенные? — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая.
— А вот я вам расскажу».
Длинную выписку мы сделали о начале рассказа, но нужно видеть, как просто, естественно, сам собою начался рассказ штабс-капитана, полный захватывающего интереса о его жизни с Печориным в крепости, о встречах их с мирными черкесами. Перед нами встают, как живые, образы кавказцев Казбича, Азамата. Каждое слово романа дышит знанием нравов, взглядов, понятий кавказцев, в каждом движении героев вы чувствуете наблюдательность автора и понимание их психологии. Посещение мирного князя, свадебного пира, на котором Печорин пленился Бэлой, описывает Максим Максимыч просто и выразительно, но особенно ярко передает он подслушанный во дворе, у забора, спор Азамата — сына князя — с Казбичем из-за лошади Казбича, ссору их и поднятую ими тревогу на свадебном пиру.
Максим Максимыч и Печорин благополучно ускакали от свадебного скандала к себе домой, в крепость.
Что же, рассказ этим кончился и мы о Печорине ничего больше от него не узнаем?
Лермонтов, отстранив себя как автора от рассказа, передав его штабс-капитану, тонко направляет повествование. Максим Максимыч задумался. Старый воин много повидал, испытал, ему есть что вспомнить. Проезжий офицер расшевелил его воспоминания. «... Штабс-капитан, после некоторого молчания, продолжал, топнув ногою о землю:
— Никогда себе не прощу одного: чорт меня дернул, приехав в крепость, пересказать Григорью Александровичу все, что я слышал, сидя за забором; он посмеялся,— такой хитрый! — а сам задумал кое-что.
— А что такое? Расскажите, пожалуйста.
— Ну уж нечего делать! начал рассказывать, так надо продолжать».
И рассказ продолжился так естественно, просто, без малейшей натяжки, уже о Печорине. Чудесны описания встреч Печорина с Азаматом, появление Бэлы у Печорина. Конечно, не мог штабс-капитан обойти молчанием свое отношение к появлению Бэлы. Максим Максимыч отвечал по службе за нарушение порядка в крепости, и он рассказывает о своем начальственном визите к Печорину. Сцена визита так характерна и для Печорина, и для штабс-капитана, и для военных нравов той поры на Кавказе, что мы считаем необходимым ее выписать.
«Как я только проведал, что черкешенка у Григорья Александровича, то надел эполеты, шпагу и пошел к нему.
Он лежал в первой комнате на постели, подложив одну руку под затылок, а в другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замок... Я начал кашлять и постукивать каблуками о порог, — только он притворялся, будто не слышит.
— Господин прапорщик! — сказал я как можно строже. — Разве вы не видите, что я к вам пришел?
— Ах, здравствуйте, Максим Максимыч! Не хотите ли трубку? — отвечал он, не приподнимаясь.
— Извините! Я не Максим Максимыч: я штабс-капитан.
— Все равно. Не хотите ли чаю? Если бы вы знали,
какая мучит меня забота!
—Я все знаю, — отвечал я, подошед к кровати.
— Тем лучше: я не в духе рассказывать.
— Г. прапорщик, вы сделали проступок, за который и я могу отвечать...
— И полноте! что ж за беда? Ведь у нас давно все пополам.
— Что за шутки? Пожалуйте вашу шпагу!
— Митька, шпагу! ..
Митька принес шпагу. Исполнив долг свой, сел я к нему на кровать и сказал: «Послушай, Григорий Александрович, признайся, что нехорошо».
— Что нехорошо?
— Да то, что ты увез Бэлу... Уж эта мне бестия Азамат!.. Ну, признайся, — сказал я ему.
— Да когда она мне нравится?..
Ну, что прикажете отвечать на это?.. Я стал в тупик...»
Максиму Максимычу пришлось во всем согласиться с Печориным, не один раз стать в тупик и прийти к заключению: «Что прикажете делать? Есть люди, с которыми непременно должно соглашаться».
«— А что?— спросил я у Максима Максимыча:— в самом деле он приучил ее к себе, или она зачахла в неволе, с тоски по родине?»
И в ответ на этот вопрос офицера начался рассказ Максима Максимыча о поэтической, захватывающей, бесконечно трогательной истории («Бэла»), И опять поражает искусство автора, заставившего старого, наивного штабс-капитана нарисовать простым, но живым, выразительным языком картину признания Бэлы в горячей любви к Печорину, невольным свидетелем которой был Максим Максимыч, и дальнейшего счастья Бэлы и Печорина. Ясно видим мы участливую, глубокую, доброжелательную натуру самого рассказчика. Штабс-капитан рассказывает своим, ему присущим языком; ни одного надуманного, искусственно украшающего слова он не произносит. Ни в одном слове не теряется впечатление цельности и естественности образа штабс-капитана. С огромным интересом слушает его проезжий офицер, ведущий записки, но дорожные обстоятельства прерывают рассказ штабс-капитана. Буря утихла, нужно было подниматься выше — на Гуд-Гору.
Все оживает под волшебным пером автора. В повести «Бэла» все гармонично, цельно соединено: главный образ романа, о котором ведется рассказ, чрезвычайная наблюдательность офицера, ведущего записки. С какой яркостью даны кавказцы, кавказская природа и бесподобный рассказчик — старый штабс-капитан!
Описание подъема на перевал Военно-Грузинской дороги, Гуд-Гору, офицера, ведущего записки, и его попутчика сделано от первого лица и отражает, несомненно, впечатления и переживания самого Лермонтова, когда он проезжал Военно-Грузинскую дорогу осенью 1837 года. На это описание нужно смотреть как на страницы биографии поэта. Поэтому мы с усиленным интересом на них остановимся: вы, читатель, получите эстетическое наслаждение (природа нам всем близка и понятна) и лучше поймете великое достоинство описаний Лермонтова.
Необходимо прежде всего отметить необыкновенную простоту языка Лермонтова, благодаря которой достигается естественность, жизненность того, о чем пишет поэт.
Правда, нам может возразить читатель: «Но ведь все мы говорим очень простым языком». Да, наша речь не всегда достаточно полна и разнообразна; подчас нам трудно бывает ясно выразить ту или иную мысль, но упрощенность речи не есть простота речи. Такие гении, как Пушкин и Лермонтов, владели русским языком в совершенстве, владели всем его богатством и разнообразием, и любой оттенок мысли они выражали свободно. Речь Лермонтова свободна, гибка, точна и потому читается нами так свободно и легко, что мы не замечаем в ней искусства.
Так же свободно и легко мы дышим свежим воздухом, пронизанным лучом солнца. Это дает нам жизнь, а мы даже не замечаем этого.
При краткости и простоте выражения мысли Лермонтов в описаниях употреблял самые нужные, самые соответствующие, незаменимые слова, и потому его описания жизненны, волнуют и не забываются.
Например, как он говорит о тишине в горах?
«По жужжанию комара можно было следить за его полетом». Этого достаточно, чтобы почувствовать полное безмолвие среди горных громад.
Такие маленькие детали, как фырканье усталой тройки и побрякиванье русского колокольчика в этой мертвой тишине, особенно усиливают ощущение глубокого сна природы на горных высотах.
А вот описание подъема путников на перевал после остановки в сакле:
«Между тем чай был выпит; давно запряженные кони продрогли на снегу; месяц бледнел на западе и готов уж был погрузиться в черные свои тучи, висящие на дальних вершинах как клочки разодранного занавеса. Мы вышли из сакли. Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и обещала нам тихое утро; хороводы звезд чудными узорами сплетались на далеком небосклоне и одна за другою гасли по мере того, как бледноватый отблеск востока разливался по темнолиловому своду, озаряя постепенно крутые отлогости гор, покрытые девственными снегами. Направо и налево чернели мрачные, таинственные пропасти, и туманы, клубясь и извиваясь, как змеи, сползали туда по морщинам соседних скал, будто чувствуя и пугаясь приближения дня.
Тихо было все на небе и на земле, как в сердце человека в минуты утренней молитвы; только изредка набегал прохладный ветер с востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеем. — Мы тронулись в путь...»
Как говорит Лермонтов о предрассветной тишине на перевале? Если бы поэт сказал только: «Тихо было все», представление о тишине создалось бы, но он добавил слова: «на небе и на земле» — они вызвали еще и ощущение величия картины.
Какими простыми, краткими штрихами поэт дает почувствовать предрассветную прохладу на горах:
«... изредка набегал прохладный ветер с востока...»
Слово «изредка» здесь незаменимо. Именно ранним утром ветерок подувает волной, едва уловимыми порывами.
Слова «с востока» тоже незаменимы. Они говорят о раннем утре, о рассвете. Всегда предутренний ветерок подувает с востока.
А эта деталь: «приподнимая гриву лошадей». Она особенно усиливает впечатление легкого веяния ветра — единственного движения при полном покое горных громад. Деталь эта даже грусть придает всей картине раннего утра на вершинах Кавказа.
А последние два слова — «покрытую инеем» — довершают картину: вы чувствуете дыхание предрассветного холода.
Такая точность у Лермонтова во всех описаниях.
Сделайте свои наблюдения, читатель, над следующими отрывками:
«Мы тронулись в путь; с трудом пять худых кляч тащили наши повозки по извилистой дороге на Гуд-Гору; мы шли пешком сзади, подкладывая камни под колеса, когда лошади выбивались из сил; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глаз мог разглядеть, она все поднималась и наконец пропадала в облаке, которое еще с вечера отдыхало на вершине Гуд-Горы, как коршун, ожидающий добычу; снег хрустел под ногами нашими; воздух становился так редок, что было больно дышать; кровь поминутно приливала в голову, но со всем тем какое-то отрадное чувство распространилось по всем моим жилам, и мне было как-то весело, что я так высоко над миром...
Вот, наконец, мы взобрались на Гуд-Гору, остановились и оглянулись: на ней висело серое облако, и его холодное дыхание грозило близкой бурею; но на востоке все было так ясно и золотисто, что мы, то-есть я и штабс-капитан, совершенно о нем забыли...
— ... Посмотрите, — прибавил он, указывая на восток: — что за край!
И точно, такую панораму вряд ли где еще удастся мне видеть: под нами лежала Койшаурская Долина, пересекаемая Арагвой и другой речкой, как двумя серебряными нитями... направо и налево гребни гор, один выше другого, пересекались, тянулись, покрытые снегами, кустарником; вдали те же горы, но хоть бы две скалы, похожие одна на другую, — и все эти снега горели румяным блеском так весело, так ярко, что, кажется, тут бы и остаться жить навеки; солнце чуть показалось из-за темносиней горы, которую только привычный глаз мог бы различить от грозовой тучи; но над солнцем была кровавая полоса, на которую мой товарищ обратил особенное внимание. «Я говорил вам, — воскликнул он, — что нынче будет погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанет нас на Крестовой. Трогайтесь!» — закричал он ямщикам.
Подложили цепи под колеса вместо тормозов, чтоб
они не раскатывались, взяли лошадей под уздцы и начали спускаться; направо был утес, налево пропасть такая, что целая деревушка осетин, живущих на дне ее, казалась гнездом ласточки; я содрогнулся, подумав, что часто здесь, в глухую ночь, по этой дороге, где две повозки не могут разъехаться, какой-нибудь курьер раз десять в год проезжает, не вылезая из своего тряского экипажа...
Но, может быть, вы хотите знать окончание истории Бэлы?— Во-первых, я пишу не повесть, а путевые записки: следовательно, не могу заставить штабс-капитана рассказывать прежде, нежели он начал рассказывать в самом деле».
Кажется, замечание такое простое, что можно при чтении не обратить на него особого внимания. А между тем в этом — один из замечательных художественных приемов Лермонтова. Выдавая повесть как записки проезжего офицера со слов попутчика, штабс-капитана, Лермонтов развитие повести как бы ставит в зависимость от обстоятельств переезда. Рассказ сохраняет свое естественное течение, живет своей собственной жизнью как бы независимо от автора, а благодаря этому усиливается заинтересованность в нем.
Следующие два отрывка такие же волшебные:
«— Вот и Крестовая! — сказал мне штабс-капитан, когда мы съехали в Чертову Долину, указывая на холм, покрытый пеленою снега; на его вершине чернелся каменный крест, и мимо его вела едва-едва заметная дорога, по которой проезжают только тогда, когда боковая завалена снегом; наши извозчики объявили, что обвалов еще не было, и, сберегая лошадей, повезли нас кругом. При повороте встретили мы человек пять осетин; они предложили нам свои услуги и, уцепясь за колеса, с криком принялись тащить и поддерживать нашу тележку. И точно, дорога опасная: направо висели над нашими головами груды снега, готовые, кажется, при первом порыве ветра оборваться в ущелье; узкая дорога частью была покрыта снегом, который в иных местах проваливался под ногами, в других превращался в лед от действия солнечных лучей и ночных морозов, так что с трудом мы сами пробирались: лошади падали; налево зияла глубокая расселина, где катился поток, то скрываясь под ледяной корой, то с пеною прыгая по черным камням. — В два часа едва могли мы обогнуть Крестовую Гору, — две версты в два часа! Между тем тучи спустились, повалил град, снег; ветер, врываясь в ущелья, ревел, свистал, как Соловей-Разбойник, и скоро каменный крест скрылся в тумане, которого волны, одна другой гуще и теснее, набегали с востока...
Нам должно было спускаться еще верст пять по обледеневшим скалам и топкому снегу, чтоб достигнуть станции Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудела сильнее и сильнее, точно наша родимая, северная; только ее дикие напевы были печальнее, заунывнее. «И ты, изгнанница, — думал я, — плачешь о своих широких, раздольных степях! Там есть где развернуть холодные крылья, а здесь тебе душно и тесно, как орлу, который с криком бьется о решетку железной своей клетки».
Это олицетворение природы во втором отрывке проникнуто глубоко скрытым в душе поэта чувством свободы, зовущим его на простор жизни. Оно одухотворено чувством изгнанника, переживаемым самим поэтом, и этот отрывок читается как стих, проникнутый глубоким лиризмом.
«Вот мы свернули налево и кое-как, после многих хлопот, добрались до скудного приюта... Оборванные хозяева приняли нас радушно...
— Все к лучшему! — сказал я, присев у огня: — теперь вы мне доскажете вашу историю про Бэлу; я уверен, что этим не кончилось.
— А почему вы так уверены? — отвечал мне штабс- капитан, примигивая с хитрой улыбкою.
— Оттого, что это не в порядке вещей: что началось необыкновенным образом, то должно так же и кончиться.
— Ведь вы угадали...
— Очень рад.
— Хорошо вам радоваться, а мне так, право, грустно, как вспомню. Славная была девочка, эта Бэла! Я к ней, наконец, так привык, как к дочери, и она меня любила...»
Естественным ходом обстоятельств, так просто, без малейшей натяжки, воспоминания Максима Максимыча продолжились. Он рассказал всю историю Бэлы, кончая ее смертью и переводом Печорина из крепости в Грузию.
Итак, первая часть романа «Герой нашего времени»— рассказ «Бэла» кончился.
Глубокое и незабываемое впечатление оставляет рассказ. Не только правдиво, но тонко и привлекательно нарисован образ Бэлы. Горячность, искренность, проникновенность отличают ее. При этом ничего безличного, покорного, рабского в ее чувстве к Печорину не было. Сознание своего достоинства в ней проявлялось с первого до последнего дня. Печорин стал для нее всем на свете, и все-таки, когда Бэла заметила, что Печорин начинает охладевать к ней, она гордо заявила Максиму Максимычу: «Если он меня не любит, то кто ему мешает отослать меня домой?.. А если это будет так продолжаться, то я сама уйду: я не раба его, — я княжеская дочь!..»
Образ Максима Максимыча дан Лермонтовым с гениальным раскрытием души такого простого, как кажется с первого взгляда, человека, далекого автору и по культурному и по социальному положению. И этот человек, с виду простак и добряк, с каждым штрихом все больше и больше покоряет читателя богатством своей натуры, глубиной и великодушием своего сердца. Ведь служба для Максима Максимыча — священная, первейшая обязанность. Кроме службы, другой жизни у него нет. При этом в выполнении служебных обязанностей ничего показного, честолюбивого — полнейшая преданность ее интересам. Максим Максимыч очень рисковал своей служебной репутацией из-за похищения Печориным Бэлы, но уже принятого решения держался твердо: Печорину он сочувствовал и относился к нему неизменно благожелательно, а к Бэле — как отец родной.
Печорин показан читателю через восприятие и нравственный суд этого человека, простого, искреннего и правдивого, далекого от столичной жизни того времени, ее общественного уклада. Печорин, образованный, утонченный по своей психике, сложный по характеру, был непонятен Максиму Максимычу. Максим Максимыч сделал раз попытку дать характеристику Печорина перед своим собеседником — офицером, но дальше простодушного заявления не пошел: «Славный был малый, смею вас уверить; только немножко странен», и к странностям Печорина отнес противоречивость, изменчивость его настроений. Тоску и скуку жизни от неудовлетворенности ею он принял за моду, выдуманную французами. Основная задача Лермонтова в том-то и состоит, чтобы показать Печорина сначала глазами простого человека, выходца из другой, демократической среды, показать без пристрастных искажений и литературных толкований и этим достичь в характеристике героя предельной простоты и правдивости. И Лермонтов достиг этого: первое наше знакомство с героем совершенно объективно; в душе читателя остается одно чувство — чувство жизненной правды.
Белинский с восторгом писал о «Бэле»: «Простота и безыскусственность этого рассказа невыразима, и каждое слово в нем так же на своем месте, как богато содержанием». И дальше критик продолжил: «Не знаем, чему здесь более удивляться, тому ли, что поэт, заставив Максима Максимыча быть только свидетелем рассказываемого им события, так тесно слил его личность с этим событием, как будто бы сам Максим Максимыч был его героем, или тому, что он сумел так поэтически, так глубоко взглянуть на событие глазами Максима Максимыча и рассказать это событие языком простым, грубым, но всегда живописным, всегда трогательным и потрясающим даже в самом комизме своем?»
Максим Максимыч надолго расстается с Печориным, но «Бэла» — только начало романа. Как Лермонтов рисует образ героя в следующей части? Дальше идет рассказ «Максим Максимыч». В нем Лермонтов завершил замечательный образ штабс-капитана.
Во Владикавказе Максим Максимыч встречается с прежним своим попутчиком — офицером, который запишет и этот эпизод. Оба они на почтовой станции встречают неожиданно Печорина, едущего уже из Петербурга в Персию. Характер Максима Максимыча дополняется с совершеннейшим искусством. В этом рассказе Лермонтов описывает его словами офицера такими меткими чертами, что, по словам Белинского, «если бы вы... двадцать лет прожили с ним в одной крепости, и тогда не узнали бы его лучше». Каждое слово, каждый шаг его характеризуют его натуру, цельность ее, искренность.
Сцена неожиданной встречи Максима Максимыча и офицера, ведущего дорожные записки, с Печориным на почтовой станции бесподобна по построению, по развитию действия. Печорин сначала отсутствует — он остался ночевать у полковника Н. Ожидание прихода его штабс-капитаном дает возможность автору довершить характеристику Максима Максимыча. Он встает перед нами живым, со своим горячим, глубоким чувством — чувством дружеской привязанности к Печорину. Старика сначала охватила радость, что он увидит его. Прошло пять лет после их разлуки. Максим Максимыч говорил ребячески доверчиво о своей закадычной дружбе с Печориным, нетерпеливо ждал его, целый вечер, всю ночь был в тревоге; он думал, что Печорин прибежит, как только узнает о нем. А Печорин явился только утром.
Как построена автором их встреча?
Что бы ни было, у Максима Максимыча служебные обязанности на первом месте — он отправился по делу к коменданту; Печорин пришел в это время на станцию. Проезжий офицер первый с ним знакомится и описывает его внешний облик. И в этом заключается тонкий прием автора. Мог ли бы это описание сделать не понимающий сложности и тонкости психики Печорина простой добряк Максим Максимыч? Все, что он рассказал о Печорине в «Бэле», — все драгоценно. Но портрета Печорина он, конечно, дать бы не мог. Офицер же равен по культуре Печорину и сделал это легко, тонко и верно. Обратите внимание, читатель: по ходу романа нам пора видеть перед собой героя, подойти к нему вплотную. И автор это почувствовал раньше нас — свел как бы случайно на станции всех трех главных действующих лиц.
Встреча Максима Максимыча с Печориным необычайно характерна для обоих. Холодно отнесся Печорин к старому, преданному другу и бесконечно этим огорчил его. Лермонтов понимал горечь обиды, переживаемой штабс-капитаном, и устами офицера выразил ее: «Грустно видеть, когда юноша теряет лучшие свои надежды и мечты, когда пред ним отдергивается розовый флёр, сквозь который он смотрел на дела и чувства человеческие, хотя есть надежда, что он заменит старые заблуждения новыми, не менее проходящими, но за то не менее сладкими... Но чем их заменить в лета Максима Максимыча?»
Настал момент, когда все трое участников этой сцены разойдутся в разные стороны: офицер отправится в Ставрополь, Печорин уедет в Персию, Максим Максимыч задержится во Владикавказе. Как же мы увидим дальше героя романа?
Опять и опять волшебный прием гения. Замечательны прощальные минуты Максима Максимыча с Печориным. Позволяем себе процитировать, рассказать о них трудно:
«— Ну полно, полно! — сказал Печорин, обняв его дружески: — неужели я не тот же?.. Что делать?.. всякому своя дорога... Удастся ли еще встретиться — бог знает!.. — Говоря это, он уже сидел в коляске, и ямщик уже начал подбирать вожжи.
— Постой, постой! — закричал вдруг Максим Максимыч, ухватясь за дверцы коляски: — совсем было забыл... У меня остались ваши бумаги, Григорий Александрович... я их таскаю с собой... думал найти вас в Грузии, а вот где бог дал свидеться... Что мне с ними делать?..
— Что хотите! — отвечал Печорин. — Прощайте...
— Максим Максимыч, — сказал я, подошедши к нему, — а что это за бумаги вам оставил Печорин?
— А бог его знает! какие-то записки...
— Что вы из них сделаете?
— Что? Я велю наделать патронов.
— Отдайте их лучше мне.
Он посмотрел на меня с удивлением, проворчал что-то сквозь зубы и начал рыться в чемодане; вот он вынул одну тетрадку и бросил ее с презрением на землю; потом другая, третья и десятая имели ту же участь: в его досаде было что-то детское; мне стало смешно и жалко...
— Вот они все, — сказал он: — поздравляю вас с находкою...
— И я могу делать с ними все, что хочу?
— Хоть в газетах печатайте. Какое мне дело!..
Мы простились довольно сухо...»
Чувство глубокой обиды не прошло у Максима Максимыча.
Дальше по ходу романа идут эти записки под названием «Журнала Печорина».
Этому журналу офицер предпослал предисловие. Все предисловие — чудо искусства; к сожалению, для выписки оно велико. В предисловии заключена гениальная мысль, которую Лермонтов положил в основу всего романа:
«Перечитывая эти записки, я убедился в искренности того, кто так беспощадно выставлял наружу собственные слабости и пороки. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она — следствие наблюдений ума зрелого над самим собою и когда она писана без тщеславного желания возбудить участие или удивление. Исповедь Руссо имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям.
Итак, одно желание пользы заставило меня напечатать отрывки из журнала, доставшегося мне случайно...
Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина? — Мой ответ — заглавие этой книги».
Печорина читатель еще не знает, но заинтересован им еще больше. Лермонтов попрежнему как бы не вмешивается в повествование. Он старается познакомить читателя с героем через его записки. Предисловие к запискам является в плане романа главнейшей частью. Оно дает поворот характеру романа: совершенно объективная точка зрения на героя сменяется субъективной; герой ведет записки, которые издает не причастный к ним офицер, получивший их случайно. Офицер-издатель объясняет мотивы, заставившие его обнародовать чужие записки: полнейшая, глубочайшая правдивость, с какой они написаны Печориным, и беспощадная искренность в признании им своих недостатков.
Таким образом, мы, читатели, переходим от объективного рассказа жизненно, здорового человека к исповеди самого героя и имеем полную возможность заглянуть в самую глубину его души.
Такое построение романа вызывает у читателей безграничное удивление; мы не можем не воспринимать это как волшебное искусство. Опять нельзя не вспомнить слова гениального Белинского: «Перечитывая вновь «Героя нашего времени», невольно удивляешься, как все в нем просто, легко, обыкновенно и в то же время так проникнуто жизнью, мыслью, так широко, глубоко, возвышенно... Кажется, будто все это не стоило никакого труда автору...» А между тем, продолжает критик, «такая естественность и простота никогда не могут быть делом расчета и соображения: они плод вдохновения!»
Повесть «Тамань», которой начинается журнал Печорина, необычайно цельная, гармоничная. Наши великие прозаики Лев Толстой, Чехов, Тургенев и другие находили эту повесть самой совершенной в художественном отношении во всей русской прозе. Не нарушая поэтической гармонии повести, ее нельзя ни цитировать, ни подробно излагать содержание. Ее нужно прочесть сразу от начала до конца, всматриваясь в ее поразительную форму. Как будто все описываемое так прозаично, обыкновенно, а мы, читатели, чувствуем во всей полноте и море с его бурями, волнением, с живительным соленым воздухом, и контрабандистов. Но последнюю страницу повести, ярко рисующую катастрофу, которую внес в жизнь маленьких людей беспокойный, неугомонный Печорин, его собственную оценку своего поступка, нельзя не привести. Печорин заканчивает повесть сценой отъезда контрабандистов:
«— Послушай, слепой! — сказал Янко: — ты береги то место... знаешь? там богатые товары... скажи (имени я не расслушал), что я ему больше не слуга; дела пошли худо, он меня больше не увидит; теперь опасно; поеду искать работы в другом месте, а ему уж такого удальца не найти... Она поедет со мною; ей нельзя здесь оставаться; а старухе скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Нас же больше не увидит.
— А я? — сказал слепой жалобным голосом.
— На что мне тебя? — был ответ».
Янко сунул слепому в руку монету, промолвив: «На, купи себе пряников».— «Только?» —сказал слепой. «Ну, вот тебе еще», — и упавшая монета зазвенела, ударясь о камень. Слепой ее не поднял...
Долго при свете месяца мелькал белый парус между темных волн; слепой все сидел на берегу, и вот мне послышалось что-то похожее на рыдание: слепой мальчик точно плакал, и долго, долго... Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрбандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и, как камень, едва сам не пошел ко дну!»
Печорин с сожалением сознает, что он без цели нарушил покой этого мирка. Печорин понимал, что Янко и его спутница выйдут из положения: таким удальцам везде дорога, где море шумит. Но положение слепого было иное. Как Лермонтов описывает его? Слепому сунули в руку деньги, они упали и зазвенели о камни, — мальчик не шевельнулся, не поднял их. Автор замечает: «слепой мальчик точно плакал, и долго, долго...» Вот это повторение слова «долго» говорит так много о сочувствии автора слепому, о его способности понимать чужое горе. Какие простые слова и какая сила выражения в повторении их! Эту силу впечатления можно сравнить только с мощным аккордом грустной симфонии, который долго звучит в душе, А Лермонтов может вызывать такие чувства словом, простым словом...
Следующая глава романа, самая большая часть его, самая разнообразная и богатая по содержанию, — повесть «Княжна Мери». В ней больше действующих лиц, и все они нарисованы с высоким художественным мастерством. По композиции повесть сильно отличается от других повестей. Она дается в виде дневника Печорина. Эта форма позволяет герою романа говорить о самом себе. Личность его открывается перед читателем до ее глубоко скрытых черт. Соприкосновение Печорина со многими лицами романа рисует его характер полнее, разностороннее.
Из второстепенных лиц окружения Печорина по художественному изображению замечателен образ юнкера Грушницкого.
Это тоже тип того времени, но во всем противоположный Печорину.
Образ Грушницкого является обобщением огромной категории людей любой эпохи.
Грушницкий не живет непосредственно настоящей жизнью, соответственно своим силам, соответственно условиям своей жизни, а играет в ней роль. Самолюбие и подражательность в нем развиты в высшей мере. И этот тип порождало время, условия жизни. Лермонтов, создавая этот образ, стоял твердо на реальной почве. Отсутствие общественных интересов, с одной стороны, романтическая поэзия Марлинского — с другой, породили Грушницких во множестве, особенно на Кавказе. Грушницкий — из тех людей, которые в результате своего романтического фатализма, по словам Печорина, на все случаи жизни имеют готовые пышные фразы, важно драпируются в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания. Производить эффект — его наслаждение. Казаться героем — цель его существования. Он старается уверить всех, что он разочарован в жизни и в людях и обречен на страдание. Грушницкий старается слыть храбрецом. Печорин видел его в деле: он махает шашкой, бросается в атаку, зажмурив глаза. «Это что-то не русская храбрость!..» — замечает Печорин.
На Кавказ Грушницкий пошел служить добровольно, он гордо носит солдатскую шинель, старается изобразить из себя разжалованного. Печорин видел его насквозь. Грушницкий чувствовал это и не любил за это Печорина, но не стеснялся перед ним торжественно заявлять, что причины, заставившие его поступить в Кавказский полк, навсегда останутся тайной между ним и небесами. Грушницкий, в противоположность Печорину, который ощущал свою скуку и разочарование в жизни как истинное несчастье, украшал себя ими, как модными платьями. Самолюбие и тщеславие руководили им всегда и во всем. Самолюбие внушало ему мысль, что чувство его к княжне Мери небывалое. Ни с чего вообразил он, что и княжна пламенно любит его. И этот человек «исключительных чувств» был в действительности мелок и ничтожен. В дневнике от 3 июня Печорин записал свой разговор с Грушницким о Мери. Печорин спросил, как его дела с нею. Похвастаться Грушницкому было нечем, но он все-таки продолжал чувствовать себя героем необыкновенного романа.
«— ...Берегись, Грушницкий, она тебя надувает... — заметил ему Печорин.
— Она?.. — отвечал он, подняв глаза к небу и самодовольно улыбнувшись; — мне жаль тебя, Печорин!..»
Запись 5 июня. В ресторации был бал. Княжна танцевала с Печориным. Это взбесило Грушницкого:
«— Ты с нею танцуешь мазурку?.. Я должен был этого ожидать от девчонки... от кокетки... Уж я отомщу!»
В этот же вечер он шептался с драгунским капитаном, и этот трагический герой моментально превратился в мелкое ничтожество. Начинается заговор против Печорина, создается гнусная клевета на него и Мери. Сцены заговора и дуэли показали всю дряблость натуры Грушницкого, мелочность его самолюбия и подчеркнули силу и благородство натуры Печорина. Печорин много раз давал ему возможность спасти свою честь — признаться в клевете, но самолюбие и слабость характера Грушницкого победили, и он погиб.
Роман «Герой нашего времени» распространился по всей России, дошел до сосланных в Сибирь декабристов. Декабрист Кюхельбекер, друг Пушкина, ознакомившись с романом, записал: «Лермонтова роман — создание мощной души». Декабрист Якушкин уже после смерти поэта писал в письме к сыну о романе «Герой нашего времени»: «...на днях его здесь читали вслух, и я слышал из него несколько отрывков. Какой прекрасный талант был у этого Лермонтова; слушаешь его даже прозу с таким же чувством удовольствия, с каким слушаешь давно знакомую, хорошую музыку».
Вся читающая Россия, от Петербурга до сибирских рудников, дала высокую оценку «Герою нашего времени» и в творце его увидела гениального писателя. Царь же Николай, душитель всего живого в жизни России, писал по поводу этого романа своей жене за границу: «...Я прочел Героя до конца и нахожу вторую часть отвратительной, вполне достойной быть в моде. Это то же преувеличенное изображение презренных характеров, которые находим в нынешних иностранных романах. Такие романы портят нравы и портят характер... Итак, я повторяю, что, по моему убеждению, это жалкая книга, показывающая большую испорченность автора... Счастливого пути, господин Лермонтов; пусть он очистит свою голову, если это возможно, в сфере, в которой он найдет людей, чтобы дорисовать до конца характер своего капитана, предполагая, что он вообще в состоянии его схватить и изобразить».
Ироническое выражение царя: «Счастливого пути, господин Лермонтов», — после жестокого приговора крайне возмутительно. Отзыв царя о романе выдает полнейшую его ограниченность, невежество и ненависть к поэту.
1 Так называлась петербургская офицерская тюрьма.
2 К величайшему сожалению, никаких сведений об этой беседе двух
гениальных людей не сохранилось.
3 Ермолове. (Примеч. Лермонтова)
- Детство
- Переезд Лермонтова в Москву. Поступление в университетский Благородный пансион
- Лето в Середникове
- В Московском университете
- Переезд в Петербург
- Лермонтов в гвардейской школе
- Первые два года офицерской жизни
- Стихотворение «Смерть поэта»
- Первая ссылка на Кавказ
- Возвращение из ссылки в Петербург
- Жизнь Лермонтова на Кавказе
- Отпуск в Петербург
- Возвращение на Кавказ. Жизнь в Пятигорске
- Дуэль и смерть
- Заключение