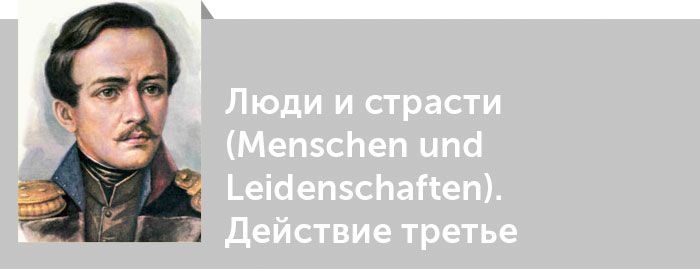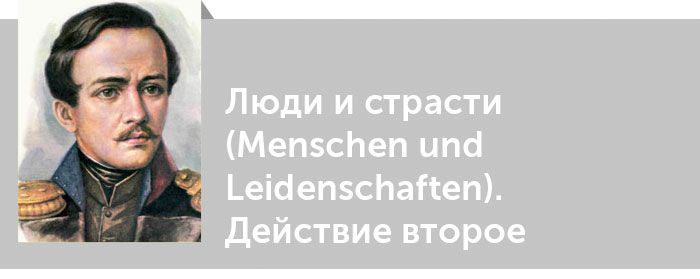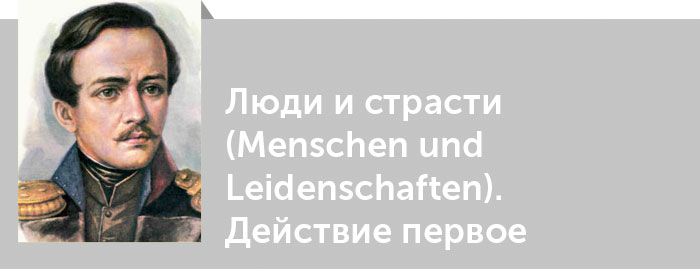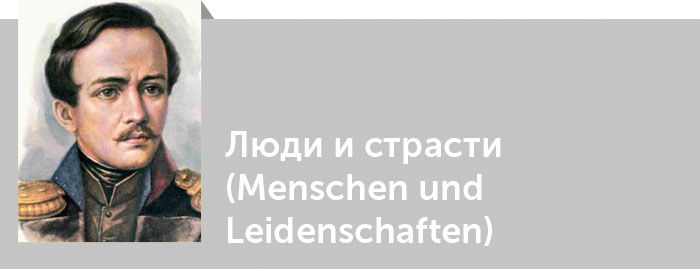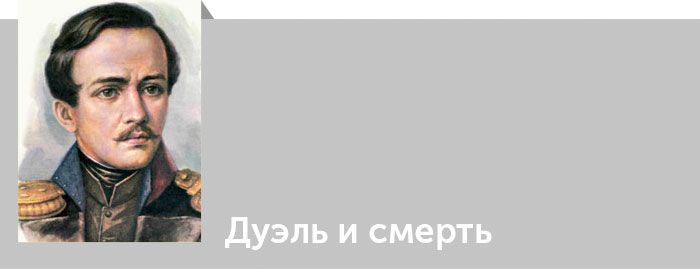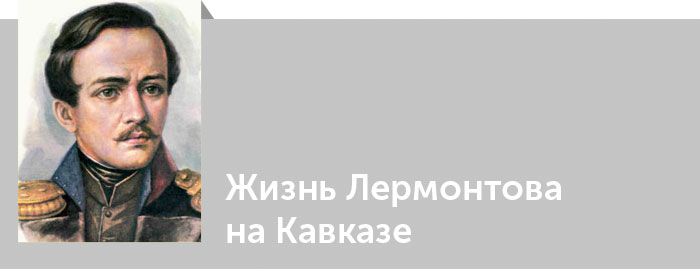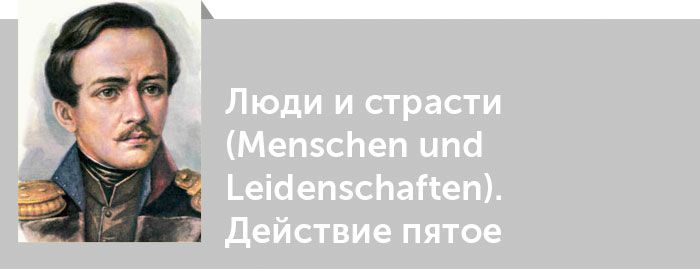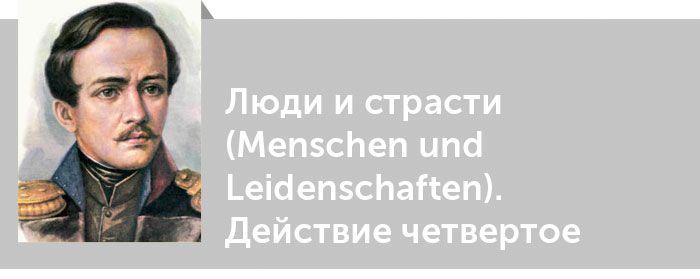Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Лермонтов в гвардейской школе
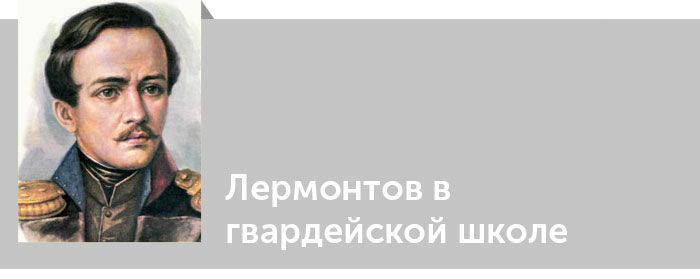
10 ноября 1832 года Лермонтов был зачислен юнкером в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в лейб-гвардии гусарский полк1. Позднее он определился в гвардейские уланы. Жизнь его круто изменилась. Свободолюбивый юноша, привыкший самостоятельно распоряжаться своим временем, теперь должен был подчиняться строгому режиму.
На беду Лермонтова, как раз в этот год шефом всех военных школ стал брат царя, великий князь Михаил Павлович. Свое внимание он особенно обратил на обучение строю и вскоре стал для всех грозой. Он был взыскателен до ничтожных мелочей. Малейшее нарушение в костюме вызывало его гнев: подпрапорщики подвергались наказанию, командиры рот — строгому выговору. Учебная программа в школе была сужена. Чтение художественной литературы запрещено.
Во время пребывания Лермонтова в гвардейской школе это запрещение было подтверждено приказом от 24 ноября 1833 года. «У кого, — гласил приказ,— найдены будут книги, не принадлежащие к классным предметам, уничтожать оные вовсе и виновных штрафовать за непослушание».
Если бы Лермонтов попался на глаза начальству с произведениями Пушкина или Байрона в руках, книги полетели бы в огонь, а Лермонтова посадили бы в карцер.
Учащимся нашего времени трудно даже представить себе, до какой степени абсурда доходили тогда реакционеры и мракобесы.
Учащиеся школы состояли исключительно из аристократической богатой молодежи, в преобладающей своей массе совершенно чуждой умственным интересам. Насколько строго, придирчиво относилось школьное начальство к выполнению внешней дисциплины, настолько снисходительно оно было к нарушениям моральных требований. В школе, по словам А. П. Шан-Гирея, «царствовал дух какого-то разгула, кутежа».
Чтобы яснее представить себе условия жизни в «заключении», как называл Лермонтов школу, приводим несколько приказов по школе, отданных во время пребывания в ней поэта.
Первый из них отдан через пять дней после поступления Лермонтова в школу и касается его бывшего товарища по пансиону Кости Булгакова.
«Приказ ноября 16 дня (1832 г.)
Сего числа ввечеру я пришел в камеру кавалерийских юнкеров, нашел там подпрапорщика Булгакова, спросил у него, к кому он пришел; Булгаков, указывая на корнета кавалерийского его величества полка — Охотникова, отвечал: к нему — Охотникову, вместо того, чтобы сказать — г. корнету Охотникову. Вследствие столь грубого и не приличного ответа рекомендую командующему ротой подпрапорщиков штабс-капитану Романусу перед ротой внушить Булгакову отношение подпрапорщика к офицеру, дабы он впредь не делал подобного невежества, и арестовать его на одни сутки».
«Приказ февраля 13 дня (1833 г.)
Подпрапорщик Горожанский, будучи отпущен со двора, осмелился отступить от предписанной формы, ехать в экипаже, за каковой непростительный поступок рекомендую ротному командиру г. полковнику Гельмерсену арестовать подпрапорщика Горожанского на неделю с содержанием на хлебе и воде и в продолжение целого года, т. е. до масляной недели 1834 г., не увольнять со двора».
«Приказание по отдельному гвардейскому корпусу.
9 мая 1834 г.
Его императорское высочество командир корпуса изволил заметить, что корнет кавалергардского его величества полка кн. Трубецкой 2-й, прогуливаясь в Летнем саду, шел рядом с состоящим в школе гвард. подпрапорщиков л.-гв. Преображенского полка подпрапорщиком Булгаковым.
А как неоднократно объявлено было, чтобы гг. офицеры отнюдь не ходили по улице рядом с нижними чинами, хотя бы то были самые ближайшие родственники, то с подпрапорщика Булгакова сделать надлежащее взыскание».
В чем состояло «взыскание», как расплачивались юнкера за «проступки», можно видеть из письма Булгакова к отцу от 8 мая 1834 года.
«Пишу вам из самого грустного места школы, любезный папенька, — из арестантской». И далее, описав свою прогулку с офицером, он рассказывает: «Его высочество изволил увидеть это (нам не позволено ходить рядом с офицерами) и отослал меня в школу. Прихожу, — генерал изволил обедать, прислал инвалида вестового за мной наблюдать до конца обеда. Вот одна обида, — как будто я беглый солдат, чтобы за мной присматривать. Потом его превосходительство изволил пожаловать. Вот все его слова от начала до конца: «Как смел негодный повеса гулять с офицерами, мальчишка скверный, порочишъ все заведение, стены наши не должны бы терпеть такого негодяя». Потом обратился к полковнику и приказал в наказание посадить меня под арест на неделю и потом до самого лагеря не пускать со двора, и когда других будут увольнять, то меня на этот день сажать на хлеб и воду. Вдруг закричал на меня: «Вон, негодяй, заприте его поскорей».
Признаюсь вам, виноват, что сделал проступок против службы, но вовсе не заслуживал ругательств начальника... Горько, горько, не раз утрешь кулаком слезы, — глотать такие пилюли в 22-м году от роду...»
В конце ноября 1832 года на практике по верховой езде в манеже Лермонтова ударила лошадь в ногу и переломила ему кость. Его вынесли из манежа без чувств. Три месяца Лермонтов пролежал в квартире у бабушки и вернулся в школу незадолго до весенних экзаменов2. После экзаменов вся школа должна была переехать в лагерь в Петергоф. Перед отъездом Михаил Юрьевич писал М. А. Лопухиной: «...Пишу к вам, сидя на классной скамейке; кругом меня шум, приготовления и пр... Надеюсь, вам будет приятно узнать, что я, пробыв в школе всего два месяца, выдержал экзамен в первый класс, и теперь один из первых. Это все-таки подает надежду на близкую свободу!»
Мотив, побудивший Лермонтова поступить в школу, снова прозвучал в этом письме.
Лагерная жизнь хорошо познакомила Михаила Юрьевича с нравами и обычаями юнкерской среды. Как человек живой, инициативный, он не мог оставаться в стороне от товарищей, с которыми был так тесно связан. «В юнкерской школе,— вспоминал бывший юнкер Меринский,— Лермонтов был хорош со своими товарищами, хотя некоторые из них не очень любили его за то, что он преследовал их своими остротами и насмешками за все ложное, натянутое и неестественное, чего никак не мог переносить».
Среди товарищей Лермонтов старался быть «как все», но, оставаясь наедине с самим собой, видимо, глубоко задумывался над своим будущим, старался подвергнуть анализу все, что происходило с ним. С полной откровенностью, как всегда, он пишет об этом М. А. Лопухиной 19 июня 1833 года:
«...Уже поздно. Я улучил свободную минуту, чтобы продолжать письмо. Сколько произошло во мне с тех пор, как к вам не писал, столько странного3
Вас коробит от этих выражений; но увы! скажи, с кем ты водишься, — и я скажу, кто ты» (Курсив мой. — М. Н.)
В обстановке лагерной жизни Лермонтов ничего не писал, но передумал много. Несколько позднее он сообщил М. А. Лопухиной:
«...Мы возвратились в город и скоро опять начнем наши занятия. Одно меня ободряет — мысль, что через год я офицер! и тогда, тогда... Боже мой! Если бы вы знали, какую жизнь я намерен вести! О, это будет восхитительно! Во-первых, чудачества, шалости всякого рода и поэзия, залитая шампанским».
Лермонтов с нетерпением ждет окончания курса, жаждет свободы, независимости и развлечений, но тут же дает очень строгую оценку своим планам, объясняя, почему остаются невыполненными его прежние высокие мечтания.
«Я знаю, что вы возопиете; но увы! пора моих мечтаний миновала; нет больше веры; мне нужны материальные наслаждения, счастье осязательное, такое счастье, которое покупается золотом, чтобы я мог носить его с собой в кармане, как табакерку, чтобы оно только обольщало мои чувства, оставляя в покое и бездействии мою душу» (Курсив мой —М. Н.)
В результате напряженной внутренней работы последних лет, глубоких раздумий Лермонтов уяснил свои высокие стремления, свои идеалы и свое призвание в жизни. Но он не нашел средств для осуществления своих идеалов, не мог стать на путь, по которому желал бы идти. Это его мучило и привело к утрате веры — не в свои идеалы, а в возможность в условиях реакции деятельной, полной общественного значения жизни.
«...вы видите, милый друг, — писал он в том же письме М. А. Лопухиной, — что с тех пор, как мы расстались, я таки несколько переменился. Как скоро я заметил, что прекрасные грезы мои разлетаются, я сказал себе, что не стоит создавать новых; гораздо лучше, подумал я, приучить себя обходиться без них...»
Все это письмо ясно говорит и о силе прежних увлечений Лермонтова и о горечи разочарования, когда он увидел, что на свои запросы к жизни не найдет ответа. Свою исповедь поэт заканчивает горькими словами: «Предупреждаю вас, что я не тот, каким был прежде: и чувствую, и говорю иначе, и бог весть, что из меня еще выйдет через год. Моя жизнь до сих пор была рядом разочарований...»
Такая душевная реакция после того, к чему Лермонтов пришел в конце московского периода жизни, психологически неизбежна. С какими думами он приехал в Петербург? Как можно определить его состояние? Лермонтов сам дал ответ:
В душе моей как в океане
Надежд разбитых груз лежит.
Разбитые надежды вызвали в нем мучительное опасение, что он кончит жизнь ничтожным человеком в условиях тогдашней жизни.
Однако внешне жизнь Лермонтова-юнкера ничем не отличалась от жизни его товарищей. В школе очень ценилась физическая сила. Лермонтов был хорошо развит физически, обладал и силой и ловкостью. Он успешно состязался с первым силачом школы, который руками вязал в узлы шомпола, как веревку.
За годы юнкерской жизни Лермонтов особенно близко сошелся с Вонлярлярским — будущим романистом, живым, остроумным рассказчиком. Лермонтов и Вонлярлярский своим остроумием и живыми беседами привлекали к себе многих юнкеров. Состязался Лермонтов в остроумных шутках и проказах с талантливым, но легкомысленным юнкером Булгаковым, которого не могли укротить никакие взыскания начальства.
Зимой 1834 года кто-то из юнкеров предложил издавать рукописный журнал «Школьная заря». Поэмы Лермонтова в этом журнале весьма ярко рисуют разнузданность юнкерской среды. Но, несмотря на такую внешне пустую жизнь, в душе поэта продолжали развиваться подлинно поэтические силы. Для товарищей он писал стихи в их вкусе, но тщательно скрывал от них то, что писал для себя. Потому-то ни один из его школьных товарищей не предугадал в нем будущего великого поэта.
Передавая слова Меринского, биограф Лермонтова П. А. Висковатов пишет: «По вечерам, после учебных занятий, поэт наш часто уходил в отдаленные классные комнаты, в то время пустые, стараясь туда пробраться не замеченным товарищами, и там один просиживал долго и писал до поздней ночи. Иногда он занимался рисованием, он недурно рисовал и любил изображать кавказские виды».
Под влиянием воспоминаний и рассказов о Кавказе (на одном курсе с Лермонтовым были два кавказца) Лермонтов в школе написал поэму «Хаджи Абрек» — на тему о кровной мести.
В 1833 году лирических стихотворений Лермонтов, видимо, не писал. Одно из немногих стихотворений, написанных в школе — «Когда надежде недоступный...», — замечательно как выражение скрытых дум и чувств поэта, идущих вразрез с тем, как он проявлял себя в окружавшей обстановке.
Никакие житейские осложнения, никакая среда не властны были угасить в нем душевные тревоги и основные устремления его души к родине.
В романе «Вадим» многие сцены из народной жизни дышат знанием народа и верой в него. «Панорама Москвы», написанная за 1833/34 учебный год, является выражением пламенной любви Лермонтова к Москве как к сердцу России.
«...Москва не безмолвная громада камней холодных, составленных в симметрическом порядке... нет! у нее есть своя душа, своя жизнь... Как у океана, у нее есть свой язык, язык сильный, звучный, святой, молитвенный!..»
Школа не угасила его творческих стремлений, но задержала их развитие. Написано Лермонтовым за это время, конечно, чрезвычайно мало для его таланта.
Шан-Гирей, который ближе всех видел жизнь Лермонтова, писал: «Домой он приходил только по праздникам и воскресеньям и ровно ничего не писал». Школа, несомненно, отняла у Лермонтова много времени, но, в общем, глубокого следа в моральном отношении не оставила, хотя сам он и назвал годы пребывания в ней «страшными годами». Влияние школы на него оказалось поверхностным.
По выходе Лермонтова из школы к нему приехал из Москвы друг его ранней юности — А. А. Лопухин. Эта встреча воскресила в Лермонтове дорогие ему воспоминания, и, как он сам выразился, «двух ужасных лет как не бывало». И А. П. Шан-Гирей в своих воспоминаниях утверждает, что влияние гвардейской школы на Лермонтова «пропало, как с гуся вода».
«Недостатки Лермонтова были недостатками всего светского молодого поколения в России, — сказал один современник его, — но достоинств его не было ни у кого».
Благородство, возвышенность и сила мыслей и чувств, твердость характера — все это составляло природу Лермонтова. В какие бы неблагоприятные условия ни ставила его жизнь, он всегда оставался верен своим высоким требованиям к себе и к жизни.
1 Юнкера, находившиеся в школе, числились в полках и носили мундир своего полка.
2 По возвращении Лермонтова в школу, повидимому, никаких внешних событий, которые сильно потрясли бы душу поэта, не произошло. А с другой стороны, можно сделать предположение, что Лермонтов во время болезни, которая приковала его к постели, но оставила его в обладании всех его духовных сил, даром времени не терял. Несомненно, Лермонтов, который в ту пору не мог понять, «что значит отдыхать», который говорил о себе: «Всегда кипит и зреет что-нибудь в моем уме», написал за это время немало и еще больше того напряженно и глубоко передумал и перечувствовал. Возможно, что за эти месяцы Лермонтов продолжал писать роман «Вадим» и успел довести его до 24-й главы, на которой роман обрывается; писал «Демона», вариант 1833 года.
3 В указанном письме есть строки, очень важные для понимания
душевного состояния Лермонтова, но, к сожалению, остававшиеся до настоящего
времени в неправильном переводе (оригиналы писем — на французском языке) и потому
не остановившие на себе должного внимания исследователей. «... Уже поздно. Я
улучил свободную минуту, чтобы продолжать письмо». Дальше по принятому до сих
пор переводу следует фраза: «С тех пор как я не писал к вам, со мной случилось
так много странных обстоятельств, что я, право, не знаю, каким путем идти мне,
по пути порока или глупости. Правда, оба эти пути часто приводят к той же
цели». В этой цитате особое значение имеет указание на какие-то странные
обстоятельства жизни, которые так повлияли на поэта. Обычно эти обстоятельства
связывались с гвардейской школой. Бесплодные поиски автора настоящей работы
хоть каких-нибудь указаний в архиве школы и в мемуарной литературе на «странные
обстоятельства», происшедшие в первый год школьной жизни поэта, натолкнули на
мысль проверить перевод письма.
Приведенная фраза в подлиннике написана так: «il y a tant de choses qui se sont passées en moi depuis je ne vous ai écrit, tant de choses étranges, que je ne sais moi-même, quelle route je vais prendre: celle du vice ou de la sottise...»
Здесь Лермонтов говорит не о внешних событиях, а о внутренних изменениях; он говорит: en moi (во мне), а не avec moi (со мной), это же совсем иной смысл придает фразе. Цитату следует читать так: «С тех пор как я не писал к вам, во мне произошло (а не «случилось») так много странных вещей (а не «обстоятельств» — это слово сильно меняет смысл письма), что я сам не знаю, каким путем идти...»
- Детство
- Переезд Лермонтова в Москву. Поступление в университетский Благородный пансион
- Лето в Середникове
- В Московском университете
- Переезд в Петербург
- Первые два года офицерской жизни
- Стихотворение «Смерть поэта»
- Первая ссылка на Кавказ
- Возвращение из ссылки в Петербург
- Дуэль с Барантом и вторая ссылка на Кавказ
- Жизнь Лермонтова на Кавказе
- Отпуск в Петербург
- Возвращение на Кавказ. Жизнь в Пятигорске
- Дуэль и смерть
- Заключение