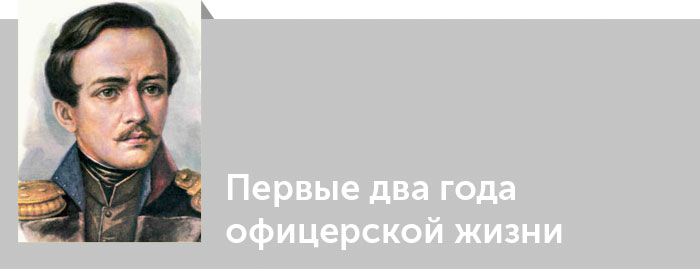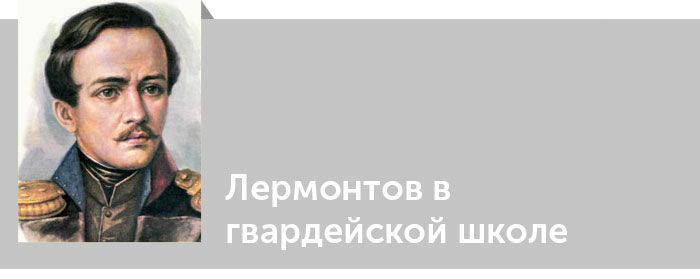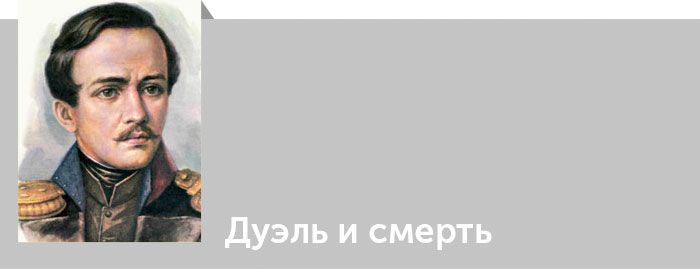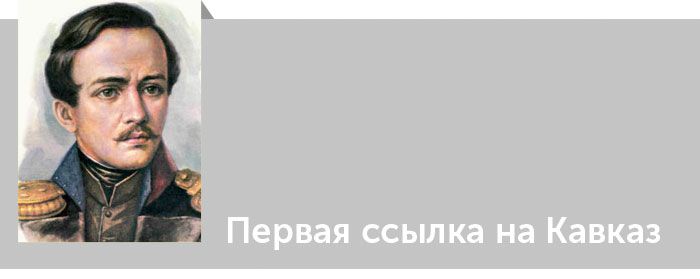Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Жизнь Лермонтова на Кавказе
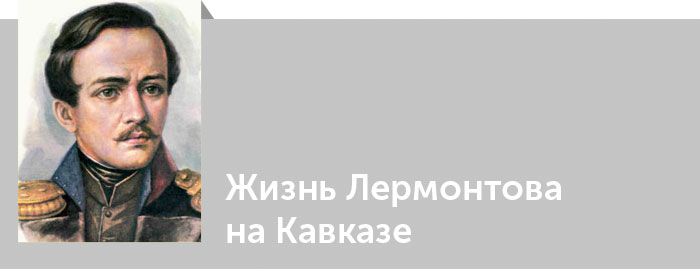
По приезде Лермонтова в Ставрополь главнокомандующий войсками Кавказской линии прикомандировал его к отряду генерала Галафеева, оперировавшего на левом фланге. Лермонтов был с этим отрядом в двух экспедициях: с 6 по 17 июля 1840 года — в Малую Чечню и с конца сентября до половины ноября — в Большую Чечню. В «Журнале военных действий» отряда описывается день за днем весь путь отряда и где и когда были столкновения с неприятелем.
Одно из жарких, кровопролитных сражений произошло на реке Валерик («Речке смерти») 11 июля. В этом сражении Лермонтов проявил, по отзывам участников боя и командующего отрядом генерала Галафеева, исключительную храбрость, самоотвержение и находчивость.
В «Журнале военных действий» отмечено, что Лермонтов передавал все приказания главнокомандующего войсками в самом пылу сражения в лесистом месте, что ставилось ему в особую заслугу, «ибо каждый куст, каждое дерево грозили всякому внезапной смертью».
После Валерикского боя генерал Галафеев, испрашивая награду Лермонтову, в графе «За что к награде представляется» писал: «Во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об ее успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы». После этого страшного, кровавого боя было еще несколько схваток с неприятелем. Через месяц Лермонтову был дан отпуск на Минеральные Воды.
12 сентября Лермонтов писал из Пятигорска своему другу Лопухину о Валерикском сражении, первом крупном сражении в своей военной практике: «...я не был нигде на месте, а шатался все время по горам с отрядом. У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2000 пехоты, а их до 6 тысяч; и все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел остались на месте, — кажется хорошо! — вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью...»
О пребывании Лермонтова на Водах не сохранилось сведений, кроме указанного письма к Лопухину. Но этот единственный документ о том времени очень ценен. В нем мы находим еще раз указание на одну прекрасную черту натуры Лермонтова, которую далеко не все видели в нем: это — его способность горячо, прочно привязываться к тем, к кому у него было дружеское расположение. Он пишет Лопухину: «... я ничего о тебе не слышу письменно. Пожалуйста, не ленись: ты не можешь вообразить, как тяжела мысль, что друзья нас забывают...»
Во второй половине сентября Лермонтов был уже на фронте в Чечне, в отряде того же генерала Галафеева, и продолжал неизменно проявлять отвагу во всех делах осенней экспедиции, которая закончилась в конце ноября. Вот что писал о Лермонтове генерал Галафеев: «Когда раненый юнкер Дорохов был вынесен из фронта, я поручил его начальству команду, из охотников состоящую. Невозможно было сделать выбора удачнее: всюду поручик Лермонтов, везде первый подвергался выстрелам... и во всех делах оказывал самоотвержение и распорядительность выше всякой похвалы...»
В делах с этой отборной командой Лермонтов проявил не только высокие достоинства бойца, но и талант командира. Он «...12 октября на фуражировке за Шали, пользуясь плоскостью местоположения, бросился с горстью людей на превосходного числом неприятеля и неоднократно отбивал его нападения на цепь наших стрелков... 15 октября он с командою первый прошел Шалинский лес, обращая на себя все усилия хищников... При переправе через Аргун он действовал отлично... и, пользуясь выстрелами наших орудий, внезапно кинулся на партию неприятеля, которая тотчас же ускакала в ближайший лес...» (Ракович, Тенгинский полк на Кавказе) .
«28 октября,— говорится дальше о Лермонтове-командире, — при переходе через Гойтинский лес Лермонтов первый открыл завалы, которыми укрепился неприятель, и, перейдя тинистую речку... выбил из леса значительное скопище...»
Нужно много страниц, чтобы выписать из походного журнала все описания отважных действий Лермонтова. Он остался верен обещанию, данному другу своему, М. А. Лопухиной, в 1832 году: «Итак, если начнется война, клянусь вам богом, что всегда буду впереди».
На деле он превзошел это обещание — он был не только впереди, но сражался с отвагой, «с отменным мужеством и самоотвержением» и знанием военного дела.
О Лермонтове времени экспедиций в Чечню оставил воспоминания генерал К. X. Мамацев, бывший тогда молодым артиллерийским офицером. «С людьми сближаясь осторожно», как писал о себе Лермонтов, с Мамацевым он близко и скоро сошелся. Интересно установить, чем Мамацев привлек внимание Лермонтова.
Артиллерист Мамацешвили Константин Христофорович был одних лет с Лермонтовым, родом грузин, очень культурный, образованный человек. Его предки отличались храбростью, за что и получили фамилию Мамацешвили, что в переводе на русский язык значит Храбрецов.
Первый боевой поход К. X. Мамацев совершил в Чечню в 1840 году. Впоследствии в течение многих лет, во всех походах Кавказской войны, Мамацев проявлял себя как неустрашимый воин, получил много орденов. Деятельное участие принимал при взятии Шамиля в плен и получил чин генерал-майора. В Крымскую войну Мамацев со своими войсками разбил тридцатичетырехтысячный корпус Селим-паши. В разгаре сражения был контужен в ногу ядром, но оставался в строю до конца боя. Семидесяти лет вышел в отставку и стал принимать самое деятельное участие в общественных делах Грузии, проявляя всегда себя как передовой человек. В 60-х годах он выступил с докладной запиской против грузинского дворянства, защищая проект освобождения крестьян с землей. После смерти Мамацева о нем дали самые лучшие отзывы в некрологах передовые люди Грузии1.
Все эти сведения о К. X. Мамацеве не относятся к периоду знакомства его с Лермонтовым. Но такой чуткий и проницательный человек, как Лермонтов, конечно, видел и чувствовал в нем, молодом, храбром воине, все задатки указанных достоинств.
К. X. Мамацев вспоминал о Лермонтове2, что, по его наблюдениям, Лермонтов был исключительно храбр, своей отвагой и удалью удивлял даже старых кавказских джигитов. Но он не всегда охотно подчинялся режиму и являлся со своей командой там, где находил нужным; в бою Лермонтов всегда искал самых опасных мест. Два раза в осеннюю экспедицию Лермонтов спас и Мамацева и его орудия от гибели. В тяжелом сражении близ Гойтинского леса в самый критический момент, когда гибель казалась неминуемой, Лермонтов со своим отрядом как из земли вырастал, и он и его отряд, как тигры, набрасывались на неприятеля. Не менее жаркий бой повторился 4 ноября и в Алдинском лесу, где дрались в течение восьми с половиной часов в узком лесном дефиле. Вся тяжесть боя легла на артиллерию. Раньше всех к орудиям Мамацева явился Лермонтов со своей командой.
«Здесь 4 ноября, — писал Мамацев, — было мое последнее свидание с поэтом. После экспедиции он уехал в отпуск в Петербург, а на следующий год с невыразимой скорбью узнали мы о трагической смерти его в Пятигорске».
Лермонтов и в походной жизни относился к людям так же, как и в петербургском обществе: с теми, в ком он чувствовал понимание, с людьми искренними, он был самим собой; со всеми остальными был таким, каким хотел казаться. Эту черту Лермонтова отмечает и Мамацев, который понял Лермонтова глубже других офицеров. Он пишет: «Натуру его постичь было трудно. В кругу своих товарищей, гвардейских офицеров, участвовавших вместе с ним в экспедиции, он всегда был весел, любил острить, но его остроты часто переходили в меткие и злые сарказмы, не доставлявшие особого удовольствия тем, на кого были направлены.
Когда он оставался один или с людьми, которых любил, становился задумчив, и тогда лицо его принимало необыкновенно выразительное, серьезное и даже грустное выражение; но стоило появиться хотя одному гвардейцу, как он тотчас же возвращался к своей банальной веселости, точно стараясь выдвинуть вперед одну пустоту светской петербургской жизни, которую он презирал глубоко. В эти минуты трудно было узнать, что происходило в тайниках его великой души».
Среди товарищей-офицеров находились и такие, которые готовы были всякое пустяковое нарушение военных правил поставить Лермонтову в укор. Например, барон Россильон упрекал поэта за то, что он ел с командой из одного котла и спал на чем попало. Барон усматривал в этом желание пооригинальничать. Такие близорукие люди, как Россильон, совершенно не понимали, что Лермонтов хотел разделить все неудобства походной жизни с теми, кто делил с ним риск, на который он вел их. О Лермонтове сохранились воспоминания, что он был прост с солдатами, доступен, на равном положении с ними делил невзгоды и трудности походной жизни. Даже в необыкновенной храбрости Лермонтова такие мелкие люди, как Россильон и ему подобные, усматривали желание порисоваться, — героическая отвага им была недоступна.
«Ему доставляло,— рассказывал офицер Пален, — как будто особенное удовольствие вызывать судьбу. Опасность или возможность смерти делали его остроумным, разговорчивым, веселым. Однажды вечером, во время стоянки, Михаил Юрьевич предложил некоторым лицам в отряде: Льву Пушкину (брату великого поэта. — М. Н.), Глебову, С. Долгорукову, декабристу Пущину и др. — пойти поужинать за черту лагеря. Это было небезопасно и, собственно, запрещалось. Неприятель охотно выслеживал неосторожно удалявшихся от лагеря и либо убивал, либо увлекал в плен. Компания. . . расположилась в ложбинке за холмом. Лермонтов, руководивший всем, уверял, что, наперед избрав место, выставил для предосторожности часовых, и указывал на одного казака, фигура коего виднелась сквозь вечерний туман в некотором отдалении. С предосторожностями был разведен огонь, причем особенно старались сделать его незаметным со стороны лагеря. Небольшая группа людей пила и ела, беседуя о происшествиях последних дней и возможности нападения со стороны горцев. Лев Пушкин и Лермонтов сыпали остротами и комическими рассказами. Особенно весел и в ударе был Лермонтов. От выходок его катались со смеху, забывая всякую осторожность. На этот раз все обошлось благополучно. Под утро, возвращаясь в лагерь, Лермонтов признался, что видневшийся часовой был не что иное, как поставленное им, наскоро сделанное, чучело, прикрытое тонкою и старой буркой».
За отличия в военных делах Лермонтов был три раза представлен к наградам. В первый раз за дело при Валерике 11 июля — к ордену св. Владимира 4-й степени с бантом (орден за военные отличия; без банта — орден за гражданские заслуги). Вторично Лермонтов был представлен за отличие к награждению в осеннюю экспедицию орденом св. Станислава 3-й степени и золотой саблей с надписью: «За храбрость», причем особенно отмечались его расторопность и пылкое мужество. В третий раз генерал Галафеев испрашивал для Лермонтова «перевод в гвардию тем же чином с отданием старшинства».
Но храбрость и мужество Лермонтова не встретили в правящих сферах Петербурга внимания, и никаких наград он не получил. Царь по рассмотрении представленного о Лермонтове наградного списка мало того, что «не изволил изъявить монаршего соизволения на испрашиваемую награду», но еще заметил, что Лермонтов находился в бою с особо порученной ему казачьей командой, и приказал, «чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку», то-есть фактически лишил Лермонтова возможности вновь отличиться в бою как офицеру.
Валерикское сражение произвело на Лермонтова сильнейшее впечатление. Под воздействием его Лермонтов написал замечательное стихотворение «Я к вам пишу: случайно! право» («Валерик»). С необычайной простотой и правдой, в предельно сжатой форме, ярко описал поэт этот жестокий бой. До военных рассказов Л. Толстого в русской литературе никто не дал картин сражений с такой реалистической силой.
Осуждая войны, Лермонтов различал войну освободительную от захватнической.
Не он ли, описывая величайшее событие национально-освободительной войны — Бородинское сражение, — вложил в уста русского воина-богатыря замечательные, вдохновенные слова:
Уж постоим мы головою
За родину свою!
В сжатой форме описания Валерикского сражения скрывается богатейшее содержание; оно разнообразно по мотивам, глубоко и сложно по думам и переживаниям. В переживаниях поэта отражаются и его отношение к войне и его раздумья над жизнью. Это стихотворение не только драгоценный вклад в художественную литературу как отражение взглядов Лермонтова на войну — оно имеет и очень большое автобиографическое значение. Без этого стихотворения мы не могли бы понять внутреннюю жизнь поэта в этот период, насыщенный такими исключительными событиями, какие несла с собой война.
По «Валерику» и по двум-трем скупым строкам письма Лермонтова к Лопухину видно, что год войны широко раздвинул перед ним жизненный горизонт. Свидетельства Белинского, Краевского и Самарина о том, что Лермонтов в этот тревожный год задумал многое написать, подтверждают мысль о значимости этого года в жизни поэта.
Сильные впечатления от тревожной походной жизни и особенно от кровопролитного Валерикского сражения навели Лермонтова на глубокие размышления.
Поэт пишет «безыскусственный рассказ», стихотворное грустное послание В. А. Лопухиной о своих переживаниях и затаенных думах.
Чувствуется, что в сжатых словах этого послания о прошлом скрываются целые страницы жизни поэта.
Непосредственно пережитые впечатления от Валерикского сражения так сильны, что поэт отходит от размышлений о прошлом и дает со всей мощью своего гения живые картины окружающей действительности и страшного, кровавого сражения.
Картина сражения широко охвачена Лермонтовым: стоянка отряда, подготовка к бою, постепенное продвижение отряда под «градом пуль с вершин дерев», отдельные схватки с врагом, зловещее затишье перед боем, как перед грозой, наконец, самый бой — все это поэт описывает так живо, так ярко, что перед читателем все оживает, все движется, создается ощущение действительной жизни.
В десяти строках Лермонтов дал страшную, незабываемую картину боя:
...Вон кинжалы,
В приклады! — и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко.
Как звери молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть...
(И зной и битва утомили
Меня), но мутная волна
Была тепла, была красна.
Эти стихи являются образцом необыкновенного искусства Лермонтова в сжатой форме выражать большое содержание.
После описания напряженного боя Лермонтов дает трогательную картину, вскрывающую под грубой внешностью солдат возвышенные, благородные чувства.
На берегу, под тенью дуба,
Пройдя завалов первый ряд,
Стоял кружок. Один солдат
Был на коленях; мрачно, грубо
Казалось выраженье лиц,
Но слезы капали с ресниц,
Покрытых пылью... На шинели,
Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал...
На ружья опершись, кругом
Стояли усачи седые...
И тихо плакали... потом
Его остатки боевые
Накрыли бережно плащом
И понесли. Тоской томимый,
Им вслед смотрел (я), недвижимый...
Скорбное чувство, овладевшее поэтом под впечатлением страданий умирающего и тихих слез седых бойцов, было так сильно, так велико, что оно поглотило печаль его по товарищам погибшим.
Заканчивает Лермонтов свое повествование о Валерикском сражении глубокой обобщающей думой, по содержанию великого, вечного значения:
Окрестный лес, как бы в тумане,
Синел в дыму пороховом.
А там вдали грядой нестройной,
Но вечно гордой и спокойной,
Тянулись горы — и Казбек
Сверкал главой остроконечной.
И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?
Противопоставление вечно гордому покою гор Кавказа жалкого человека с его суетною жизнью и враждой придает тайной сердечной грусти Лермонтова необычайную глубину.
В «Валерике» сказалась еще одна черта характера Лермонтова — какое-то горделивое достоинство, тонкое внутреннее благородство; во всем стихотворении нет ни малейшего намека на участие его в делах, в которых он много раз подвергал себя смертельной опасности, на проявление им храбрости, отваги и мужества.
В конце года военные действия были приостановлены. Лермонтов жил в Ставрополе, где собралась в то время большая компания военной молодежи, принимавшая участие в военных действиях. Часто наезжал в Ставрополь живший в одной из кубанских станиц декабрист М. А. Назимов. Из декабристов в Ставрополе жили Нарышкин, Кривцов, Голицын.
М. А. Назимов позднее так рассказывал о встречах Лермонтова с декабристами: «Лермонтов сначала часто захаживал к нам и охотно и много говорил с нами о разных вопросах личного, социального и политического мировоззрения. Сознаюсь, мы плохо друг друга понимали... Над некоторыми распоряжениями правительства, коим мы от души сочувствовали и о коих мы мечтали в нашей несчастной молодости, он глумился». Статьи журналов, особенно критические, которые радовали декабристов, не вызывали в нем одобрения.
В Лермонтове, при его молодости, поражает проницательность и верность чутья при обсуждении животрепещущих вопросов. Взгляды Лермонтова по социально-политическим вопросам были шире, глубже, нежели у декабристов, острота оценок которых, в силу их полной оторванности от жизни после пережитого, была несколько притуплена. Их могли радовать и утешать те проблески свободной мысли, которые прорывались в прогрессивных журналах вопреки свирепой николаевской цензуре.
Лермонтов же глубоко осмысливает явления окружающей действительности, подвергает ее в своих произведениях резкой обличительной критике, не хочет и не может мириться с нею ни в какой мере. По своему мировоззрению Лермонтов в это время является провозвестником революционно-демократических взглядов, получивших свое полное развитие в 50—60-х годах.
Как лично относился Лермонтов к старшим декабристам, мы можем судить не только по его отношениям с А. И. Одоевским, но и по свидетельству самого М. А. Назимова.
Васильчиков писал впоследствии о Лермонтове: «...когда в невольных странствованиях и ссылках удавалось ему встречать людей другого закала, вроде Одоевского, он изливал свою современную грусть в души людей другого поколения, других времен. С ними он действительно мгновенно сходился, их глубоко уважал, и один из них, ещё ныне живущий, М. А. Назимов, мог бы засвидетельствовать, с каким потрясающим юмором он описывал ему, выходцу из Сибири, ничтожество того поколения, к коему принадлежал».
М. А. Назимов ответил:
«...спешу подтвердить истину этого показания. Действительно, так не раз высказывался Лермонтов мне самому и другим его близким в моем присутствии. В сарказмах его слышалась скорбь души, возмущенной пошлостью современной ему великосветской жизни и страхом неизбежного влияния этой пошлости на прочие слои общества». После восторженного отзыва о Лермонтове как поэте Назимов заканчивает, что память о нем «дорога всем умеющим ценить сокровища родного языка, а особенно тем, которые близко знали и любили Лермонтова».
Живя в Ставрополе, Лермонтов из писем бабушки знал, что она хлопочет об отпуске для него и что о нем послан на Кавказ запрос от военного министра. В Петербург был послан самый лестный отзыв о поэте, и Лермонтову был разрешен отпуск. 14 января 1841 года он получил отпускной билет и выехал из Ставрополя в Петербург.
1 Эти биографические данные получены от лектора Тбилисского университета Г. Квиташвили.
2 Газета «Кавказ» за 1898 год.
- Детство
- Переезд Лермонтова в Москву. Поступление в университетский Благородный пансион
- Лето в Середникове
- В Московском университете
- Переезд в Петербург
- Лермонтов в гвардейской школе
- Первые два года офицерской жизни
- Стихотворение «Смерть поэта»
- Первая ссылка на Кавказ
- Возвращение из ссылки в Петербург
- Дуэль с Барантом и вторая ссылка на Кавказ
- Отпуск в Петербург
- Возвращение на Кавказ. Жизнь в Пятигорске
- Дуэль и смерть
- Заключение