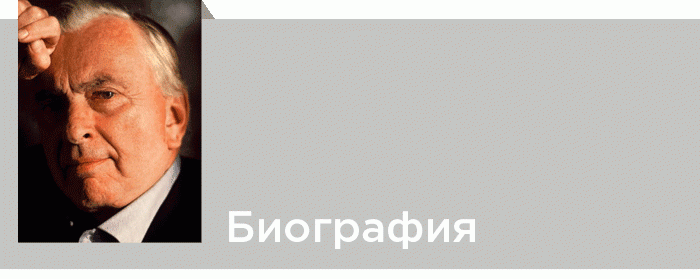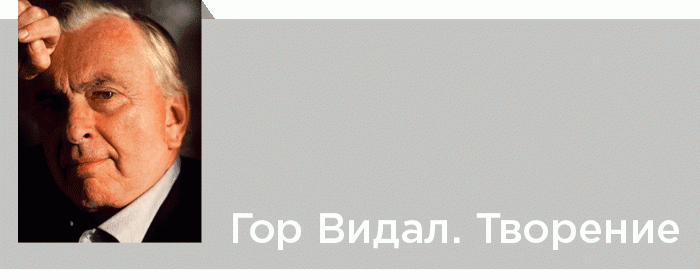Гор Видал. Император Юлиан
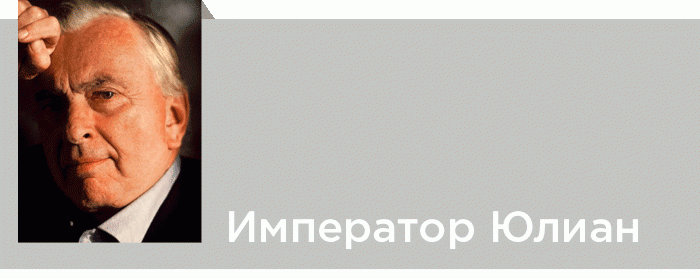
(Отрывок)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ЮНОСТЬ
-I-
Либаний - Приску Антиохия, март 380 г.
Вчера утром у входа в аудиторию мне преградил путь ученик-христианин и спросил голосом, исполненным злорадства:
- Ты слышал, учитель, что произошло с императором Феодосием?
Я откашлялся и хотел было выведать, к чему он клонит, но он опередил меня и выпалил:
- Император принял крещение!
Я принял равнодушный вид: в наше время любой может оказаться тайным осведомителем. Кроме того, эта весть не застала меня врасплох. Еще прошлой зимой, когда Феодосий заболел и епископы, как коршуны на добычу, слетелись и принялись за него молиться, я уже понимал - если он выздоровеет, они поставят это себе в заслугу. Теперь и у нас на востоке появился император-христианин под стать Грациану, императору-христианину на западе. Это было неизбежно.
Я сделал попытку пройти, но юноша еще не завершил столь приятного его сердцу дела.
- А еще Феодосий издал эдикт. Его только что огласили перед зданием сената. Я слышал. А ты?
- Нет. Но мне всегда нравился слог императорских эдиктов, - уклончиво ответил я.
- Едва ли этот эдикт будет тебе по нраву. Император объявил еретиками всех, кто не придерживается Никейского символа веры.
- Боюсь, я не силен в христианском богословии. Вряд ли эдикт касается тех, кто остался верен философии.
- Он касается всех подданных Восточной империи. - Христианин выговорил эти слова медленно, не сводя с меня глаз. - Император даже назначил особого чиновника - инквизитора, которому даны полномочия выявить всех иноверцев. Время терпимости прошло.
Я онемел; перед глазами ослепительно сверкнуло солнце, всё смешалось, и мне показалось, что я теряю сознание или даже умираю. В чувство меня привели голоса двух подошедших учителей. По тону их приветствий я сразу понял, что им уже известно об императорском эдикте и теперь они сгорают от любопытства: как-то я отреагирую на эту весть? Мой ответ не доставил им удовольствия.
- Безусловно, для меня это не новость, - ответил я. - Как раз на днях мне писала об этом императрица Постумия… - сочинял я на ходу. Я, увы, вот уже несколько месяцев как не получал от императрицы вестей, но не преминул напомнить врагам, в какой милости я у Грациана и Постумии. Унизительно прибегать к подобной защите, но ничего не поделаешь - время ныне опасное.
Так и не прочитав своей лекции, я тотчас удалился домой. Кстати, живу я теперь в Дафне, очаровательном предместье Антиохии, которое предпочел городу из-за царящей там тишины, - с возрастом я стал просыпаться от малейшего шума, а потом никак не могу уснуть. Ты легко себе представишь, как невыносима стала для меня жизнь в прежнем городском доме. Ты, наверно, помнишь этот дом: там меня посетил император Юлиан, когда… Ах да, я запамятовал: тебя там тогда не было, и как мы об этом сожалели! Вообще память стала играть со мной скверные шутки. Дабы ничего не забыть, приходится писать самому себе записки, которые потом зачастую теряются. Когда же наконец их удается отыскать, то - о ужас! - я порой не могу разобрать собственного почерка. Старость не щадит нас, друг мой. Подобно вековым деревьям, мы начинаем засыхать с верхушки.
В городе я бываю крайне редко, как правило, только для чтения лекций, ибо люди, даже близкие, удручают меня своею крикливостью и вечными ссорами, своим пристрастием к азартным играм и чувственным удовольствиям. Они безнадежно легкомысленны. Светильники превращают ночь в день, а мужчины почти поголовно сводят волосы на теле, так что их трудно отличить от женщин… Подумать только, и в честь этого города я написал хвалебную речь! И все же антиохийцы, по-моему, заслуживают снисхождения: они - не более чем жертвы всеразлагающего душного климата, близости к Азии и, разумеется, пагубного христианского учения, согласно которому окропление водой (а также небольшое пожертвование в пользу церкви) смоет все грехи и можно грешить снова и снова.
Сейчас, когда я сижу в своем кабинете, окруженный нашими опальными друзьями - греческими книгами, что научили человека мыслить, позволь поделиться с тобою мыслями, посетившими меня прошлой ночью, которую я провел без сна, причиной чему не только эдикт: два кота сочли нужным усугубить мое отчаяние своими похотливыми воплями (только египтянам могло прийти в голову поклоняться этим мерзким животным!). Сегодня я изнурен, но тверд в своем решении. Мы должны нанести ответный удар, и неважно, что нас ждет, - речь идет о судьбах цивилизации. В эту бессонную ночь я обдумывал различные варианты обращения, которое следует послать нашему новому императору. Копия его эдикта лежит сейчас передо мной. Написан он убогим, казенным греческим языком - такой ныне в ходу у епископов, топорность слога которых может сравниться лишь с путаницей в их же мыслях. Словом, весьма схоже с протоколами знаменитого собора - где он происходил? Кажется, в Халкедоне? Помнишь, как мы над ними когда-то потешались! Сколь беззаботное время, безвозвратно ушедшее, если только мы не начнем немедленно действовать.
Приск, мне шестьдесят шесть лет, а ты, помнится, на двенадцать лет меня старше. Мы достигли той черты, когда смерть - нечто естественное, и бояться ее нет смысла, в особенности нам, ибо в чем состоит суть философии, как не в примирении человека с неизбежностью смерти? Разве мы не истинные философы, свыкшиеся с мыслью о том, что нам нечего терять, кроме того, с чем так или иначе все равно придется вскоре расстаться? Со мною в последние годы случилось несколько апоплексических ударов, сопровождавшихся потерей сознания. Они отняли у меня много сил, а мой злополучный кашель этой, против обыкновения, необычайно дождливой зимой чуть было не свел меня в могилу, да и сейчас я в любую минуту могу от него задохнуться. Кроме того, мое зрение продолжает слабеть, не говоря уже о страшных мучениях, которые доставляет мне подагра. Из этого с неотразимой логикой вытекает: бояться нам нечего, объединим усилия и дадим отпор нечестивым христианам, пока они еще не разрушили окончательно столь милый нашему сердцу мир. Вот мой замысел. По возвращении из Персии семнадцать лет назад ты поведал мне, что после смерти нашего возлюбленного друга и ученика императора Юлиана в твои руки попали его неоконченные записки. Я давно хотел обратиться к тебе с просьбой прислать их копию - единственно для того, чтобы самолично ознакомиться с нею. В то время мы оба понимали: о публикации этих записок не может быть и речи - при всей популярности Юлиана, которая, кстати, сохранилась и по сей день, несмотря на то, что все сделанное им для возрождения истинных богов и было уничтожено. При императорах Валентиниане и Валенте приходилось быть осмотрительными и осторожными, чтобы сохранить возможность преподавать в академиях. Но теперь, когда появился этот новый эдикт, я первый заявляю: прочь осторожность! Кроме двух дряхлых тел, нам нечего терять, приобретем же мы вечную славу: требуется лишь опубликовать записки Юлиана с приложением его биографии, которую может написать любой из нас или мы вместе. Правда, я знал его лучше всех, зато ты был с ним в Персии и присутствовал при его кончине. Таким образом, мы вдвоем, я - его учитель и ты - его придворный философ, можем восстановить его доброе имя и привести веские доказательства его правоты в борьбе с христианством. Мне уже доводилось писать о Юлиане, и достаточно смело. Прежде всего я имею в виду надгробную речь, которую сочинил вскоре после его смерти, сумев, если можно так выразиться, вызвать слезы даже на глазах жестокосердных христиан. Вскоре после этого я опубликовал свою переписку с Юлианом. Кстати, один экземпляр этой книги я послал тебе в подарок и, хотя ты так и не известил меня о его получении, искренне надеюсь, она показалась тебе достойной внимания. Если же моя книга почему-либо до тебя не дошла, я охотно вышлю тебе еще один экземпляр. Все эти годы я бережно хранил письма Юлиана ко мне, а также копии моих ответов ему. Нельзя полагаться на то, что великие мира сего сохранят твои письма; а с их исчезновением тебя будут вспоминать разве что как неизвестного собеседника, о ходе мыслей которого можно лишь с великим трудом догадываться по сохранившейся части переписки (к тому же порой менее ценной!). Наконец, сейчас я готовлю речь, которую назову "Отмщение за императора Юлиана". Я намерен посвятить ее Феодосию.
Дай мне как можно быстрее знать, согласен ли ты с моим планом. Повторяю: нам нечего терять, мир же может многое приобрести. Между прочим, в Антиохии недавно появилось знамение времени - латинская академия, и ученики устремились туда толпами. Кровь стынет в жилах! Молодые люди бросают греческую философию ради римского права, надеясь преуспеть на государственной службе. На моих лекциях по-прежнему много учеников, но многие из моих собратьев буквально умирают голодной смертью. Недавно какой-то ученик (христианин, разумеется) весьма тонко намекнул, что-де и мне, Либанию, неплохо бы выучиться латыни! В мои-то годы, посвятив всю жизнь греческому! Я ответил, что, поскольку я не юрист, мне нечего читать на этом уродливом языке, произведшем на свет лишь одну поэму - да и то жалкое подражание нашему великому Гомеру.
Надеюсь, после стольких лет нашего обоюдного молчания это письмо застанет тебя и твою несравненную супругу Гиппию в добром здравии. Завидую вам - вы живете в Афинах, городе, которому сама природа предназначила быть центром нашей вселенной. Стоит ли добавлять, что я, разумеется, возмещу все расходы по переписке рукописи Юлиана? К счастью, в Афинах переписчики берут дешевле, чем у нас, в Антиохии. Книги всегда обходятся дороже в тех городах, где их меньше всего читают!
Приписка: только что подтвердился давний слух - умер наконец персидский царь Шапур. Ему было уже за восемьдесят, и большую часть жизни он провел на престоле. Знаменательное совпадение: царь, которому удалось сразить нашего возлюбленного Юлиана, умирает как раз в тот момент, когда мы намереваемся возродить память о нем. Как-то мне говорили, будто Шапур читал мою "Жизнь Демосфена" и пришел от нее в восхищение. Какое это чудо - книги! Они пересекают миры и переживают столетия, побеждая невежество и, наконец, само жестокое время. Даруем же Юлиану новую жизнь - на этот раз вечную!
Приск - Либанию Афины, март 380 г.
Действительно, эдикт Феодосия дошел и до нас, но в нашей академии склоняются к мысли, что, несмотря на его суровый тон, гонения на нас вряд ли начнутся. Школы процветают. Чада Христовы стекаются к нам со всех сторон, желая приобщиться к цивилизации, и, на мой взгляд, мало чем отличаются от своих сверстников - эллинов. Впрочем, молодые люди вообще кажутся мне теперь все более похожими друг на друга: они задают одни и те же вопросы и тут же сами дают на них одинаковые ответы. Я отчаялся кого-нибудь чему-нибудь научить, а меньше всего - самого себя. С двадцати семи лет меня не посетила ни одна новая мысль, вот почему я не публикую своих лекций, тем более, что многие так поступают исключительно по тщеславию или чтобы привлечь новых учеников. В свои семьдесят пять лет (я старше тебя не на двенадцать лет, а на девять) я превратился в пустой кувшин. Стукни по мне - и раздастся препротивный гулкий звук. Моя голова подобна гробнице, такой же пустой, как та, из которой якобы сбежал воскресший Иисус. Теперь меня больше всего занимают Кратет и ранние киники, в меньшей степени - Платон и прочие. Я вовсе не уверен, что в центре вселенной находится божественное Единое и не доверяю магам, в отличие от Юлиана, который был излишне легковерен. Мне часто казалось, что Максим злоупотребляет его добродушием. Вот кого я на дух не переносил, так это Максима: сколько времени отнял он у Юлиана своим вызыванием духов и прочей несусветной галиматьей! Как-то я пытался открыть императору на него глаза, но Юлиан только рассмеялся и сказал: "Кто знает, в какую дверь способна войти мудрость?"
Что же касается твоего замысла - опубликовать его записки, то я вовсе не уверен, что биография Юлиана, даже написанная в благожелательном тоне, произведет в наше время хоть малейшее воздействие на умы. Феодосий чужд литературе, это грубый солдафон, к тому же епископы крутят им как хотят. Он мог бы, разумеется, разрешить опубликовать биографию своего предшественника, тем более, что Юлиан до сих пор вызывает у людей восхищение - правда, вовсе не как философ. Юлианом восторгаются, так как он был молод и красив, да к тому же он - самый удачливый полководец нашего века; людям же свойственно преклоняться перед полководцами, которые одерживают победы, - поэтому, кстати, в наше время и нет героев. Только если Феодосий и даст разрешение на публикацию, в биографии Юлиана наверняка не останется и намека на религиозные вопросы. Уж об этом епископы позаботятся, ведь ничто на свете не может сравниться в ярости с христианским епископом, учуявшим "ересь", как именуют они всякое мнение, отличное от их собственного. При этом с особой уверенностью они судят о предмете, в котором разбираются так же плохо, как и все люди, - я имею в виду смерть. И все же я не хочу лезть с ними в драку: я-то один, а их вон сколько! Хотя я, как ты столь утешительно намекаешь, стар и жизнь моя подходит к концу, здоровье мое, на удивление, крепко. Говорят, на вид мне больше сорока не дашь, и я способен к совокуплению с женщиной почти в любое время суток - к великому негодованию Гиппии, которая за последние годы сильно сдала, и немалому удовольствию молодых женщин в некоем квартале Афин, который тебе, без сомнения, знаком… по романам милетской школы!
Надеюсь, тебе все ясно? У меня нет ни малейшего желания быть сожженным заживо, побитым камнями или приколоченным к дверям какой-нибудь христианской церкви - "склепа", как величал их Юлиан. Можешь лезть на рожон, если тебе так неймется, я буду мысленно тебе рукоплескать, но сам не напишу о Юлиане ни строчки при всей моей любви к нему и тревоге, которую внушает ход событий в мире с тех пор, как этот проходимец Константин запродал нас епископам.
Свои записки Юлиан писал в последние четыре месяца своей жизни, начиная с марта 363 года. Почти каждую ночь персидского похода после выступления из Иерополя он диктовал воспоминания о своей юности. Записки эти вышли несколько сумбурными, так как он был человеком живым и порывистым, что и отразилось на его стиле. Как-то Юлиан сказал мне, что хотел бы написать свою автобиографию, взяв за образец "Наедине с собой" Марка Аврелия, но ему не хватило собранности этого писателя. Кроме того, на Юлиана оказал влияние Ксенофонтов "Анабасис", так как шли мы тем же путем, что и Ксенофонт восемь столетий назад. Юлиан всегда живо интересовался историей и любил осматривать достопримечательности, поэтому в его записках прошлое перемешалось с настоящим. Тем не менее эта книга вышла занимательной, а если она несовершенна, то лишь из-за того, что трудно быть сразу императором, философом и полководцем. В записках Юлиана ты также найдешь резкие суждения обо всех нас. Надеюсь, ты простишь ему это, как простил я: он предчувствовал, что у него очень мало времени, и старался высказать все, что накипело на душе. Что же касается его таинственной смерти, то у меня есть насчет этого некоторые догадки, но ими я поделюсь с тобой позже.
Я так и не мог решить, что мне делать с рукописью Юлиана. Когда он умер, я забрал себе все его личные бумаги, опасаясь, что его преемники-христиане их уничтожат. У меня, разумеется, не было на эти документы никаких прав, но я не жалею о своей краже. О записках Юлиана я не рассказывал никому до своего благополучного возвращения в Антиохию; здесь я, должно быть, проболтался о них в нашем разговоре после того, как ты прочел нам свою знаменитую надгробную речь, - вот как потрясло меня твое красноречие.
Сейчас по моему заказу с рукописи снимают хорошую копию. Не знаю, с чего это ты взял, будто переписка книг обходится здесь дешевле, чем в Антиохии! Совсем наоборот, она обойдется примерно в восемьдесят золотых солидов, которые прошу прислать со следующей почтой. По получении этой суммы я отправлю тебе книгу и делай с ней все, что заблагорассудится. У меня к тебе единственная просьба - о том, что я имею к этому какое-нибудь отношение, ни звука. У меня нет ни малейшего желания стать мучеником ни сейчас, ни когда-либо в будущем.
По-моему, я писал тебе о твоем сборнике писем. Я действительно его получил и очень тебе благодарен. Все мы в неоплатном долгу перед тобой за то, что ты сохранил эти письма, особенно свои письма к Юлиану: сколько в них заключено мудрости! Вряд ли найдется на свете еще один философ, который бы проявил такую заботу о потомках и сохранил для них копии всех своих писем до единого, понимая: даже наименее значительные из его творений имеют такую же непреходящую ценность, как и его же великие труды. Мы с Гиппией желаем тебе доброго здоровья.
Либаний - Приску Антиохия, апрель 380 г.
Ты и представить себе не можешь, какое наслаждение я испытал, получив сегодня вечером твое письмо. Я так торопился вновь, если можно так выразиться, услышать твой голос, что, снимая печати, порвал и сам драгоценный свиток. Но не беспокойся: твое письмо будет бережно подклеено и сохранено, ибо в любом детище твоего гения явственно запечатлен эллинский дух, который необходимо сохранить для будущих поколений.
Начну с того, что доставило мне наибольшую радость. Речь пойдет о твоей неослабевающей потенции. Нас, кого постигла иная участь, не может не радовать то, что существуют немногие избранные, коих всеобщая закономерность печального увядания обошла стороной. Поистине боги благоволят к тебе, а ты, по всему видно, с наслаждением пользуешься их дарами и в свои восемьдесят не собираешься вздыхать, подобно Софоклу: "Наконец-то я освободился от жестокого и безумного властелина!" Судя по всему, ты отлично ладишь со своим "властелином", и эта гармония тем более приятна, что Гиппия на все закрывает глаза. Немного найдется в истории примеров, чтобы жены философов предоставляли своим супругам возможность свободно общаться с блестяще образованными афинскими дамами, на пирах у которых я так любил бывать в годы моего учения. Теперь, правда, вся моя жизнь посвящена философии и государственным делам, чары же Афродиты - молодым… молодым, а также тебе, Приск, перед которым бессильно само безжалостное время. Счастливец! Сколь счастливы девы, любимые тобою!
Со времени моего предыдущего письма я не сидел сложа руки, а обратился в канцелярию преторианского префекта в Константинополе и попросил аудиенции у императора. Феодосий почти не встречался с людьми нашего круга, поскольку родился он в Испании, стране, которой просвещение еще не коснулось. Он из семьи военной и, насколько мне известно, никогда не изучал философию. Если не считать политики, его больше всего интересует овцеводство. Однако ему всего лишь тридцать три года, и, по самым достоверным сведениям, он человек мягкого нрава. Впрочем, на это не следует особо полагаться. Сколько уже раз мы приходили в ужас от того, что правители, ранее слывшие добрыми, на наших глазах превращались в чудовищ, стоило им только взойти на престол мира? Взять, к примеру, покойного Валента или сводного брата Юлиана - цезаря Галла, юношу редкой красоты, который залил кровью весь Восток. Следует, как всегда, быть настороже.
Главный вопрос, стоящий перед нами, таков: насколько усердно будет Феодосий проводить в жизнь свой эдикт? У императоров, которые слушаются епископов, вошло в обычай хулить ту самую цивилизацию, которая их породила. Это непоследовательно, однако логичность никогда не относилась к достоинствам христианской веры. Тайный сговор между нашими правителями и епископами - по сути, не что иное, как величайший абсурд. Императоры гордятся тем, что царствуют в Римской империи и получают власть из рук римского сената; правда, на самом деле мы уже сто лет как не подчиняемся Риму, но форма государственного устройства остается прежней, а значит, ни один государь, именующий себя Августом, просто не может быть христианином - по крайней мере до тех пор, пока в здании римского сената стоит нехристианский символ - Алтарь победы. Однако для христиан подобные противоречия так же несущественны, как облачка на ясном небе, и я даже перестал указывать на них в лекциях: ведь большинство моих учеников - христиане, и я, видимо, должен быть им еще благодарен за то, что именно меня они избрали в качестве преподавателя той самой философии, которую их вера ниспровергает. Как это комично, Приск! И в то же время как трагично!
Ну, а пока нам ничего не остается, как ждать дальнейшего развития событий. День ото дня императору становится лучше, и полагают, в мае он выступит в поход против готов, которые по-прежнему грозят захватить македонские топи. Если он решит отправиться на север, то вернется не ранее чем в конце лета или даже осенью, а это означает, что я смогу с ним встретиться лишь в Фессалониках или, еще того хуже, на поле брани. В таком случае я не сомневаюсь, что это путешествие станет последним в моей жизни, ибо мое здоровье, не в пример твоему, все ухудшается. Приступы кашля так меня изнуряют, что я жажду смерти. Кроме того, на руках у меня появилась какая-то непонятная сыпь - видимо, оттого, что на днях я поел несвежей камбалы (сколь схоже с Диогеном и его роковым сырым осьминогом!), а возможно, это просто от дурной крови. Если бы только в Антиохию приехал Оривасий! Он единственный врач, которому я доверяю. Того же мнения был и Юлиан - он говаривал: "Сам бог Асклепий открыл Оривасию тайны, известные лишь небожителям".
За прошедшие годы я сделал много набросков к биографии Юлиана. Сейчас они лежат на моем столе. Осталось только упорядочить этот материал - и, разумеется, получить записки Юлиана. Пожалуйста, пришли их мне, как только копия будет готова. Этим летом я буду работать над ними, так как лекций я больше не читаю. Я счел целесообразным затаиться и подождать, куда подует ветер.
Нет нужды сообщать, что Антиохия не обратила ни малейшего внимания на императорский эдикт. На моей памяти этот город всегда подчинялся верховной власти не иначе, как под угрозой меча. Я много раз предупреждал городской сенат, что императоры не любят неповиновения, но антиохийцы считают себя превыше закона и кары. Умные всегда более безрассудны, нежели глупцы. Я дрожу за судьбу Антиохии, хотя ныне ее непочтение к указам цезарей мне на руку.
Пока что ничего страшного не произошло. Мои друзья-христиане, как обычно, приходят меня навещать (будто в насмешку, очень многие из моих бывших учеников уже прошли в епископы). Мои коллеги, которые продолжают читать лекции, говорят мне, что их занятия идут обычным чередом. Следующий ход за Феодосием, или, точнее, за епископами. К счастью, они так заняты междоусобной грызней, что им не до нас, и мы пока держимся. Однако, читая между строчек эдикта Феодосия, я подозреваю, что грядет кровавая баня. С особой яростью он обрушивается на сторонников покойного пресвитера Ария на том основании, что галилеянам, мол, следует ныне создать не более не менее как всеобщую католическую церковь с единым вероучением! Мы же в противовес этому должны написать правдивую биографию Юлиана. Итак, сплетем же вместе из Аполлонова лавра последний венок на чело философии и этим смелым шагом попытаемся противостоять той зиме, что в нашем мире грозит прийти на смену бурной поздней осени. Я хочу, чтобы потомки узнали, какие надежды возлагали мы на жизнь и как близок был Юлиан к тому, чтобы излечить галилейскую болезнь. Если мы добросовестно выполним наш труд, он уподобится семени, брошенному в землю осенью, чтобы дождаться возвращения солнца и расцвести.
Между прочим, цены на переписку книг в Афинах, видимо, неимоверно возросли по сравнению с прошлым годом, когда я приезжал туда поработать. По-моему, восемьдесят золотых солидов - чрезмерная цена за, как ты пишешь, неоконченные записки, которые не могут быть велики по объему. Не далее как прошлым летом я купил сборник работ Плотина, наверное, втрое больше записок Юлиана, всего за тридцать солидов. Столько же передаст тебе вместе с этим письмом мой друг, отплывающий завтра в Афины. Вновь передаю наилучшие пожелания несравненной Гиппии и тебе, мой старый друг и соратник в философских битвах.
Приск - Либанию Афины, июнь 380 г.
Посылаю тебе с моим учеником Главком чуть менее половины записок императора Юлиана. Переписка этой части обошлась мне как раз в тридцать солидов. Получив недостающие пятьдесят, я вышлю тебе оставшуюся часть. По-видимому, афинский переписчик, который исполнял твой заказ прошлым летом, был твоим поклонником и сделал тебе скидку в знак почтения перед твоими выдающимися заслугами в философии и риторике.
Я не разделяю твоего пессимизма относительно нового императора. Вряд ли мы выбрали бы его, предоставься нам такая возможность, но беда в том, что ее-то как раз у нас никогда и не было. Восхождение Юлиана на престол - дело рук Фортуны, богини, известной своим безразличием к человеческим нуждам. Едва ли при нашей жизни появится еще один Юлиан, это непреложный факт.
С тех пор как я написал тебе свое предыдущее письмо, я внимательно изучил эдикт Феодосия. Хотя он звучит жестче, нежели эдикт Константина, думаю, первыми его жертвами станут христиане - последователи Ария. Впрочем, возможно, я и ошибаюсь. В политике это случается со мною сплошь и рядом, и, без сомнения, этот недостаток - следствие философского склада ума. Впрочем, в меня вселяет надежду прошлогоднее назначение консулом, с позволения сказать, поэта Авзония. Слыхал о таком? Уверен, ты его читал; если же нет, тебя ожидает истинное наслаждение. Недавно я досконально изучил историю его карьеры. Родился он в семье преуспевающего врача из Бордо. Однако звездный час его настал, когда император Валентиниан назначил его учителем своего сына Грациана. Как пишет сам Авзоний, он "своими руками сформировал характер царственного дитяти". Когда тот стал императором, он вознаградил своего старого учителя, назначив его преторианским префектом Галлии, а в прошлом году - и консулом. Обо всем этом я упоминаю, поскольку Авзоний к нам благоволит. Кроме того, он имеет большое влияние не только на Грациана (этот слишком занят охотой на кабанов в Галлии, чтобы нам досаждать), но и на Феодосия. Очевидно, что тебе нужно во что бы то ни стало добиваться его дружбы.
Недавно я послал в библиотеку узнать, есть ли у них что-нибудь Авзония. Мой раб вернулся с целой тачкой книг. Читаешь их и глазам не веришь: в поэзии их автор не гнушается самыми избитыми темами, в придворных делах не чурается самой грубой лести. Правда, надо отдать ему должное, он написал одно сносное стихотворение, где описывается Мозель, но что мне за дело до всех этих рек? Остальные же стихи Авзония на редкость занудливы, особенно те, что написаны по заказу Валентиниана. Среди тем, заданных императором, были: исток Дуная (Авзоний не знал, где он находится, но все же сделал, что мог), пасха и (самое лучшее) четыре оды четырем любимым императорским коням. С одной из этих лошадиных од я снял копию, и всякий раз, когда мне взгрустнется, Гиппия читает мне ее вслух. Вот как она начинается: "О скакун вороной, коему выпало счастье вздымать золотые бедра и полусферы сияющие бессмертного императора…" Не припомню стихов, которые бы доставляли мне столько наслаждения. Я прилагаю их экземпляр к письму. Словом, тебе нужно как можно скорее познакомиться с Авзонием. И не забудь сказать, что ты в восторге от его творений! Ради доброй цели можно и покривить душой.
Нет, пиров я не посещаю. Квартал, о котором я упоминал в первом письме, - это не роскошная улица Сардов, а квартал непотребных заведений возле агоры. Я избегаю пиров, так как не выношу болтливых женщин, а в особенности наших афинских дам, которые мнят себя наследницами эпохи Перикла, Все их разговоры вымученны и претенциозны, еду, которую у них подают, невозможно взять в рот, а сами они все почему-то коренастые, с темными усиками… видимо, это кара Афродиты за их болтливость. Я веду уединенный образ жизни в своем доме и лишь изредка наведываюсь в вышеупомянутый квартал.
Сейчас мы с Гиппией ладим лучше, чем прежде. Она меня на всю жизнь приворожила тем, что не любит литературы, говорит со мной только о слугах, еде и родственниках, и в этих беседах я отдыхаю душой. Кроме нее в доме у меня живет рабыня - готская девушка, которую я купил, когда ей было одиннадцать лет от роду. Сейчас она выросла в высокую сероглазую, как Афина, красавицу. От этой вообще никогда слова не услышишь. Когда-нибудь я куплю ей мужа и отпущу их на свободу в награду за то, что она так безмятежно принимала знаки моего внимания, доставлявшие ей куда меньше удовольствия, нежели мне. Впрочем, у самок самого отвратительного из животных, каковым Платон считал человека, подобное - не редкость. Кстати, о Платоне: по-моему, плотская любовь между мужчиной и женщиной была ему очень не по вкусу. Мы-то считаем его чуть ли не полубогом, но, боюсь, он очень походил на нашего старого друга Ификла, который из-за своей неуемной страсти к юношам днюет и ночует в банях, и юнцы величают его там царицей философии.
Известие о том, что твое здоровье так расстроено, меня огорчает, но в наши годы с этим следует мириться. Сыпь, о которой ты пишешь, действительно могла появиться от несвежей рыбы. Чтобы излечиться, тебе следует сесть на диету - питаться одним хлебом и водой, но и этого понемногу. Получив деньги, я тотчас же вышлю оставшуюся часть записок. Они тебя взволнуют и опечалят. Любопытно будет поглядеть, как ты используешь этот материал. Гиппия вместе со мною желает тебе доброго здоровья, или, точнее, его улучшения.
Читая записки Юлиана, ты заметишь, что он неизменно называет христиан "галилеянами", а их храмы - "склепами" в насмешку над их преклонением пред останками мертвецов, доходящим почти до некрофилии. Думаю, неплохо бы внести в текст изменения: галилеян снова перекрестить в христиан, а склепы - в храмы. Не следует оскорблять противника по мелочам.
Кое-где на полях рукописи Юлиана я сделал пометки. Надеюсь, ты не сочтешь их неуместными.
-II-
ЗАПИСКИ ИМПЕРАТОРА ЮЛИАНА АВГУСТА
На примере моего дяди, императора Константина, именуемого Великим (он умер, когда мне было шесть лет), я убедился, как опасно вступать в союз с любой галилейской сектой, ибо цель их - подменить и ниспровергнуть истинные святыни. Константина я помню плохо, хотя однажды меня представили ему в Священном дворце. Мне смутно припоминается гигант в расшитой драгоценными камнями негнущейся хламиде, от которого исходил сильный запах благовоний. Мой старший брат Галл всегда говорил, что я пытался стянуть с императора парик, но Галл любил грубые шутки, и я сомневаюсь, что так было в действительности. Если же я и в самом деле пытался сдернуть парик с Константина, это вряд ли расположило его ко мне, ибо во всем, что касалось его внешности, он был суетен, как женщина; это признают даже его поклонники-галилеяне.
От моей матери Василины я унаследовал любовь к знаниям. Мне было не суждено ее увидеть: вскоре после моего рождения, 7 апреля 331 года, она умерла. Она была дочерью преторианского префекта Юлия Юлиана. Судя по ее портретам, я похожу на нее больше, чем на отца: у меня, как и у нее, прямой нос и пухлые губы, в то время как у всех императоров династии Флавиев носы крючковатые, а рты маленькие, с тонкими поджатыми губами. Типичным Флавием был мой двоюродный брат и предшественник император Констанций, очень похожий на своего отца Константина, только пониже ростом. Зато от Флавиев у меня широкая грудь и толстая шея - наследие наших предков - иллирийских горцев. Моя мать, хотя и была галилеянкой, любила классическую литературу. Ее учителем, а впоследствии и моим, был евнух Мардоний.
У Мардония я научился ходить, потупя взор, не зазнаваться и не думать ежеминутно, какое впечатление я произвожу на других. Он же научил меня собранности во всем и даже пытался отучить много говорить. К счастью, теперь, когда я император, все восторгаются каждым моим словом! Также Мардоний убедил меня в том, что потратить время в цирке или театре - значит, потерять его попусту. И наконец, именно от Мардония, который для галилеянина слишком любил греческую литературу и философию, я узнал о Гомере и Гесиоде, Платоне и Теофрасте. Он был хорошим учителем, хотя и суровым.
Жестокий урок преподал мне мой предшественник и двоюродный брат, император Констанций: от него я научился скрывать и таить свои мысли. Не усвой я этого урока, я не смог бы дожить и до двадцати лет. В 337 году Констанций убил моего отца. В чем состояла его вина? В принадлежности к царствующей династии. Меня пощадили, потому что мне было всего шесть лет, а моего сводного брата Галла, которому исполнилось одиннадцать, - лишь потому, что он был болезненным ребенком и никто не думал, что он выживет.
Да, я пытался подражать книге Марка Аврелия "Наедине с собой" - и неудачно. И не только потому, что мне не хватает его чистоты и добродетельности: он мог писать о добрых уроках, преподанных ему семьей и друзьями, а я должен повествовать о горьких уроках, полученных от родных-братоубийц в век, отравленный раздорами и нетерпимостью секты, поставившей себе целью уничтожить нашу цивилизацию, краеугольными камнями которой стали песни слепого Гомера. Я не могу сравниться с Марком Аврелием ни в величии, ни в богатстве жизненного опыта. Теперь я должен говорить своим голосом.
Матери я никогда не видел, зато хорошо помню отца. Юлий Констанций был высоким статным мужчиной, по крайней мере, тогда он мне таким казался. На самом деле, если судить по его статуям, он был немногим ниже моего нынешнего роста, однако шире в плечах. В те редкие минуты, когда нам с Галлом доводилось его видеть, он был с нами очень ласков, но случалось это не часто - отец все время был в разъездах, выполняя различные мелкие поручения императора. Должен отметить: одно время считалось, что у него больше прав на престол, чем у его сводного брата Константина, но по натуре он не был борцом. Он был мягок, он был нерешителен, и его уничтожили.
22 мая 337 года в Никомедии умер император Константин - событие, которое, вероятно, его самого очень удивило: незадолго до этого он ездил на воды в Еленополь и, согласно предзнаменованиям, должен был прожить еще немало лет. На смертном одре он велел нашему родственнику, епископу Евсевию, окрестить себя. Ходили слухи, что незадолго до прибытия епископа Константин обеспокоенно сказал: "Только бы он ничего не перепутал!" Думаю, так оно и было: такая недоверчивость, достойная пера Аристофана, вполне в духе этого человека. Константин никогда не был истинным галилеянином: христианство для него было лишь орудием укрепления своей власти над миром. Он был умелым и расчетливым полководцем, но малообразованным человеком, и философия была ему абсолютно чужда. Правда, он испытывал огромное наслаждение от диспутов по вопросам христианского вероучения, причиной чему был, вероятно, извращенный вкус: грубые препирательства епископов его просто завораживали.
В своем завещании Константин разделил империю между тремя пережившими его сыновьями, каждый из которых к этому времени уже имел титул цезаря (сейчас это известно каждому школьнику, но будет ли так всегда?). Константину II, которому тогда исполнился двадцать один год, досталась галльская префектура; двадцатилетнему Констанцию - Восток; Констант, шестнадцати лет, получил Италию и Иллирию. Каждый из них при этом автоматически получил звание Августа. Как ни удивительно, этот раздел мира свершился полюбовно. После похорон Константина (я на них не присутствовал по малолетству) Константин II тут же удалился в свою столицу - Вьен, Констант отбыл в Милан, Констанций, в чьи владения вошел Константинополь, поселился там в Священном дворце.
Тут-то и начались убийства. Констанций утверждал, что против него существует заговор, составленный детьми Теодоры, законной жены его деда Констанция Хлора, между тем как Константин был сыном его наложницы Елены, которую Констанций Хлор бросил, когда взошел на престол… Да, тем, кому доведется читать подобное, все это покажется величайшей путаницей, но нам, пленникам этой паутины родственных связей, поневоле приходится ее изучать, ибо всегда находятся желающие взять на себя роль паука.
Говорят, заговор действительно существовал, но я в этом сомневаюсь: просто не верится, что мой отец мог быть изменником. В свое время он не возражал против того, чтобы его сводный брат Константин стал императором; какой же смысл ему было противиться восшествию на трон своего племянника? Так или иначе, в то страшное лето тайно арестовали и казнили одиннадцать потомков Теодоры, и в том числе моего отца.
В тот день, когда отца арестовали, мы с Мардонием гуляли в парке Священного дворца. Не помню, где тогда был Галл: он болел лихорадкой и, наверно, лежал в постели. Возвращаясь с прогулки, мы с Мардонием почему-то вошли в дом не с черного хода, как обычно, а с парадного.
В тот вечер стояла хорошая погода, и я, опять-таки в нарушение обычая, подошел к отцу, сидевшему с управляющим в атриуме. Мне вспоминаются кусты белых и алых роз, которые росли шпалерами между колоннами. Что еще мне запомнилось? Кресло с ножками в виде львиных лап. Круглый стол с мраморной столешницей. Управляющий - смуглолицый испанец, сидевший на табурете слева от отца и державший на коленях ворох бумаг. Все это всплыло в памяти, когда я диктовал эти слова, а до той минуты - вот странно! - я не помнил ни роз, ни отцовского лица, которое вновь предстает… предстало предо мною. Странная вещь - человеческая память!
У него были румяные щеки, маленькие серые глаза, а на левой щеке - неглубокий бледный рубец, похожий на полумесяц.
- Это, - сказал он, обращаясь к управляющему, - самое ценное мое достояние. Береги его, как зеницу ока. - Я не понял, о чем он говорит, но только помню, что смутился. Отец редко говорил со мною - не от недостатка любви: просто он был так же застенчив и робок, как и я, и не умел обращаться с детьми.
Птицы - да, я снова их слышу - щебетали в ветвях деревьев, а отец продолжал обо мне говорить с управляющим, я же слушал птиц и разглядывал фонтан в атриуме, понимая, что надвигается что-то непонятное. "Никомедия - место безопасное", - сказал отец, и управляющий согласился. Мне было интересно, что он имеет в виду. Потом речь зашла о нашем родственнике, епископе Евсевии, и о том, что у него тоже "безопасно", а я все разглядывал фонтан - греческой работы прошлого столетия, он изображал нимфу верхом на дельфине, из пасти которого вода лилась в бассейн. Теперь я понимаю, почему поставил точно такой же фонтан у себя в саду, когда жил в Париже. Неужели, если как следует напрячь память, можно вспомнить всю свою жизнь? (Примечание: если этот фонтан не сохранился, заказать его копию для Константинополя.)
Потом отец неловко погладил меня по голове и отпустил. И ни слова напутствия, ни единого жеста, выражавшего любовь, - настолько он был застенчив.
Солдаты пришли к нам в дом, когда я ужинал. Их приход привел Мардония в ужас. Его испуг так меня поразил, что поначалу я не смог понять, что происходит. Услышав шаги солдат в атриуме, я вскочил.
- Что это? Кто это? - спросил я.
- Сиди, - приказал Мардоний. - Не двигайся. Молчи. - Его безбородое лицо евнуха, изрытое морщинами, как мятый шелк, покрылось смертельной бледностью. Увидев это, я отшатнулся от него и бросился бежать. Он неуклюже пытался преградить мне путь, но я испугался его больше, чем присутствия в доме незнакомых людей, и проскочил в пустой атриум. В передней за ним стояла плачущая рабыня. Парадная дверь была открыта. Привратник так привалился к ее косяку, будто его к нему пригвоздили. Тихие женские всхлипывания не могли заглушить звуки, проникавшие с улицы: мерный топот тяжелых сапог легионеров по мостовой, скрип кожи, позвякивание металла о металл.
Привратник пытался меня задержать, но я увернулся от него и выскочил на улицу. В полуквартале от меня шел отец, его конвоировали солдаты под командой молодого трибуна. С криком я бросился за ними. Солдаты не остановились, но отец на ходу обернулся. Лицо у него было пепельно-серым. Он сказал мне страшным голосом, каким никогда раньше со мною не говорил, - голосом суровым, как у Зевса-громовержца:
- Домой! Немедленно домой!
Я тут же остановился как вкопанный, посреди улицы, в нескольких шагах от него. Трибун также остановился и с любопытством на меня взглянул. И вдруг отец повернулся к нему и властно потребовал:
Идем. Это зрелище не для детских глаз.
Ничего, скоро мы за ним вернемся, - усмехнулся трибун. Тут из дома выскочил наш привратник и подхватил меня.
Хотя я плакал и вырывался, он отнес меня в дом.
Через несколько дней моего отца обезглавили в одном из винных погребов Священного дворца. Ему не предъявили никаких обвинений, не было и суда. Я не знаю, где его могила и есть ли она у него вообще.
* * *
Как странно, сколько подробностей всплывает в памяти, когда я пишу эти строки! Скажем, улыбка трибуна, о которой я двадцать лет не вспоминал. Невольно задумываешься: а что с ним стало потом? Где он сейчас? Может быть, я его знаю? А что если это один из моих генералов, скажем, Виктор или Иовиан? И тот, и другой как раз в подходящем возрасте… Но нет, лучше не тревожить прошлое, пусть оно оживает лишь здесь, на пергаменте. У кровной мести должен когда-то быть конец, а кто более, чем государь, достоин положить ей конец?
Вскоре я узнал, что имел в виду мой отец во время беседы с управляющим, показавшейся мне такой странной. Нас должны были отправить к нашему родственнику Евсевию, епископу Никомедийскому. Он согласился стать нашим опекуном. На следующий день после ареста отца Мардоний поспешил увезти нас с Галлом из Константинополя, взяв с собой лишь кое-что из нашей одежды. Мы промчались пятьдесят миль до Никомедии без отдыха, останавливаясь лишь для того, чтобы сменить лошадей. Однажды нас остановили конные легионеры. Мардоний дрожащим голосом сказал им, что мы находимся под личным покровительством императора Констанция, и нас пропустили. Так мы ехали целый день и целую ночь.
Что это была за ночь! Галла мучила лихорадка, от которой он едва не умер. Истязаемый демонами лихорадки, он корчился в бреду на соломенном тюфяке, который ему постелили на дне повозки. Мардоний прикладывал ему ко лбу тряпку, смоченную уксусом, - запах уксуса, этот едкий запах, до сих пор напоминает мне о той страшной ночи. Один раз я коснулся лица Галла: оно было горячим, как влажная простыня, которую вывесили сушиться на солнце. Его золотые кудри потемнели от пота; он размахивал руками, выкрикивал что-то бессвязное и плакал.
Всю эту теплую ночь я просидел рядом с Мардонием на скамье, ни на минуту не сомкнув глаз. Нас мотало на ухабистых проселках; кругом было светло как днем - огромная желтая луна освещала нам путь, подобно морскому маяку.
За всю ночь я не произнес ни слова. И хотя от роду мне было всего шесть лет, я все время твердил про себя: "Скоро ты умрешь, скоро ты умрешь" - и пытался себе представить, что это значит - быть мертвым. Думаю, именно в эту ночь я и стал философом: будучи ребенком, я плохо понимал, что происходит, и любопытство во мне пересиливало страх. Наверное, я даже испытывал нервное возбуждение от отчаянной гонки по незнакомым местам при свете золотистой луны, а рядом корчился Галл и умолял меня дать ему палку, чтобы отогнать демонов.
* * *
К нашему удивлению, нас оставили в живых. Последующие пять лет мы с Галлом жили у епископа Евсевия в Никомедии, а позднее в Константинополе. Евсевий был мрачным стариком, и, хотя он не любил детей, с нами он обращался хорошо. Более того, он запретил Констанцию к нам приближаться, и тот ему подчинился, так как Евсевий имел большой вес в галилейской иерархии. Через два года после того как он стал нашим опекуном, его возвели в сан епископа Константинопольского, и он фактически правил Восточной церковью до самой своей смерти.
Дети быстро привыкают к переменам. Сначала мы тосковали по отцу, потом забыли его. При нас постоянно находился Мардоний - воплощенная связь с Прошлым, а еще нас навещал мой дядя с материнской стороны, комит Юлиан. Этот обаятельный царедворец, большой дока по части интриг, держал нас в курсе событий, происходящих во внешнем мире. Именно от него мы узнали, как Констанций стал единовластным правителем империи. В 340 году между Константом и Константином II началась междоусобица. В Аквилее Константин II попал в засаду и был казнен. Констант стал править всей западной частью империи. Затем генерал по имени Магненций объявил себя Августом и гнал Константа из Отена до самых Пиренеев, где зимой 350 года последнего убили. На Западе воцарилась смута: Магненций предпринимал отчаянные усилия, чтобы сохранить неправедно добытую власть над распадающейся империей, а на Дунае уже объявился новый самозваный император - генерал Ветранион.
Констанций, надо отдать ему должное, был гениальным стратегом гражданской войны. Он знал когда напасть, а главное - на кого, и поэтому всегда побеждал. Часто мне приходила в голову мысль: останься он в живых, меня постигла бы та же участь, что и остальных его соперников. Итак, в 350 году Констанций начал войну против обоих самозванцев сразу. Ветранион тут же сдался, и его пощадили - случай в нашей истории поистине небывалый! Магненций же, как известно, был наголову разбит 28 сентября 352 года в битве при Мурсе. Это был один из критических моментов в судьбе государства, и римская армия до сих пор не оправилась, потеряв пятьдесят четыре тысячи отборных солдат.
Нет нужды говорить, что я и в глаза не видел никого из этих императоров и самозванцев, не припомню также, чтобы мне довелось повидать своих двоюродных братьев Константа и Константина П. Да и Констанция я впервые увидел, когда мне было уже шестнадцать лет; об этой встрече я подробно расскажу чуть ниже.
Принцепсы строили заговоры и сражались, а я учился у Мардония. Он был строг, но преподавал увлекательно. Я его любил, а Галл ненавидел - впрочем, это чувство у Галла рано или поздно начинали вызывать все люди без исключения. Помнится, однажды, когда я хотел пойти посмотреть состязания колесниц, Мардоний сказал: "Если хочешь развлечься, почитай Гомера. Никакие зрелища не смогут сравниться с его описаниями скачек, да и всего остального". Меня этот запрет привел тогда в бешенство, но теперь я понимаю, что в нем таилась великая мудрость. Так и получилось, что благодаря Мардонию я попал в театр и цирк уже будучи взрослым, да и то, чтобы не обидеть других. Да, ханжой я был, ханжой и остался!
Моя память отчетливо запечатлела лишь один эпизод, связанный с епископом Евсевием. В тот день он самолично взялся обучать меня жизнеописанию Назарея. Уже много часов мы с ним сидели в боковом приделе Никомедийского храма; епископ меня все время допрашивал, а я изнывал от скуки. Евсевий почему-то любил объяснять как раз то, что и так понятно, оставляя в тени вопросы, вызывавшие у меня особый интерес. Речь у этого тучного, бледного старика была замедленной, и следить за ней не составляло никакого труда. Для разнообразия я стал рассматривать мозаику на сводчатом потолке, изображавшую четыре времени года. До сих пор перед моими глазами стоят великолепные картины, изображавшие птиц и рыб, переплетенные гирляндами из цветов и плюща, и немудрено - в этом приделе мы с Галлом три раза в день молились. Во время этих скучных молитв я мечтал о том, чтобы подняться в воздух и попасть в сверкающий позолотой мир павлинов, пальм и увитых виноградом беседок - мир, в котором слышится лишь журчание ручьев и пение птиц и уж конечно же нет никаких проповедей, никаких молитв! Когда несколько лет назад Никомедию разрушило землетрясение, я прежде всего спросил: уцелел ли храм? Мне ответили, что да, но крыша обвалилась. Итак, волшебный приют моего детства превратился ныне в кучу мусора.
По-видимому, я чересчур заметно глядел на потолок, так как епископ внезапно спросил меня:
- Какое из поучений Господа нашего самое важное?
Я, не раздумывая, ответил: "Не убий" - и тут же привел все относящиеся к этой заповеди тексты из Нового Завета (я знал его почти целиком наизусть), а также все, что мог припомнить из Ветхого. Епископ не ожидал такого ответа, но все же одобрительно кивнул:
- Ты хорошо изучил Священное Писание. Но почему именно эта заповедь кажется тебе самой важной?
- Потому что, если бы ее соблюдали, мой отец был бы жив. Быстрота, с которой вырвались у меня эти слова, потрясла
меня самого.
Лицо епископа, и без того бледное, стало совсем землистым.
- Что это тебе пришло в голову?
- Но ведь это же правда! Император убил моего отца, и все это знают. Наверно, он и нас с Галлом убьет, только у него сейчас руки не доходят. - Если уж понесет, вовремя никак не остановиться.
- Наш император - святой человек, - строго проговорил Евсевий. - Весь мир восхищен его благочестием, непреклонностью в борьбе с еретиками, твердостью в истинной вере.
Тут я совсем потерял голову:
- Но если он такой добрый христианин, почему он тогда убил столько своих родных? Разве не сказано в Евангелии от Луки, а еще от Матфея…
- Глупый мальчишка! - Епископ был вне себя от ярости. - Кто тебя этому учит? Мардоний?
У меня хватило ума не подставлять своего учителя под удар:
- Нет, епископ. Но об этом все говорят прямо при нас - верно, думают, мы не понимаем. А главное - разве это не правда?
Епископ взял себя в руки.
- Запомни хорошенько, - твердо, с расстановкой выговорил он, - твой двоюродный брат император Констанций - это сама доброта и благочестие, и не забывай: ты находишься в его власти.
В наказание за дерзость епископ заставил меня четыре часа подряд читать вслух, но эффект получился обратный ожидаемому. Я усвоил только одно: Констанций истреблял свой род и при этом был добрым христианином; а если убийца может быть благочестивым христианином, значит, в этой религии что-то не так. Нет нужды объяснять, что я давно уже не считаю веру Констанция причиной его злодеяний, равно как и мои недостатки не следует связывать с эллинской верой, которую я исповедую! Но тогда я был еще ребенком; такое грубое противоречие запало мне в душу и не давало покоя.
В 340 году Евсевия возвели в сан епископа Константинопольского. С этого времени мы стали жить то в столице, то в Никомедии, но Константинополь нравился мне больше.
Будучи основан всего лишь за год до моего рождения, Константинополь пока еще не имеет истории, а живет только шумным настоящим, но, если верить предсказаниям авгуров, ему суждено блестящее будущее. Решив, по зрелом размышлении, перенести столицу Римской империи в древний Византии,Константин выстроил на месте старого города новый и назвал в свою честь (чего-чего, а скромности ему было не занимать!). Подобно большинству уроженцев Константинополя, я люблю бурлящую жизнь этого юного города. В воздухе столбом стоит пыль, пахнет известкой, на улицах гремят молотки, но эта сумятица не только не вызывает раздражения, наоборот, она бодрит. Город меняется не по дням, а по часам. В местах, которые я помню с детства, появились новые дома, новые улицы, новые площади… отрадно хотя бы здесь видеть, как нечто великое рождается, а не погибает!
Обычно в хорошую погоду Мардоний водил нас с Галлом гулять по городу. Мы называли эти прогулки "охотой за статуями", так как Мардоний страстно любил классическую скульптуру и в поисках выдающихся произведений искусства был готов таскать нас с одного конца города на другой. Мы с ним, должно быть, осмотрели все десять тысяч бронзовых и мраморных статуй, которые Константин свез со всего света, чтобы украсить свою столицу. Эти кражи достойны безусловного осуждения (а разграбление эллинских храмов в особенности), но благодаря им в аркадах вдоль главной магистрали города - Средней улицы и в близлежащих кварталах собрано больше выдающихся скульптур, чем где-либо в мире, если не считать Рима.
Однажды, гуляя по городу, мы остановились возле галилейского склепа, что стоит невдалеке от Ипподрома. Мардоний возился с планом города, пытаясь выяснить, куда мы забрели, а мы с Галлом стали бросать осколки мрамора в стену недостроенного дома на другой стороне улицы. Детям всегда есть что бросать на улицах Константинополя, усеянных мраморной крошкой, щепками, битой черепицей: строители никогда не убирают за собой мусор.
- Ну вот, - сказал Мардоний, вглядываясь в план, - недалеко отсюда должна стоять знаменитая статуя Немезиды, изваянная Фидием, которую божественный Константин приобрел несколько лет назад. Считается, что это оригинал, хотя есть мнение, что это копия, но изготовленная в том же веке из паросского мрамора - стало быть, не испорченная римлянами.
Вдруг дверь склепа распахнулась. На улицу выбежали два старика, за которыми гнались по пятам не менее десятка монахов с палками в руках. Старики успели добежать лишь до аркады, где мы стояли. Здесь монахи нагнали их, сбили с ног и принялись избивать, вопя при этом: "Вот тебе, еретик! Вот тебе, еретик!"
Потрясенный, я обернулся к Мардонию:
- За что бьют этих стариков?
- За то, что они еретики, - вздохнул Мардоний.
- А, богомерзкие никейцы? - спросил Галл. Будучи старше меня, он уже разбирался в суевериях нашего нового мира.
- Боюсь, что так. Пойдемте отсюда, дети.
Но меня терзало любопытство, и я спросил, кто же такие эти никейцы.
- Обманутые глупцы. Они думают, будто Иисус и Бог - одно и то же…
- Хотя всякому известно, что они лишь подобны друг другу, - вставил Галл.
- Вот именно. Так учит пресвитер Арий. Ваш божественный брат - император Констанций высоко его ценил.
- Они отравили пресвитера Ария, - распалял себя Галл. С криком: "Еретики! Убийцы!" - он подобрал с земли камень, с силой швырнул его в одного из стариков и, к несчастью, попал. Монахи прервали свою дружную работу и стали хвалить Галла за меткость, Мардоний же пришел в ярость, но лишь из-за того, что мой брат нарушил правила приличия.
Галл! - воскликнул он, как следует встряхивая моего брата. - Ты наследник престола, а не уличный мальчишка! - И, схватив нас за руки, поспешил увести прочь. Нет нужды говорить - всё увиденное меня остро заинтересовало.
- Но какой может быть вред от этих стариков? - спросил я.
- Какой вред? Да они убили пресвитера Ария! - Галл так весь и светился благочестием.
- Вот эти двое? Они его убили?
- Нет, - ответил Мардоний, - но они последователи епископа Афанасия…
- Худшего еретика, чем он, свет не видывал! - Галл всегда приходил в исступление, если вечно обуревавшую его жажду насилия удавалось оправдать высшими соображениями.
- …И говорят, семь лет тому назад, во время Вселенского Собора, Ария по приказу Афанасия отравили. За это ваш божественный дядя отправил Афанасия в ссылку. А теперь, Юлиан, я тебя прошу не то в сотый, не то в тысячный раз: прекрати грызть ногти.
Я перестал грызть ногти - привычка, от которой я окончательно не избавился до сего дня, - и спросил:
- Но разве все они не христиане? Разве они не верят в Иисуса и Новый Завет?
- Не верят! - заорал Галл.
- Верить-то верят, - оборвал его Мардоний. - И вообще они такие же христиане, как мы, только впали в ересь.
Даже в детстве я умел достаточно логично мыслить:
- Но раз они такие же христиане, как мы, то вместо того чтобы с ними драться, мы должны подставить им другую щеку, а убивать вообще нельзя, ведь Иисус нас учит…
- Боюсь, это все не так просто, - ответил Мардоний.
Но все было как раз просто донельзя. Даже ребенку видно несоответствие между словами галилеян и их делами. Приверженцев религии смирения и братства, которые то и дело убивают тех, кто с ними в чем-то не согласен, можно назвать, в лучшем случае, лицемерами. Конечно, мои записки очень бы выиграли, заяви я, что в ту самую минуту перестал быть галилеянином, но это, к сожалению, будет ложью. То, что я увидел, меня озадачило, но я все еще верил в Назарея, и прошло еще немало лет, прежде чем я окончательно отрекся от этой веры. И все же сегодня, оглядываясь на прожитое, я полагаю, что первые оковы слетели с моей души в тот день, когда я увидел на улице монахов, которые преследовали двух несчастных стариков.
Произведения
Критика