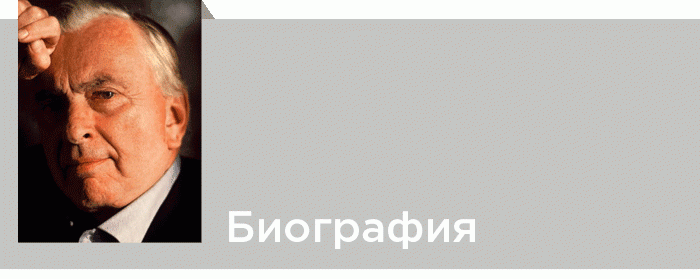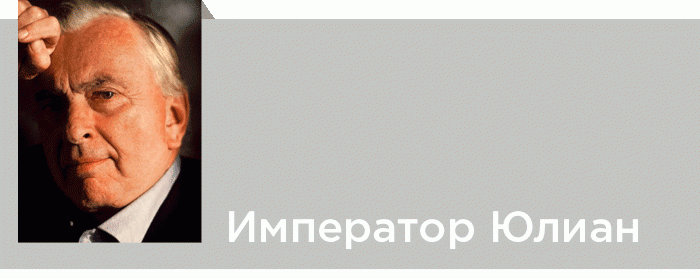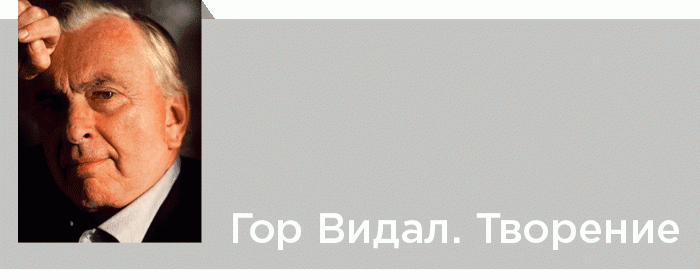Гор Видал. Империя

Г. Злобин
«Каролина, вчера вечером кончилась война. Помоги-ка мне отнести эти цветы». — Элизабет Камерон стояла у балконной двери, держа большую фарфоровую, расписанную голубым вазу с розами...» — так начинается 24-й роман Видала и пятый роман его монументального исторического цикла, выводящий художественное исследование политических судеб Америки непосредственно в XX век.
Буквально первые же фразы книги погружают читателя в эпоху и материал. Событие, о котором идет речь, — испано-американская война
Элизабет Камерон — племянница героя Гражданской войны генерала Шермана и супруга сенатора-республиканца Дона Камерона, а ее двадцатилетняя собеседница Каролина Сэнфорд — правнучка дипломата и журналиста Чарлза Скермерхорна Скайлера, героя-рассказчика в романе писателя «1876». Разговор происходит в очаровательном кентском поместье Сурренден-Деринг, которое снимают на лето Камероны и шестидесятилетний седобородый, розовощекий Генри Адамс — правнук второго президента США и внук шестого, признанный историк, литератор и язвительный остроумец, а также — по слухам — любовник Лиззи Камерон. Здесь же устроил свою летнюю резиденцию друг Адамса Джон Хэй, в незапамятные времена личный секретарь Линкольна (второе по значению действующее лицо одноименного видаловского романа), а ныне посол США в Британии.
Сегодня, 13 августа, Камероны устраивают званый ленч, стол накрывают на тридцать семь персон. Прогулки, застолье, полуденный отдых и — разговоры, разговоры. Обсуждаются последние светские новости из Вашингтона, неохотно излагает свои «туманные теории» общественного прогресса Генри Адамс, Генри Джеймс немилосердно злословит по поводу ранних стихотворных опытов Джона Хэя. Но больше о закончившейся войне и о том, что она означает для Америки. Разговоры взрослых повторяют дети. «Куба отныне навсегда свободна, — ломающимся голосом заявляет Кларенс, младший сын Хэя. — Теперь надо удержать за собой Пуэрто-Рико». (Четыре месяца спустя будет подписан Парижский мирный договор, по которому «Богатый порт» перейдет от Испании к США.) «Сейчас главное — Филиппины, — вставляет отпрыск британского высокопоставленного лица. — Вот что вам, американцам, надо удержать...»
Двадцатипятистраничная экспозиция, плотно насыщенная исторической и романной информацией, требующая очень пристального прочтения, вбирает в себя, пожалуй, все содержательные и художественные начала очередного видаловского тома. После нее роман трогается с места и неторопливо движется от одного реального события к другому:
февраль
октябрь
июнь
6 сентября
начало ноября
Надо быть величайшим знатоком Америки той поры, чтобы соотнести книгу Видала с хроникой реальных событий того восьмилетнего периода — если такое соотнесение вообще необходимо для понимания исторической прозы писателя. Как бы то ни было, семнадцать глав «Империи» создают в целом движущуюся, многозначную объемную панораму того времени, когда Соединенные Штаты из сравнительно изолированной заатлантической буржуазной республики превратились в неоколониалистскую мировую державу — по Видалу, в империю.
Очень выразительны в книге портреты политических деятелей, складывающиеся из их речей, мыслей, поступков, авто- и авторских характеристик (последние проникнуты неизменной иронией, этой основной стилистической интонацией Видала, а то и откровенным сарказмом). Язвительно обрисован Маккинли. Вернувшись однажды из поездки по Среднему Западу, он вдохновенно объявляет, что «такова воля американского народа, а может быть, и самого Господа Бога — аннексировать весь Филиппинский архипелаг». Что и было сделано — правда, по предложению Хэя, теперь уже госсекретаря, с выплатой 20 миллионов компенсации, дабы «нас не обвинили в грабеже и грубом империализме». Таким образом партия Линкольна, треть века назад давшая свободу чернокожим гражданам гордого отечества, теперь «освободила от испанского ига десять миллионов филиппинцев — по два доллара за голову», как сухо поясняет один из персонажей. Текст романа буквально усеян такими словесными колючками, которые придают ему особую интеллектуальную пряность и тянут на цитирование.
Если Маккинли как бы олицетворяет собой идею «явного предначертания» Америки, то его преемник — воплощение откровенных имперских амбиций, вырастающих изначально из убежденности в превосходстве англосаксонской расы. Т. Рузвельт выглядит почти карикатурно: маленький, шумный, бесцеремонный, несмотря на происхождение, бесподобный демагог и мастер патриотической трескотни и в своих сочинениях (вроде брошюры «Американские идеалы» — «печатной пустопорожности», по едкому замечанию Г. Джеймса), и в повседневном общении. Главным же теоретиком империализма в романе выступает автор «Экономического превосходства Америки» Брукс Адамс, брат Генри, глашатай нового баланса сил на мировой арене, при котором США «уравновешивают» не только Испанию или хиреющую Англию, но и Россию, и Китай. «Нация, омываемая двумя океанами, должна иметь колонии повсеместно, дабы защитить себя,— заявляет он.— ...Если англосаксонская раса хочет выжить и победить, надо воевать» — все равно с кем.
Особую роль в романе играют Генри Адамс и Джон Хэй — члены замкнутого интеллектуального кружка «Пять червей». Под пером Видала Адамс и Хэй отнюдь не предстают единомышленниками Т. Рузвельта, Б. Адамса, адмирала Э. Мэхена и Г. Лоджа и не составляют с ними некую элитарную группу, которая «исповедовала империалистические взгляды» (И.А. Белявская. «Теодор Рузвельт и общественно-политическая жизнь США», 1978). Конечно, будучи детьми своего времени и своего класса, и Г. Адамс, и Хэй разделяли идеи исключительности исторических судеб Америки, но практика буржуазного прогресса не вызывала у них, людей образованнейших и мыслящих, мягко говоря, восторга. Адамс давно уже разочаровался в политической системе у себя на родине (о чем свидетельствовал его роман «Демократия», анонимно опубликованный в 1880 году) и сейчас с философической усмешкой взирает на возню у кормила — и кормушки — власти и вообще полон мрачных предчувствий относительно будущего человечества. Что до Хэя, то он в силу своего положения госсекретаря непосредственно осуществляет внешнеполитический курс администрации, но чем дальше, тем больше его пугает воинствующий джингоизм Т. Рузвельта, готового втянуть Штаты в войну в Европе, и с тем большей иронией относится он к собственной деятельности, получая даже утонченное «удовольствие от роли лжесвидетеля, которую он играл на суде истории». В образах Адамса и Хэя хорошо просвечивает идеология зарождающегося американского либерализма.
Из всех романов исторического цикла Видала «Империя» наиболее созвучна нашему времени. Именно на 80-е годы приходится старательное возрождение теорий и практики сильной Америки, якобы имеющей жизненные интересы во многих отдаленных, раскиданных по всему земному шару регионах — будь то Вьетнам, Гренада или Персидский залив. Элементарная логика подсказывает перекличку событий девяностолетней давности и нынешних. С другой стороны, борьба филиппинских республиканцев под руководством Эмилио Агинальдо, эхо которой то и дело прокатывается по соответствующим главам романа, воспринимается как символ растущего сопротивления «третьего мира» глобалистским геополитическим установкам Соединенных Штатов.
Название романа, определяющее главную его тему, имеет, однако, двоякий смысл. «Империя» — это еще и массовая пресса вообще, воздействующая на чувства и ум людей, во многом делающая погоду в обществе, и в частности — газетный концерн, строительством которого занят Херст — крупная, колоритная фигура, антипод «Червей», прагматик до мозга костей, чутко улавливающий настроения «человека с улицы» и потому заработавший репутацию «социалиста». (А социализм, иронически комментирует автор, — это «сущее наказание для всех порядочных американцев, жаждущих держать своих хозяев в роскоши, а самим держаться надежды вытащить в один прекрасный день выигрышный билет».)
Не довольствуясь ролью делателя душ, Херст мечтает о политической карьере и даже метит в 1908-м попасть в Белый дом. Главное препятствие на пути — Рузвельт, и тут Херсту, уже владельцу восьми газет и двух журналов, попадает в руки материал, компрометирующий администрацию: благодарственные письма многих должностных лиц мистеру Арчболду, одному из помощников главы «Стандарт ойл» Рокфеллера. Прямых улик против президента нет, однако история выглядит довольно непрезентабельно, так что при умелом манипулировании добытыми сведениями...
Страницы, отданные Херсту и нравам «желтого журнализма» в те времена, относятся к самым занимательным эпизодам политической панорамы, которую постепенно развертывает Видал, хотя в ней есть и другие прекрасные сцены. И все-таки книга сильно отличается от предыдущего тома цикла — «Линкольн», где поступки реальных личностей, раскинутая сеть действительных событий, политические конфликты — словом, сама история и составляет плоть романа. В «Империи» же историческое полотно остается фоном — ярким, умным, чрезвычайно познавательным, но все-таки фоном, на котором развивается собственно романный сюжет, в центре которого — Каролина Сэнфорд, характер вымышленный, хотя, возможно, и имеющий реальный прототип.
Дочь богатого полковника и его второй жены Эммы, фигурировавших в романе «1876», Каролина воспитывалась и выросла во Франции и едет в Штаты, чтобы вести тяжбу с единокровным братом Блэзом Делакруа Сэнфордом из-за отцовского наследства. Благодаря родовитости, внешности, европейскому лоску и начитанности она быстро входит в светские столичные круги, знакомится с видными деятелями, наподобие Мадлен Ли из адамсовской «Демократии», обнаруживает интерес и вкус к политике и, самовольно продав четыре пуссеновских полотна из отцовского поместья (в пику Блэзу, который служит у Херста и мечтает о самостоятельности), даже покупает — неслыханное для леди занятие! — «Вашингтонскую трибуну».
Помолвка с Делом Хэем, сыном Джона Хэя, который затем нелепо и трагически погибнет; любовная связь с женатым конгрессменом Джеймсом Верденом Дэем (вымышленный персонаж, действующий в «Вашингтоне, округ Колумбия»); блистание на приемах и прочих увеселениях; скоропалительное, чтобы дать имя будущему ребенку, замужество — выбор ее падет на собственного юриста и кузена Джона Энгара Сэнфорда; превращение прогоревшей было «Трибуны» во влиятельную газету, в которой уголовная хроника самого низшего, херстовского пошиба мирно соседствует с собственной колонкой «Дама из общества»; финансовые трудности и мошенническое партнерство с Блэзом, вытягивающее у него деньги, но оставляющее за ней контроль над газетой; подстрекательство Дэя к совращению Блэза (знакомый видаловский мотив, не разворачивающийся, впрочем, в картинку) и последующее шантажирование брата — таковы перипетии биографии молодой леди.
Собственно беллетристическая часть выписана Видалом так искусно, что удовлетворит, пожалуй, любой читательский вкус — от самого изысканного и требовательного до неразвитого, а образ очаровательной и элегантно-безнравственной во всех отношениях Каролины Сэнфорд — полнокровный художественный характер и несомненная удача писателя. Ее собственная жизнь и карьера и «грех», «преступление» ее матери, подтолкнувшей подругу Денизу Делакруа на губительное деторождение, чтобы завладеть ее мужем (одна из фабульных линий в «1876»), являются как бы приватным аналогом социальной истории США последней четверти века.
Совмещение двух планов повествования — фактического и вымышленного, — не всегда органичное, хотя и тесное до неразличимости, осуществляется прежде всего темой роли массового печатного слова, отражающего и преображающего действительные события и формирующего представление о них. И именно в этой теме обнаруживается непоследовательность и даже противоречивость позиции романиста.
Недостаточная органичность двух слоев произведения — неизбежное, пожалуй, следствие откровенно просветительских установок Видала, вынужденного вводить в романный обиход массу разнообразнейших сведений. Он не раз говорил, что американцы плохо знают свое прошлое, что большинство исторических романов в США не являются ни романами, ни историей. Один из побудительных мотивов создания цикла — по его признанию — потребность в критической, очищенной от националистических мифов реконструкции процесса общественного развития страны, ее политических институтов и обычаев.
С другой стороны, на последних страницах романа устами Херста во время его встречи с Рузвельтом в Белом доме (Видал специально оговаривает, что конкретное содержание беседы неизвестно) высказывается такая максима: «Истинная история — это безудержная выдумка (final fiction)». Развивая ее, Херст утверждает, что война с Испанией «начата, точнее — придумана» им самим, что Рузвельт «прыгнул в Белый дом со страниц его газеты» и вообще мир будет таков, как скажет он, Херст.
До сих пор не установлено, что именно послужило причиной взрыва броненосца «Мэн» на гаванском рейде, но достаточно посмотреть на первую полосу херстовой «Нью-Йоркской газеты» от 17 февраля 1898 года с огромной шапкой «Уничтожение «Мэна» — дело вражеских рук», на другие зажигательные заголовки, на рисунок корабля с каким-то подозрительным предметом под ним — и наглядно представляешь, какой массовый психоз, какая шовинистическая истерия вспыхнула в Штатах. Война стала неизбежной.
Приведенную выше мысль насчет истории-выдумки внимательный читатель Видала уже встречал — в беседе барона Якоби и Скайлера («1876»), Но в новой книге она, варьируясь и поворачиваясь разными сторонами, проходит красной нитью по всему тексту. Ее так или иначе выражают или обдумывают Хэй, Каролина, Блэз Херст, да она и сама по себе вытекает из некоторых ситуаций и сцен. Попутно Видал затрагивает проблему мощного воздействия тиражированного слова на сознание, сравнимого разве что с могуществом денег («Самая высшая власть... — размышляет Каролина, — состоит в способности внушить людям такие мечты, какие ты считаешь нужными, и тем самым переделывать мир»), ту проблему, которая приобрела особую остроту в наше время, с невиданным развитием средств массовой информации. Однако в совсем недавнем интервью Видал почти что повторил заключительную реплику Херста: «Истории как таковой просто не существует — есть только разрозненные «факты», которые я стараюсь уважать. Я не провожу различия между историей, биографией, научной фантастикой, романами тайн. Все это — изобретательство (invention). Когда пишешь об истории, ты обязан дать читателю то, что я называю общепринятыми фактами... Я считаю, что необходимо придерживаться известного — хотя бы для того, чтобы оттуда идти к неизвестному и непознаваемому» («Плейбой», декабрь 1987).
Такая точка зрения — не ставит ли она под сомнение принципы и саму природу жанра, в котором так успешно работает Видал?
Или, может быть, писатель сознательно опробывает разные подходы к исторической прозе — ведь в «Линкольне», скажем, подобная идея не возникает?
Я задал эти вопросы писателю во время его последнего визита в нашу страну в декабре 87-го.
«Первоисточник наших знаний о прошлом, — ответил он, — все-таки тогдашняя пресса, печатное слово. Но в печати — не все правда и уж наверняка не вся правда... Кроме того, — продолжал он задумчиво, — само сочинительство, творчество — это ведь тоже своего рода «империя» — разве не так?»
Пытать романиста дальше было неудобно.
Наверное, окончательный ответ мы получим в последнем томе цикла, где будет фигурировать действующее лицо по имени Гор Видал, которое и будет вести повествование.
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – Москва, 1988. – Вып. 2. – С. 70-74.
Произведения
Критика