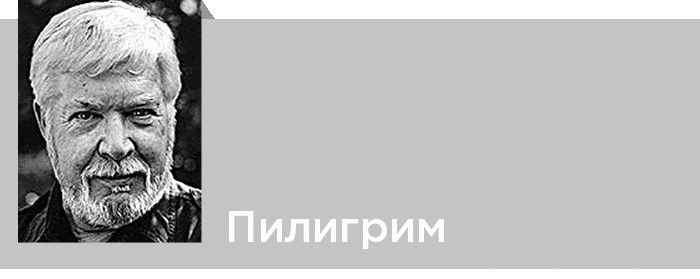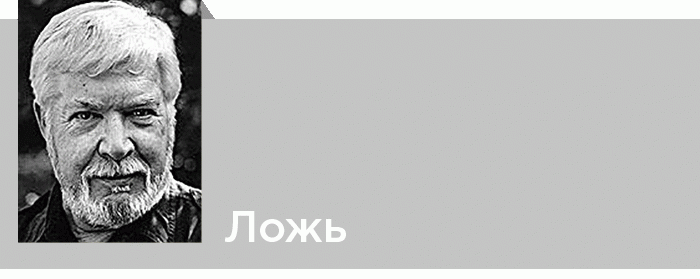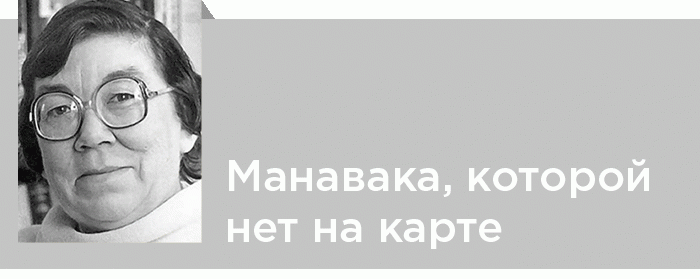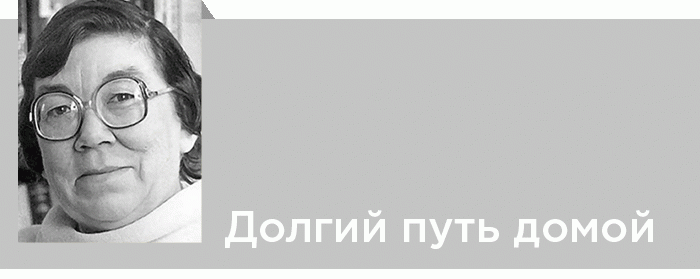Маргарет Лоренс. Маска медведя

Зимой дедушка Коннор ходил в огромной шубе, сшитой из медвежьей шкуры. До того косматым и жестким был ее мех, так дыбился клочьями самых разных оттенков — от рыжего до почти черного — и такой тяжелый дух от нее шел, когда она намокала от снега, что при виде этой шубы в воображении невольно возникала фигура какого-нибудь кодиака-великана, одиноко бредущего по замерзшей равнине, или старого, иссеченного шрамами гризли, обитающего в мрачных лесах севера. В действительности же эта шкура была снята с самого обыкновенного бурого медведя, которые, как это ни печально, водятся в столь прозаичном месте, как Скачущая Гора, всего в сотне миль от Манаваки. Эту шкуру дедушка получил за работу еще в бытность свою кузнецом, до того, как сделался владельцем скобяной лавки и стал вести расчеты исключительно наличными. Стараниями местного сапожника шкура была превращена в шубу; а уж бабушка Коннор посадила ее на подкладку. Никто не мог с уверенностью сказать, когда именно у дедушки появилась эта шуба, но моя мама, а она была старшей дочерью в семье, утверждала, что сколько она помнит себя, столько и существует дедушкина шуба. Для меня в мои десять с половиной лет это звучало почти так же, как если бы мне сказали, что шубе по меньшей мере лет сто. Шуба была до того тяжелой, что я не могла ее даже поднять, но при этом я вовсе не задумывалась, как удается дедушке таскать на себе такую несусветную тяжесть, а главное — зачем ему это нужно: в свои годы он все еще отличался необыкновенной силой, любая ноша была ему по плечу.
Время от времени мама брала меня с собой в магазин дамской одежды «Симлоу». Пока она примеряла платья, я, стоя перед высоким зеркалом, корчила гримасы, а хлопотавшая вокруг мамы продавщица Милли Кристоферсон неизменно повторяла своим певучим голосом одну и ту же фразу, от которой меня разбирал такой хохот, что мама, не выносившая каких бы то ни было проявлений невоспитанности, хлопала меня по плечу своей маленькой твердой ладошкой. «Это ваша вещь, миссис Маклауд, — умильно ворковала продавщица, - честное слово, это абсолютно ваш стиль». Я позаимствовала у Милли это выражение для дедушкиной шубы, «Это ваша вещь», — говорила я ему в спину, расплываясь в приторной улыбке, но, разумеется, так, чтобы он не слышал.
Порой я мысленно называла его «Большим Медведем». Эти слова вызывали у меня множество всяких ассоциаций, помимо шубы и угрюмой повадки деда. Взять хотя бы то, как по воскресеньям он неприкаянно слонялся по дому, будто запертый в клетке зверь, с нетерпением ожидая начала новой недели, сулившего ему единственную свободу, какую он признавал, — свободу заниматься делом. Или то, как он мгновенно удалялся в свой подвал, если к тете Эдне приходил какой-нибудь поклонник, что в ту пору случалось весьма редко, потому что — как однажды со вздохом заметила мама в подслушанном мною разговоре с отцом — молодые холостяки в Манаваке придавали куда большее значение тетиной поездке в Виннипег, чем она того заслуживала, а ее раскованные манеры (что это значит — я не очень хорошо тогда понимала) лишь усугубляли положение. Но стоило какому-нибудь мужчине наконец-то пригласить тетю Эдну в кино и, зайдя за нею, перекинуться с бабушкой Коннор глубокомысленными замечаниями о погоде, как дедушка с видом затравленного зверя врывался в гостиную, пристально оглядывал «ухажера» и, не сказав ни слова, спускался в подвал, где возле печки стояла его качалка. В обычное время он в эту качалку не садился - по убеждению моего деда, подобное занятие годилось только для стариков, а к их числу он себя, конечно же, не относил. Но в такие минуты из его логова на весь дом разносился сердитый скрип качалки на цементном полу — своего рода бессловесное эсперанто, знак неодобрения, понятный даже самому последнему тупице.
Прозвище, которым я втайне нарекла дедушку, безотчетно связывалось в моем сознании еще и с названием Большого Медвежьего озера; его я видела только на картах и представляла себе необозримой гладью глубоких черных вод, раскинувшихся где-то очень далеко от знакомых мне прерий с их огороженными колючей проволокой полями — где-то там, в краю зубчатых скал и вечных льдов, где голос человека сразу же растворяется в стуже и мрачном безмолвии, не оставив даже частицы своего тепла.
В одну из суббот января я была на катке, когда туда неожиданно явился дедушка. На нем, как всегда, была его огромная шуба, и сказать, что он выглядел в ней несколько странно среди конькобежцев, заполонивших лед, значило бы выразиться слишком мягко. В смущении я торопливо подъехала к нему.
- Вот ты где, Ванесса. Ну наконец-то, — буркнул дедушка. Можно было подумать, что он искал меня уже несколько часов. - Снимай коньки, и пойдем. Дома ждет ужин. Сегодня ты переночуешь у нас. Твой отец отправился во Фрихолд, мама тоже с ним уехала. Ничего не скажешь, выбрали время. Вон какой ветрило разыгрался, не иначе как буран надвигается. Вот увидишь, они застрянут там дня на два, не меньше. Не пойму, почему Юэн не скажет своим подопечным, чтобы они сами приезжали в больницу, коли им приспичило. Уж больно он с ними цацкается. А ведь не получит за это ни пенса и ни словечка благодарности, это уж как пить дать.
Мой отец и доктор Кейтс принимали дальние вызовы по очереди. В зимнюю пору мама часто сопровождала отца — на тот случай, если его старенький «нэш» завязнет в снегу, и еще чтобы разговаривать с ним в дороге, не давая уснуть за рулем, потому что падающий снег действует на человека гипнотически.
- А как же Родди? — спросила я про братика, которому было всего несколько месяцев.
- За ним смотрит старая леди, — коротко отозвался дедушка.
Под «старой леди» разумелась бабушка Маклауд. Она была на несколько лет моложе дедушки Коннора, и тем не менее он всегда именовал ее только так, с явным намерением оскорбить, и тут я была целиком на его стороне. Он считал — с полным на то основанием, — что она слишком много воображает о себе, потому что ее муж был доктором, а теперь и сын тоже доктор, на Конноров же смотрит свысока из-за того, что они происходят из бедняков ирландцев (хотя и протестантов, благодарение богу!) . Бабушка Маклауд и дедушка Коннор встречались очень редко, разве что только на рождество, да и то обменивались лишь несколькими словами. Если бы между ними когда-нибудь вышла стычка, это было бы побоище бронтозавра с тиранозавром.
- Ну идем же, наконец! — сказал дедушка, когда я сняла коньки и надела зимние боты. — Сколько можно копаться? Какая же ты копуша, Ванесса.
Я ничего не ответила, но, когда мы отошли от катка, нарочно прибавила шагу. Дедушка, однако, не удостоил вниманием мою попытку уязвить его. Он степенно и молчаливо шествовал позади меня, недосягаемый в своей шубе и сознании собственного превосходства.
«Брик Хаус» - так назывался дедушкин дом - находился на другом конце города, и, пока я брела по снегу, пряча нос от порывов колючего ледяного ветра в синий шерстяной шарф, у меня было время поразмыслить над романом, который я сочиняла по ночам у себя в комнате, склонившись над пятицентовым блокнотом. В то время меня глубоко волновала тема любви и смерти, правда, мое представление о том и о другом пока что основывалось главным образом на Библии, которую я читала точно так же, как Итоновский каталог или сочинения Редьярда Киплинга: нужно же было мне что-то читать, а доходы семьи в те трудные тридцатые годы не позволяли покупать для меня многотомного «Доктора Дулитла» или книги о волшебной стране Оз.
При описании любовных сцен главным источником для меня служила «Песнь песней» Соломона. Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина. Или: На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не найма его. Смысл этих слов был для меня довольно-таки туманным, и мне не очень-то помогали пояснения, напечатанные мелким шрифтом в начале каждой главы, например: «Любовь церкви к Христу. Борьба церкви с искушением и ее победа над ним». Но само присутствие этих разъяснений ничуть не озадачивало меня: я уже тогда понимала, что они помещены здесь ради того, чтобы простодушные, бесхитростные люди, вроде бабушки Коннор, читая Священное писание, не испытывали никакой неловкости. Женщина из «Песни песней» казалось мне какой-то языческой царицей, прекрасной и величественной; я представляла, как она в длинном одеянии из леопардовой шкуры, с одним или даже двумя массивными золотыми браслетами на руке прохаживается по двору, выложенному алебастровыми плитами, и страдает от мук неразделенной любви.
Героиня моего романа (действие происходило в древнем Египте, о котором я имела весьма поверхностное представление, что, однако, ничуть меня не смущало) была как две капли воды похожа на ту женщину из «Песни песней», с одной лишь разницей — у нее были длинные волосы, сбегающие по плечам золотистыми волнами; кроме того, когда возлюбленный покидал ее, единственной пищей, к какой она могла притронуться, был плод авокадо, казавшийся мне куда более изысканным и экзотичным, нежели яблоки, о которых говорится в сцене любовного исступления. Возлюбленным моей героини был искусный резчик, которого жестокий фараон (в том, что все фараоны жестоки, я нисколько не сомневалась) отправил в пустыню, где он должен был высечь из камня гигантского сфинкса для королевской гробницы. Что же произойдет в моем романе дальше? Умрет ли моя героиня в отсутствие возлюбленного? Или лучше пусть он сгинет в пустыне? Кого из них двоих я люблю меньше? Для героев, которые были мне особенно дороги, все в конце концов складывалось наилучшим образом. И все же сцены смерти с заполнившими улицы плакальщицами и умолкшими дщерями пения (как сказано у Екклесиаста) тоже заключали в себе нечто безусловно притягательное, скорбно-величественное. Увы, и смерть и любовь были до обидного далеки от Манаваки, от этого снега, от моего дедушки, отряхивающего на крыльце ноги и велящего мне сделать то же самое, дабы не наследить на полу.
В доме было так жарко, что впору задохнуться. Дедушка растапливал печь чаще всего березовыми дровами, хотя береза стоила вдвое дороже тополя, теперь, когда он отошел от дел в своей скобяной лавке, топка печи стала его основным занятием, так что он без конца подбрасывал в нее поленья. Бабушка Коннор стояла в столовой, склонившись над клеткой с канарейкой всем своим грузным телом, затянутым в неизменное коричневое платье.
- Здравствуй, голубка, — сказала она мне. — Если бы ты пришла чуточку раньше, услышала бы нашу птичку - она только что вывела изумительную трель! Последнее время она совсем не пела из-за линьки, это ее первая песня после долгого перерыва.
- Вот это да! — воскликнула я с чувством, потому что при всей моей нелюбви к канарейкам я очень любила свою бабушку. — Просто замечательно. Может быть, она споет еще раз?
- От этих птиц одна грязь, — проворчал дедушка. — Не пойму, Агнесса, на что тебе сдалась эта дурацкая канарейка.
Бабушка оставила его замечание без ответа.
- Хочешь чаю, Тимоти? - спросила она.
- Небось скоро ужинать?
- Да нет, до ужина еще далеко.
- Почему? Ведь уже половина шестого, - недовольно проговорил дедушка. - Интересно, чем там занимается Эдна.
- Стряпает жаркое, но оно еще не готово.
- Неужели так трудно позаботиться, чтобы ужин вовремя стоял на столе? Можно подумать, у Эдны полно других забот.
Как уже не раз случалось со мной в этом доме, я почувствовала, что сейчас лопну, до того трудно мне было сдерживать себя. Я знала, бабушка не станет возражать деду, а меня так и подмывало сказать ему, что тетя Эдна не виновата, если в наши дни так трудно найти работу; что она и без того, как говорила мама, натрудила руки на домашней работе, и потому нечего считать ее нахлебницей в доме отца; что, если бы не она, им пришлось бы нанять прислугу, потому что бабушка уже не в силах тащить на себе хозяйство. И еще я могла бы сказать, что часы в гостиной показывают только десять минут шестого, а ужинают у Конноров в шесть. И... и еще тысячи других доводов приходили мне на ум, я просто готова была задохнуться. Но я ничего не сказала. Не настолько я была глупа. Вместо этого я повернулась и пошла на кухню.
На тете Эдне был коралловый свитер и серая юбка в складку, и я отметила про себя, что в этом наряде она выглядит очень привлекательно, несмотря на фартук. Впрочем, она казалась мне красивой в любой одежде, но, когда я говорила ей об этом, она только усмехалась и замечала, что ей приятно хотя бы от меня дождаться комплимента.
- Привет, детка, - сказала она. - Будешь спать сегодня со мной или постелить тебе в свободной комнате?
- С тобой, — не раздумывая, ответила я, потому что это означало, что она разрешит мне покрасить губы своей помадой и взять немного крема для рук «Йергенс», а если я не усну до того, как ляжет она, мы, погасив свет, еще пошепчемся с ней о всякой всячине.
- Как продвигаются «Столпы нации»? - спросила тетя.
Речь шла о моей эпопее из жизни первопроходцев. Я довела повествование до того момента, когда главный герой, возвратившись однажды вечером к себе в хижину, с удивлением обнаруживает, что в скором времени станет отцом. К этому ошеломляющему открытию он приходит благодаря тому, что застает свою жену за сооружением колыбельки из березовой коры. Но тут я неожиданно узнала, что дедушка Коннор тоже был первопроходцем, и сразу же охладела к своему творению. Если все первопроходцы такие, решила я, мое перо найдет себе лучшее применение.
- С тем романом покончено, — коротко ответила я. — Я сейчас сочиняю другой, намного интереснее. Он называется «Серебряный сфинкс». Ни за что не догадаешься, о чем я там пишу.
- О пустыне? О зарытом кладе? О таинственном убийстве?
Я покачала головой.
- О любви.
- Батюшки! — воскликнула тетя Эдна без тени улыбки. — Это звучит интригующе. И где только ты берешь свои темы, Ванесса?
Я не могла заставить себя сознаться, что из Библии. Я боялась показаться смешной.
- Видишь ли, — уклончиво ответила я, — мне их подсказывает сама жизнь.
Она с любопытством взглянула на меня, как видно намереваясь задать мне еще какой-то вопрос, но тут зазвонил телефон, и я опрометью бросилась к нему в надежде, что звонят мои родители из Фрихолда. Однако это были не родители. В трубке звучал незнакомый мужской голос.
- Можно попросить Эдну Коннор?
- Сейчас, минуточку. — Я прикрыла одной ладонью микрофон на стене, а другой — трубку и прошептала с загадочной улыбкой: — Это тебя. Какой-то мужчина.
- О боже, — шутливо отозвалась тетя Эдна, — толпы поклонников когда-нибудь сведут меня с ума. Это, верно, Тодд Джеффрис из «Бернс электрик», по поводу неисправной лампы.
Тем не менее тетя Эдна поспешила к телефону. Когда же она услышала голос в трубке, лицо ее изобразило изумление и еще что-то, чему я не знала названия.
- Господи, где ты? — воскликнула она. — Здесь, на станции? О боже! Почему же ты не написал, что... Да, конечно, только... Нет, ничего, не обращай внимания. Жди меня на станции. Нет, нет, я приду за тобой. Сам ты нас не найдешь...
Я еще ни разу не видела ее такой взволнованной. Когда она повесила трубку, ее лицо показалось мне чужим, и это почему-то больно меня задело.
- Звонил Джимми Лоример, — сказала она. — Со станции. Он хочет зайти. Боже мой, как жаль, что Бет уехала.
- Почему? - Мне тоже было жаль, что мама уехала, но я не понимала, отчего это должно огорчать тетю Эдну.
Я знала, кто такой Джимми Лоример. Тетя Эдна встречалась с ним, когда жила в Виннипеге. Он даже подарил ей флакон розовой воды с зеленым, обтянутым сеткой пульверизатором — тетя всегда брызгала этой водой в своей комнате после того, как выкуривала сигарету. В моем воображении Джимми Лоример был окружен своеобразным романтическим ореолом, но в ту минуту я вдруг почувствовала, что готова его возненавидеть.
Тут, однако, до меня дошло, что тетя обеспокоена тем, как поведет себя и что скажет в этой ситуации дедушка, и я сразу же устыдилась вспыхнувшей было во мне враждебности к Джимми Лоримеру. Я поклялась себе, что буду с ним приветлива, даже если он окажется законченным невежей, негодяем или болваном. Я представляла себе его этаким хлюстом вроде пароходного афериста, которого однажды видела в кинофильме, — в клетчатом костюме, с маленькими напомаженными усиками, с бриллиантовой заколкой в галстуке и опасной улыбкой совратителя. Ну и пусть! Пусть он окажется самим Сатаной, мне это безразлично!
- Я рада, что он приехал, — сказала я, преданно глядя на тетю.
Тетя Эдна недоверчиво покосилась на меня, и губы ее дрогнули, как будто она собиралась улыбнуться. Затем быстрым движением она нагнулась и обхватила меня руками, я почувствовала, что она дрожит. В этот миг в кухню вошла бабушка Коннор.
- Как ты тут, голубка? - обратилась она к тете Эдне. - Что-нибудь произошло?
- Мама, только что звонил мой старый приятель, Джимми Лоример из Виннипега. Он в Манаваке проездом. Ничего, если он зайдет и поужинает с нами?
- Ну конечно, родная, — сказала бабушка. - Как хорошо, что у нас сегодня жаркое. Его на всех хватит. Ванесса, голубка, сбегай-ка в погреб и принеси баночку клубничного варенья. Да, и захвати бутылочку соуса чили. Или нет, к жаркому, наверное, лучше подать сладкую горчичную подливку. Как ты считаешь, Эдна?
Бабушка говорила так, будто это самый главный вопрос, который предстояло решить, но глаза ее были прикованы к лицу тети Эдны.
- Эдна, — сказала она, делая над собой усилие, — он... он хороший человек, Эдна?
Тетя Эдна недоуменно моргнула, как будто с ней вдруг заговорили на незнакомом языке.
- Да, — ответила она.
- Ты уверена, голубка?
- Да, — повторила тетя Эдна уже более твердо.
Бабушка кивнула, одобрительно улыбнулась и легонько похлопала ее по руке.
- Ну вот и ладно, родная. Пойду скажу отцу. Все будет хорошо, не волнуйся.
Бабушка пошла в гостиную, а тетя Эдна принялась натягивать на ноги свои черные, отороченные мехом ботики. Потом она заговорила — то ли со мной, то ли сама с собой.
- Ведь я ничегошеньки ей не рассказывала, — удивленно бормотала тетя Эдна. — Ума не приложу, откуда ей все известно. А может, она и не знает ничего? Хороший. Тоже мне, словечко! Насколько было бы легче, если бы я не понимала, что мама имеет в виду. Или если бы она понимала, что имею в виду я. Господи, ну почему здесь нет Бет!
Тут я поняла, что тетя Эдна говорит не со мной, что она не может сказать мне то, чем ей сейчас необходимо с кем-нибудь поделиться. О, как горько мне было чувствовать себя маленькой, неспособной дотянуться до нее под цепенящим грузом моей неопытности. Я уже собралась сказать ей что-то, пусть даже это оказалось бы совершенной чепухой, но она вдруг шикнула на меня, и мы стали прислушиваться к разговору в гостиной.
- Тимоти, сегодня с нами будет ужинать приятель Эдны, — спокойным голосом произнесла бабушка, — молодой человек из Виннипега.
Молчание. Потом короткое восклицание: «Ха! Из Виннипега!», прозвучавшее так, будто Джимми Лоример прибыл сюда прямо из своего гарема в Касабланке.
- Что ему здесь нужно? — вопросил дедушка после паузы.
Эдна мне не сказала.
- Еще бы! — мрачно отчеканил дедушка. - Имей в виду, я не позволю ей шляться со всякими типами. А то ведь умишко у нее воробьиный.
- Ей уже двадцать восемь лет, — сказала бабушка, словно оправдываясь. — И потом, это всего лишь ее приятель.
- Приятель! — воскликнул дедушка так, будто это слово означало страшное проклятие. И продолжал негромко, но с непонятной горячностью: — Ты ни черта не смыслишь в мужчинах, Агнесса. Никогда не смыслила.
Будь я на месте бабушки, уж я нашла бы, что ему ответить, но бабушка промолчала. Я взглянула на тетю Эдну: она стояла, прикрыв веки, точно у нее вдруг разболелась голова. Затем наконец послышался бабушкин голос — не тот спокойный, ровный голос, к которому я привыкла, а робкий, просящий:
- Тимоти, пожалуйста, будь с ним поласковей. Ради меня.
Ради меня. Я была поражена, услышав из бабушкиных уст такие слова. Она была не из тех, кто способен просить кого- либо быть добрым ради нее или даже ради самого господа бога. Доброта, считала она, существует сама по себе, и судить о том, хорошо или дурно поступил человек, дано лишь Всевышнему. «Не суди, да не судим будешь» — вот ее любимая фраза, которую она повторяла всякий раз, когда я жаловалась на какую- нибудь из моих подруг. Глубоко набожная, бабушка считала грехом просить у господа чего-либо для себя. Ей казалось, что молить господа можно лишь о том, чтобы он дал тебе силы вынести испытание, которому счел нужным тебя подвергнуть. Мне не удавалось следовать этому ее завету; хотя меня в какой-то степени и мучили угрызения совести, я истово молила бога: «Боже, прошу тебя, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, сделай так, чтобы Росс Маквайти любил меня больше, чем Мэйвис». В том, что бабушка Коннор ничего не требовала для себя ни от бога, ни от своих близких, не было ни грана самоуничижения. Просто она верила, что человек не властен в своей судьбе. Всеприятие было главным свойством ее натуры. При этом, я думаю, ей никогда не приходило в голову, что она находится в каком-то приниженном положении. В глазах остальных членов семьи, которые яростно и бестолково метались в поисках выхода из лабиринта своих проблем, ее жизнь, должно быть, выглядела бесконечным подвижничеством, но я уверена, что сама она так не считала.
Дедушка Коннор, казалось, не расслышал ее слов.
- Я вижу, сегодня мы не дождемся ужина, - проворчал он.
Но мы дождались ужина, как только тетя Эдна вернулась со станции вместе с Джимми Лоримером; она сразу же выбежала в кухню, и не успели мы опомниться, как все сидели в столовой за большим круглым столом.
Джимми Лоример оказался совсем не таким, каким я его себе представляла. Он ничуть не походил на афериста с Миссисипи и обладал самой что ни на есть обыкновенной внешностью - таким мог быть дядя или взрослый двоюродный брат любой из моих подруг. Я не нашла в нем ничего примечательного — ни сногсшибательной красоты, ни ужасающего уродства. Он казался достаточно симпатичным, но, как я сразу же отметила про себя с ощущением обиды за тетю Эдну, не настолько, чтобы стоило писать о нем в письмах домой. На нем был коричневый костюм с зеленым галстуком. Единственной черточкой, способной привлечь к себе внимание, была его привычка подшучивать над всем и вся — такая же, как у тети Эдны, но если в ней это нисколько меня не задевало, то в незнакомом человеке настораживало: было трудно распознать, где кончается шутка и начинается насмешка.
- Значит, вы из Виннипега, так? - заговорил дедушка Коннор. - Гм, боюсь, вам, молодым, не больно по вкусу городок вроде нашей Манаваки. — Не дожидаясь ответа, из которого следовало бы, согласен собеседник с этой мыслью или нет, дедушка продолжал: - Терпеть не могу людишек, которые считают любой маленький городок дырой. А что хорошего в больших городах? Можно прожить там двадцать лет и даже не знать своего соседа. А приключись беда — придет к тебе кто на помощь? Черта с два.
Дедушка Коннор никогда не жил в большом городе, и его представления о тамошних нравах были, мягко говоря, ограниченными. Что же до беды, то сама мысль о том, что дедушка способен обратиться к кому-нибудь в Манаваке за помощью или поддержкой, казалась мне совершенно направдоподобной. Он скорее умер бы от голода, физического или морального, чем принял от кого-либо благодеяние — будь то медный грош или слово утешения.
- Погодите минутку, — запротестовал Джимми Лоример. — Я ничего такого не говорил. Между прочим, я сам вырос в маленьком городке. Пристань Макконела, слыхали о таком?
- Как же, слыхал, — отрубил дедушка, и было трудно понять по его тону, то ли Пристань Макконела пользуется дурной славой, то ли дедушка просто рассердился из-за того, что собеседник поставил под сомнение его познания в географии. — Почему же тогда вы уехали оттуда?
Джимми Лоример пожал плечами.
- Возможностей там маловато. Вот я и отправился искать счастья в другом месте. Не могу сказать, что я его нашел, но, как говорится, надежды не теряю.
- О, ты наверняка станешь миллионером, — вставила тетя Эдна.
- Это уж точно, детка, - ответил Джимми. - Дай срок. Времена меняются.
Меня покоробило оттого, что он сказал ей «детка». Так тетя Эдна всегда называла меня. Джимми не имел права произносить это слово.
- К сожалению, для меня времена меняются чересчур медленно, — сказала тетя Эдна. — Так что я не могу разделить твоего оптимизма.
- Да я и сам не такой уж оптимист, — заметил Джимми с усмешкой, — только стараюсь об этом помалкивать.
Едва дождавшись, когда обмен репликами между ними подойдет к концу, дедушка Коннор снова обратился к Джимми:
- А чем, позвольте полюбопытствовать, вы занимаетесь?
- В настоящее время служу в кредитной компании, господин Коннор, но не собираюсь оставаться там вечно. Мне хотелось бы открыть собственное дело. Моя настоящая страсть — автомобили. Но в наше время не так-то просто заняться бизнесом.
Дедушкины взгляды на социальные проблемы отличались такой определенностью и так часто он излагал их, что даже я имела о них исчерпывающее представление: профсоюзы состоят сплошь из головорезов и проходимцев; если люди оказываются без работы, виной тому исключительно их лень; если люди нуждаются, значит, они попросту не умеют обращаться с деньгами. Но сейчас, как видно, он решил выступить в роли защитника бедных и угнетенных. На его чело легла печать глубокого скорбного раздумья.
- Кредитная компания! — воскликнул он. — Кровопийцы проклятые! Человек будет с голоду подыхать, а от них и гроша не дождется. Куда там, обдерут как липку — и глазом не моргнут. Клянусь богом, не думал я, что когда-нибудь сяду за стол с одним из этих грабителей!
Лицо тети Эдны сделалось каменным.
- Не обращай на него внимания, Джимми, — сказала она.
Дедушка повернулся к ней, и они скрестили взгляды, исполненные неописуемой ненависти, но ни один из них не произнес ни слова. Во мне шевельнулась невольная жалость к Джимми, который пробормотал что-то насчет своего поезда и принялся торопливо доедать жаркое. Дедушка поднялся из-за стола.
- Ну все, сыт по горло, — бросил он.
- А как же десерт, Тимоти? - спросила бабушка, словно ей и в голову не приходило, что дедушкины слова могут относиться не только к еде. Лишь теперь я обратила внимание на то, что это была первая фраза, произнесенная ею за весь вечер. Дедушка не ответил. Он удалился в свой подвал, и, как и следовало ожидать, через минуту оттуда послышался знакомый скрип качалки, напоминающий далекие раскаты грома. После ужина бабушка перешла в гостиную, но, как ни странно, не стала вязать мой красный джемпер. Она сидела совершенно неподвижно, сложив руки на коленях.
- Сегодня я освобождаю тебя от кухни, девочка, - сказала тетя Эдна. — Джимми поможет мне с посудой. Если хочешь, можешь взять мою помаду, только, ради бога, смой ее потом хорошенько.
Я отправилась наверх, но не в тетину спальню, а в заднюю комнату, где находился один из моих излюбленных постов. Там в полу было круглое отверстие, сквозь которое когда-то проходил дымоход из кухни. Теперь это отверстие прикрывал кусок выкрашенной в коричневый цвет жести с множеством маленьких дырочек, на которые никто, кроме меня, по-видимому, не обращал внимания.
- Где только он набрался этих взглядов, Эдна? — донесся снизу голос Джимми Лоримера. — Прямо как в старой мелодраме.
- Да, я знаю, — раздраженно проговорила тетя Эдна. — Только, по-моему, тебе не следует его осуждать.
- Прошу прощения. Я не хотел, честное слово. Послушай, неужели мы так и не...
Послышались какие-то шорохи, потом тетин нервный шепот:
- Только не здесь, Джимми, пожалуйста. Ты не понимаешь, до чего они...
- Нет, как раз понимаю. Какого черта ты здесь торчишь, Эдна? Ты что, не собираешься возвращаться? Вот что я хочу знать.
- А где я найду работу? Не смеши меня.
- Я мог бы помочь тебе деньгами, по крайней мере на первых порах.
- Джимми, не прикидывайся дурачком. Неужели ты всерьез считаешь, что я могу приехать?
- Хорошо, давай подойдем к этому вопросу с другого конца. А если я пообещаю тебе покончить с вольной жизнью? Если горбатый исправится, не дожидаясь, когда его исправит могила? Что ты на это скажешь, детка?
Пауза. Судя по всему, тетя Эдна обдумывала его слова.
- Так я тебе и поверила. Да скорее рак на горе свистнет, чем ты исправишься.
- Ну что ж, сударыня, — сказал Джимми, — ползать перед вами на коленях я не стану. Скажи мне только одно - неужто ты совсем обо мне не вспоминаешь? И вообще ни о чем не вспоминаешь? Ну ответь же. Неужели совсем, ни капельки?
Снова пауза. Видно, тетя Эдна не знала, как ответить на его колкость.
- Как же! Не сплю ночами, — язвительно произнесла она наконец.
Джимми усмехнулся.
- Все та же, прежняя Эдна. Хочешь, детка, я скажу тебе одну вещь? Мне кажется, ты просто испугалась.
- Испугалась? — презрительно хмыкнула она. — Я? Может быть, когда-нибудь я и испугаюсь, но только ты этого не дождешься.
Мне и раньше довольно часто доводилось подслушивать разговоры взрослых, предназначенные явно не для моих ушей, но тут я впервые устыдилась этого занятия. Оставив свой пост, я на цыпочках прокралась в комнату тети Эдны. Когда-нибудь, возможно, мне самой придется вести подобный разговор, а какой-то другой ребенок будет подслушивать. Эта мысль неприятно поразила меня. Я взяла тетину помаду и румяна и принялась краситься, но это занятие не доставило мне особого удовольствия.
Я спустилась вниз как раз в тот момент, когда Джимми Лоример прощался. Тетя Эдна закрылась в своей комнате. Через некоторое время она вышла оттуда и спросила меня, не могла бы я лечь сегодня в другой комнате; мне не оставалось ничего другого, как подчиниться.
Среди ночи я проснулась и не сразу сообразила, что нахожусь не у себя дома, не в своей постели. Через окно в комнату сочился странный мерцающий свет. Я встала с кровати и подошла к окну. Край неба был озарен северным сиянием, точно всполохами далеких зарниц. Двор вокруг дома казался огромной белой пустыней, на которой в волнах тусклого света резко обозначались борозды и провалы, вырытые ветром в снегу.
Больше я не могла ни секунды оставаться одна и босиком выскочила в коридор. Из дедушкиной спальни раздавался громкий сердитый храп, из комнаты, где спала бабушка, не доносилось ни звука. Я подошла к двери тетиной спальни. Мне казалось, она не станет возражать, если я войду тихонько, так, чтобы ее не потревожить, и прилягу на постели рядом с ней. Быть может, она даже приоткроет глаза и скажет спросонья: «Это ты, детка? Устраивайся поудобнее. Вчера, когда ты уснула, звонил папа — они уже вернулись из Фрихолда».
Но тут я услышала ее голос, и сдавленные рыдания, и имя, которое ей, видимо, было больно выговорить даже шепотом.
Словно до смерти перепуганный идолопоклонник, верящий в магию звуков, я опрометью кинулась к себе и юркнула в постель. Больше всего на свете мне хотелось забыть все, что я только что услышала, но я знала, что никогда не смогу этого забыть. Перед моим мысленным взором вдруг, непонятно почему, возникла языческая царица, та, что жила когда-то давным-давно. Мне никак не удавалось соединить этот образ со знакомым лицом, но в то же время я уже не представляла их себе отдельно друг от друга. Я думала о тете Эдне с ее звонким смехом, о том, как сноровисто управлялась она по хозяйству, о ее руках, о ногах, которые она пренебрежительно называла косолапками. Я думала о своем романе. Мне не терпелось поскорее очутиться дома и порвать все, что я успела написать.
Когда бабушка Коннор заболевала, она не желала звать никаких врачей, кроме моего отца. Хирурги внушали ей панический страх, она считала, что они вторгаются в сферу, подвластную одному лишь Создателю, и опасалась, что доктор Кейтс может прооперировать ее, не спросив у нее согласия. Но моему отцу она доверяла беспредельно, стоило ему войти в комнату, где бабушка лежала на высоко взбитых подушках, он неизменно слышал одну и ту же фразу: «Вот и Юэн, значит, теперь все будет хорошо»; эти слова одновременно и трогали, и пугали отца, заставляя его всякий раз повторять, что он, право же, не хотел бы обмануть ее надежд.
В конце той зимы бабушка снова заболела. В больницу ее отправлять не стали, и мама, служившая когда-то сестрой милосердия, перебралась в «Брик Хаус», чтобы ухаживать за нею. Мы с братом были оставлены на бдительное попечение бабушки Маклауд. Без мамы наш дом казался музеем, заполненным мертвыми, бессмысленными вещами: вазами, картинами в золоченых рамах, громоздкими шкафами и буфетами, с которых требовалось без конца смахивать пыль, а зачем — этого уже никто не помнил. Навещать бабушку Коннор мне не разрешали, но каждый день после уроков я приходила в «Брик Хаус» повидаться с мамой. И всякий раз я донимала ее вопросом: «Когда же бабушка поправится?», на что мама отвечала: «Не знаю, доченька. Надеюсь, что скоро». Но голос ее звучал не слишком уверенно, и я представляла себе бесконечную вереницу тягучих недель без мамы, с появлениями по утрам бабушки Маклауд в моей комнате и напоминаниями, чтобы я непременно оправила кровать, ибо неопрятная постель свидетельствует о неопрятности души.
Однако все кончилось скорее, чем я думала. Как-то раз, подойдя к «Брик Хаусу», я увидела дедушку Коннора, неподвижно стоящего на крыльце. Самое поразительное — на нем не было его знаменитой шубы. Он стоял в одном стареньком шерстяном костюме, хотя мороз в тот день доходил до пятнадцати градусов. На крыльцо намело снега, и он лежал на ступенях горками. Седая с прожелтью дедушкина грива развевалась на ветру, которого он, казалось, не замечал, подставив его порывам скуластое, все еще красивое лицо. Он молча смотрел на меня, пока я пробиралась по тропинке к дому и поднималась по ступенькам. Потом сказал:
- Ванесса, бабушка умерла.
Я уставилась на него, не в силах осознать значение этих слов, и тут он сделал нечто совсем уж немыслимое. Он сгреб меня своими железными ручищами и зарыдал, прижавшись лицом к моей холодной щеке.
Мне хотелось только одного — убежать, убежать как можно дальше и никогда больше сюда не возвращаться. Мне хотелось скорее увидеть маму, но я почувствовала, что не смогу переступить порог этого дома, никогда уже не смогу. Тут как раз отворилась дверь, и я увидела на пороге маму, дрожащую всем своим хрупким телом. Дедушка отпустил меня, распрямился, и лицо его стало таким же неподвижным, каким я увидела его, подходя к дому.
- Отец, — окликнула его мама. — Иди в дом. Прошу тебя.
- Я сейчас, Бет, — ответил он погасшим голосом. — Не беспокойся обо мне.
Мама протянула руки мне навстречу, и я бросилась к ней. Затворив дверь, она повела меня в гостиную. Мы обе заплакали, но я плакала главным образом потому, что плакала она, и еще потому, что меня напугал дедушка. Я все еще не могла поверить, что кто-либо из дорогих мне людей способен умереть.
В гостиную вошла тетя Эдна. Взглянув на нас с мамой, она помедлила, потом неверным шагом направилась в кухню. Мама как-то странно повела руками и привстала с дивана, но тут же снова прижала меня к себе.
- Эдне сейчас тяжелее, чем мне, — сказала она. — У меня все-таки есть ты, и Родди, и папа.
Я была не в силах поверить, что бабушка Коннор уже никогда не пройдет по этому дому, оберегая его ненадежный покой, но я вдруг поняла, что значит для тети Эдны остаться здесь без нее, наедине с дедушкой. Я никогда не думала, что смерть близкого человека — это не только твоя собственная боль, но еще и невыносимое сознание чужой боли, которую ты не можешь ни унять, ни облегчить.
Мы с мамой перешли в кухню и сели напротив тети Эдны за покрытый клеенкой стол. Мы почти не говорили, но каждая из нас ощущала необходимость побыть здесь всем вместе. Хлопнула входная дверь, это вернулся дедушка Коннор. Но к нам он не вошел. Словно повинуясь инстинкту, он направился в свое убежище. Послышались его тяжелые шаги по лестнице, ведущей в подвал.
- Эдна, может быть, позовем его выпить чаю? — сказала мама. — Нет сил смотреть, как он ушел туда, один...
Лицо тети Эдны посуровело.
- Я не хочу видеть его, Бет, — ответила она с усилием. — Не могу. Пока еще не могу. Единственное, о чем я буду думать, - это как он обращался с мамой.
- Я понимаю, милая. Но сейчас ты должна гнать от себя эти мысли.
- В тот вечер, когда приезжал Джимми, — отчетливо проговорила тетя, — она просила отца держаться с ним поласковее, ради нее. Понимаешь, Бет, ради нее. Ради всех лет, что они прожили вместе, если, конечно, это что-нибудь значит. Но он даже в этом не пожелал ей уступить. Даже в такой малости.
Тетя Эдна уронила голову на стол и заплакала горько, безысходно — так, как при мне еще никто никогда не плакал.
На бабушкины похороны меня не взяли, и я была от души благодарна за это, потому что боялась идти на кладбище. Оставшись одна в «Брик Хаусе», я дожидалась возвращения взрослых. Из родни приехал только дядя Теренс из Торонто. Дядя Уилл и тетя Флоренс жили слишком далеко — один во Флориде, а другая в Англии. Тетя Эдна с мамой нередко осуждали дядю Теренса, но одновременно и жалели его. Дело в том, что дядюшка мой выпивал — это была одна из семейных тайн, которую от меня тщательно скрывали. Но я любила его, точно так же как и своего двоюродного дедушку Дэна, торговца лошадьми, который приходился братом дедушке Коннору, — любила за веселый нрав и репутацию пропащего человека.
Я сидела в столовой возле золоченой клетки с канарейкой. Накануне тетя Эдна, прибирая в комнате, спросила:
- Что мы станем делать с этой канарейкой? Может, отдадим ее кому-нибудь?
- Не смей так говорить, Эдна, — напустился на нее дедушка. — Твоя мама любила эту птичку, поэтому она останется здесь. Слышишь?
Когда мама с тетей Эдной поднялись наверх покурить, тетя сказала:
- Подумайте, какая трогательная привязанность к птичке! Жаль только, что она проснулась в нем так поздно.
- Постарайся быть более терпимой, — увещевала ее мама. — Ему ведь тоже тяжело.
- Наверное, — пробормотала тетя Эдна неуверенно. — Просто я не умею быть терпимой, как мама. Ни с ним, ни с другими мужчинами.
Я вспомнила про объявление, которое незадолго перед этим увидела в виннипегской газете «Фри пресс», на странице, где печатают светскую хронику; в нем сообщалось о бракосочетании Джеймса Рейли Лоримера с такой-то. Схватив газету, я помчалась к маме. «Я знаю, Ванесса, — сказала она тогда. — Эдна тоже знает. И не будем больше об этом говорить, ладно?»
Канарейка, как всегда, не изъявляла желания петь, но мне было все равно, я понуро сидела возле клетки, даже не пытаясь вынудить у этого упрямого создания хотя бы несколько звуков. Я пыталась представить себе, где сейчас бабушка Коннор - неужто и впрямь на небе? Это казалось мне не очень-то правдоподобным. Я вспомнила мамины слова, сказанные тете Эдне, когда та выразила такое же сомнение:
- Она верила в это, Эдна. Какое же право мы имеем считать, что это не так?
- Да, я знаю, — возразила тетя. — Но неужели ты сама способна в это поверить?
- Нет, пожалуй. Но для такого человека, как мама, было бы ужасно узнать, что никакого неба нет, после того как она столько лет верила в это.
- Она так никогда и не узнала бы.
- А вот этого я как раз не могу допустить, — раздумчиво произнесла мама. - Мне кажется, что она должна где-то быть.
Я решила отслужить по бабушке свою тризну, пусть на ней будет присутствовать одна канарейка. Достав из шкафа ее Библию, я отыскала книгу Екклесиаста. Мне хотелось прочесть целиком главу, в которой говорится о том, как плакальщицы окружают отходящего в вечный дом свой, как порвалась серебряная цепочка и разбился кувшин, как возвратился прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к богу, который дал его. Но я запнулась на первых же строчках, потому что мне вдруг стало казаться — о ужас! — что их читает бабушка своим тихим ласковым голосом: «Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни...»
Послышалось хлопанье дверей — это взрослые вернулись с похорон. Пока они раздевались в прихожей, я закрыла Библию и поспешно спрятала ее в шкаф.
Подойдя ко мне, дедушка Коннор положил руки мне на плечи, и у меня не было иного выхода, как выдержать это прикосновение.
- Ванесса, — сказал он хрипло, и я не представляла себе, каких усилий ему вообще стоило говорить в эту минуту, — она была ангелом. Запомни это.
Затем он в полном одиночестве удалился в свой подвал. Никому не пришло в голову последовать за ним или попросить его остаться. Даже мне, ребенку, было ясно, что это невозможно. Он держался неприступно. Каким бы ни было его горе, он не хотел выставлять его напоказ, да и нам не хотелось этого.
Дядя Теренс прошел прямо в кухню и, вытащив из кармана фляжку, налил себе полный стакан виски. Затем плеснул в стаканы моих родителей и тети Эдны.
- О боже, — вздохнула тетя Эдна, — мне совсем не хочется виски. И вообще, я думаю, не стоит пить сейчас, сразу после похорон. Вы же помните, как мама всегда к этому относилась. А если сюда войдет отец...
- Пора бы уже тебе перестать быть паинькой, - сказал дядя Теренс.
Тетя Эдна потянулась к сумочке за сигаретой. Дядя Теренс поднес ей зажигалку. Тетины руки дрожали.
- Ты бы лучше помолчал, — ответила она.
Дядя Теренс обратил ко мне взгляд, одновременно озорной и покорный, и я поняла, что мое присутствие им мешает. Через некоторое время отец сказал, что ему пора в больницу, и я воспользовалась его уходом, чтобы проскользнуть наверх к заветной дырке в полу. Совесть уже не позволяла мне подслушивать чужие разговоры, как прежде, но на сей раз меня извиняло то, что я добровольно покинула кухню — в такой день меня не стали бы выгонять.
- Ангел, — с горечью проговорила тетя Эдна. - Вы слышали, что он сказал Ванессе? Жаль, что мама так и не дождалась от него этого слова.
- Она и без того знала, как высоко он ее ставит, - сказала моя мама.
- Неужели? - удивилась тетя Эдна. - По-моему, ей казалось, что он вообще ни во что ее не ставит. Да я и сама так думала, пока не увидела, как подкосила отца ее смерть.
- Прекрати, Эдна! — воскликнула мама. — Она все прекрасно знала.
- Каким же образом, — не унималась тетя, — если он никогда не давал ей этого почувствовать?
- Откуда ты знаешь, о чем они говорили наедине? — возразила мама.
- Этого я, конечно, не знаю, но кое-какие предположения у меня есть.
- Известно ли тебе, Бет, — спросил дядя Теренс, наливая себе очередную порцию виски, — что однажды она чуть не ушла от отца? Это было еще до твоего рождения, Эдна.
- Нет, — ошеломленно произнесла мама. — Я никогда об этом не слыхала.
- Представь себе. Мне рассказывала тетушка Мэтти. Насколько я понимаю, отец завел шашни с какой-то девицей из Виннипега, и мама прослышала об этом. Она ничего не сказала отцу. О том, что она собирается уйти от него, знали только она сама, боженька и тетушка Мэтти. Видимо, они втроем и решили, как ей быть. Жаль, что она ничего не сказала отцу. Думаю, ему было бы приятно узнать, что она не такое уж кроткое, всепрощающее создание.
- Как он мог? — чуть слышно сказала мама. — О, Теренс, как он мог так поступить? И с кем — с нашей матерью.
- Знаешь что, Бет, — откликнулся дядя Теренс, — я думаю, он искренне считал ее ангелом. Сама она, разумеется, об этом не догадывалась, ей, наверное, и в голову не приходило, что отец может так думать. Но мне сдается, отец всю жизнь чувствовал ее превосходство над собой. Можешь ли ты, дорогая, вообразить, каково ложиться в постель с ангелом? Я, например, даже представить себе этого не могу.
- Ты пьян, Теренс, — резко оборвала его мама. - Как всегда.
- Возможно, — согласился тот. — Только мне кажется, Бет, что кто-то из нас должен был сказать Ванессе: «Послушай, девочка, твоя бабушка была чудом, и мы обожали ее, но давай не будем называть ее ангелом». А то ведь вся эта чепуха с ангелами может далеко завести, понимаете?
- Не понимаю, как ты можешь такое говорить, Теренс, — сказала мама, с трудом сдерживая слезы. — Теперь вдруг получается, что во всем виновата она. Просто не понимаю, как ты так можешь.
- Я не говорю, что она в чем-то виновата, — устало проговорил дядя Теренс. — Я совсем не то имел в виду. Давай все-таки исходить из того, что у меня в голове тоже есть несколько извилин, Бет. Я всего лишь хотел сказать, что ему, должно быть, тоже приходилось несладко. Откуда мы знаем, какая тяжесть лежала на его плечах? Ведь это такой страшный груз — чужие добродетели. Мы все любили ее. А его кто любил? Да и кому, черт возьми, он мог внушить любовь? Не кажется ли вам, что он догадывался об этом? Возможно, порой он даже думал, что лучшего отношения и не заслуживает.
- Не может быть, — подавленно сказала мама. — Это было бы... О, Теренс, неужели ты и впрямь допускаешь, что он мог так думать?
- Я знаю не больше твоего, Бет. Я полагаю, он вполне отдавал себе отчет в том, что в маме было нечто такое, чего сам он был начисто лишен, и я готов побиться об заклад, что это нечто он принимал за праведность. Но это была не праведность. Это была... я думаю, это была нежность. При том, что ты часто несправедлива к нему, Эдна, сдается мне, в одном ты попала в самую точку. Я думаю, маме никогда не приходило в голову, что отцу нужна ее нежность. Да и как ей это могло прийти в голову? Сам он не умел проявлять нежность. Он умел только рычать. Ну что ж, в нашей семье у каждого своя панацея. Свою я, например, таскаю с собой в кармане. Не знаю, что служит панацеей для тебя, Бет, но Эдна в этом смысле куда больше похожа на отца, чем вы думаете.
- Вот как? - воскликнула тетя Эдна, и голос ее почему-то стал язвительным. — Интересно, что же это за панацея, осмелюсь я спросить.
- Острый язычок, душенька, — смиренно ответил дядя Теренс. — Твой острый язычок.
Они замолчали. Наступившую тишину нарушало лишь прерывистое дыхание тети Эдны. Потом она высморкалась.
- Господи, представляю себе, какая я сейчас красавица, просто Вечерняя Звезда в развалинах, — быстро проговорила она. — И пудра, наверное, вся стерлась. Ну ничего, руинами займемся попозже. Может быть, поставишь чайник, Бет? А я, пожалуй, спущусь к отцу и спрошу, не хочет ли он чаю.
- Да, — сказала мама. - Замечательная мысль. Пойди к нему, Эдна.
Я услышала тетины шаги на лестнице, ведущей в одинокое убежище дедушки Коннора.
Много лет спустя, когда Манавака осталась для меня далеко позади во времени и пространстве, я увидела однажды в музее маску Медведя, принадлежащую индейцам племени хайда. Это была странная маска, с чертами уродливыми, но вместе с тем исполненными силы. Уголки рта были опущены книзу с выражением исступленного гнева. Вместо глаз зияли два пустых провала. Но чем дольше я вглядывалась в них, тем сильнее они притягивали меня, пока наконец в глубине этих темных провалов мне не почудился знакомый недоумевающий взгляд. И я вспомнила, что перед тем как стать музейным экспонатом, эта маска скрывала человеческое лицо.
Произведения
Критика