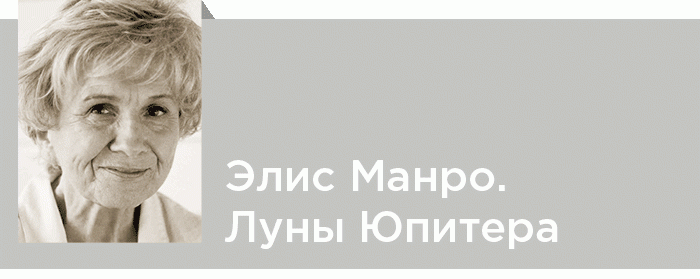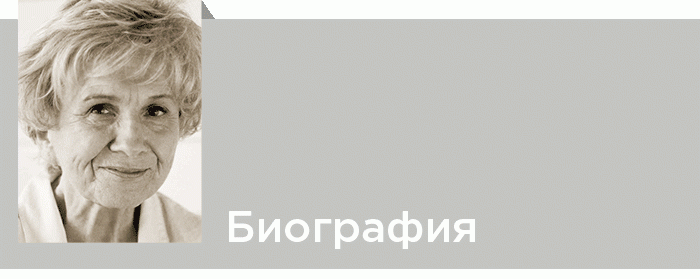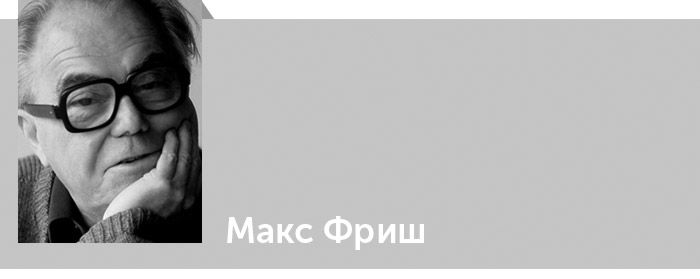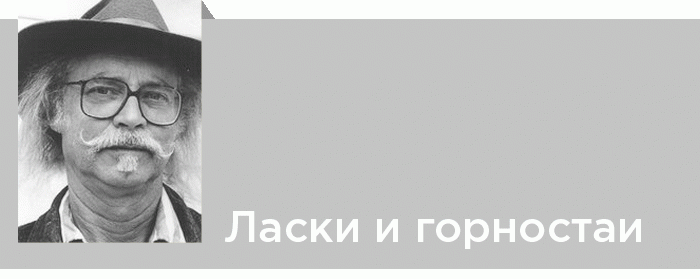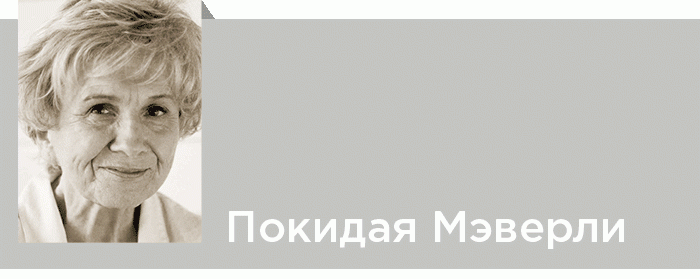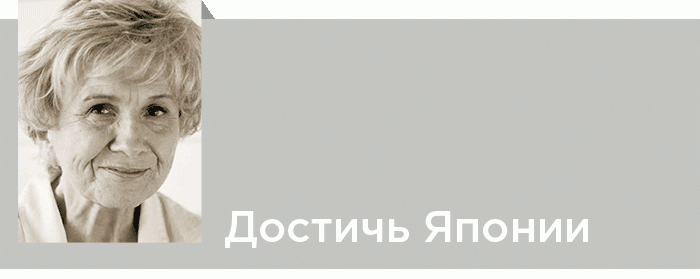Элис Манро. Путь любви
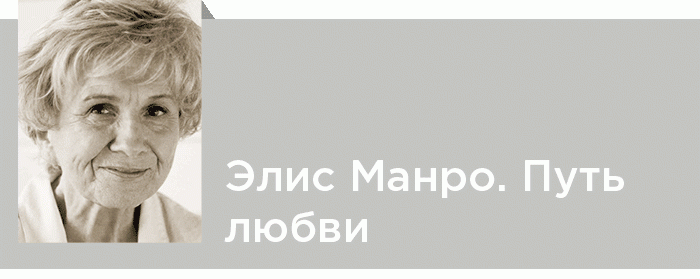
Е. Любимова
Художественный мир Элис Манро (род. в
В новелле «Лишайник» противостояние естественного течения жизни и авторского тезиса очевидно. Ее героиня Стелла — человек активного, деятельного добра. Немолодая, полная женщина, гостеприимная и открытая, она достойно несет бремя не слишком счастливой жизни. Ей лишь прибавляет бодрости то, что иные, «нормально эгоистичные» натуры сочли бы ненужной тратой сил, — еженедельные поездки к престарелому отцу, работа над записками по истории края, участие в деятельности различных местных обществ. Не испытывая ни раздражения, ни ревности, встречает она неожиданно наведавшегося в эти края своего бывшего мужа, сопровождаемого его подругой Кэтрин.
Сколь постоянна в своих привязанностях Стелла, столь же импульсивен и внутренне не укоренен Дэвид с его полудетской потребностью поверять ей свои тайны. Еще недавно, увлеченный Кэтрин, он вдохновенно «конструировал» (другого слова и не подберешь) образ возлюбленной. Главным в нем были внешние, опознавательные признаки: погружена в себя, вегетарианка, составляет гороскопы и т. п. Неудивительно, что он быстро «исчерпал» смоделированную в своем сознании Кэтрин, возникло новое чувство (применительно к Дэвиду правильнее сказать — новая фантазия): ученица монастырского колледжа Дайна. Фотографии Дайны он украдкой показывает Стелле, прося спрятать их от Кэтрин, а быть может, и от него самого. После обеда, разговорившись с недавней его избранницей, Стелла лишний раз убеждается, как высоко способно воспарять над реальностью воображение
Дэвида. Кэтрин, наблюдательная, трезвомыслящая женщина, понимает, что «синдром Дон Жуана» равнозначен для него бегству в иное измерение бытия, иными словами — иллюзии морального освобождения. Тем временем Дэвид, как бы иллюстрируя ее слова, тщетно пытается дозвониться до Дайны. Потом вместе со Стеллой навещает в инвалидном доме бывшего тестя, спорит с ним о новых марках машин. Беседой довольны оба — и слепой старик, с явным удовольствием подыгрывающий мнению окружающих о его слабости и немощи, и не желающий прозревать Дэвид. Эпизод мог бы остаться примирительно-благостным или вовсе стереться в памяти, если бы не один мимолетный штрих. Прощаясь, Дэвид обнимает Стеллу и в этот момент видит идущую им навстречу хорошенькую медсестру-вьетнамку. Ощутив овладевшую им неловкость, Стелла реагирует точно и без промедления. «Я могу быть твоей сестрой. Сестрой-утешительницей. Старшей сестрой»,— говорит она.
Неделей позже, когда эмоциональное ощущение от неожиданного «визита» стало почти неразличимо, героиня находит оставленные Дэвидом фотографии. Лежавшие на солнечной стороне террасы, они за короткий срок успели выцвести: мох под ногами Дайны стал похож на лишайник, черты лица юной девушки утратили четкость. Богатство деталей, как бисер рассыпанных в тексте, остроумие отдельных характеристик не спасли рассказ от известной поверхностности и однозначности, а положенную в его основу коллизию — от очевидной заданности. Разумеется, в читательской воле — усматривать или не усматривать в нем иллюстрацию достаточно банального псевдофеминистского тезиса об инфантильности современных мужчин и душевной стойкости женщин; обидно, однако, что он всерьез не предусматривает иных убедительных истолкований.
Сходные мотивы звучат и в новелле «Круг молитв». После развода с мужем Труди остается вдвоем с дочерью-школьницей. Подобно Стелле, она сторонница действенной силы добра и, работая медсестрой в психиатрической лечебнице, стремится по возможности облегчить участь больных. Ее бывший муж, автомеханик Дэн, практичнее Дэвида, но, в сущности, близок ему своим легковерием и «легкочувствием», откровенной ребячливостью. Обрывки воспоминаний героини о несложившейся семейной жизни накладываются в рассказе на острую, «взрывную» реакцию. Труди, ее дочери Робин и других на трагический инцидент, взбудораживший городок: в автомобильной катастрофе бессмысленно и нелепо гибнет сверстница Робин. Угнав после вечеринки грузовик, она на полном ходу врезалась в дерево. Потрясенные случившимся одноклассницы решают, что воскресить их подругу способны только... пожертвованные ей драгоценности. На похоронах, проходя мимо гроба, они бросают в него свои — но, конечно, и родительские — серьги, ожерелья, кольца, броши. Труди узнает об этом накануне похорон, обнаружив, что из дома исчезли фамильные обручальные кольца. Не в силах удержаться от гнева, она швыряет кувшин, в котором хранились кольца, прямо в голову Робин. Причина ее вспышки не скупость, не избыточная забота о сохранности семейных реликвий, но неприятие самовольной попытки дочери уничтожить память об отце (или, вернее, трансформировать ее в память о Трэйси Ли — так звали погибшую девочку). Пропасть между Труди и Робин катастрофически ширится.
И тут-то сослуживица подсказывает смятенной и колеблющейся между осуждением и оправданием дочери героине соблазнительно простой выход. По ее мнению, Труди должна всего-навсего включиться в «круг молящихся» (у них в основном телефонные контакты, и собеседникам неведомо, как распространяется информация дальше), поделиться с кем-то из них своим горем, и тогда... Что, собственно, тогда? Быть может, Дэн вернется к семье, Трэйси Ли воскреснет, кольца вновь окажутся на месте? Было бы преувеличением сказать, что в это всерьез может уверовать Труди. Впрочем, попавшие в «круг» довольствуются сеансами психотерапии (своего рода «службой доверия»), не слишком надеясь на какие-то практические результаты. Перефразируя название новеллы, заметим, что пересекающиеся круги человеческих иллюзий подернуты в ней умиротворяющей лирической дымкой. Это усугубляет серьезность авторского посыла, хотя, зная предыдущие книги Манро, можно заключить, что ироническая интонация была бы здесь не в пример уместнее.
Из ряда рассказов, написанных «в защиту женщин», ощутимо выделяется новелла «Потрясение». Для манеры Манро не слишком привычна и его детективная фабула, и затемненность смыслового центра при резкой отчетливости изображения «периферийных» подробностей. Живущие в небольшом городке Пег и ее муж Роберт почти незнакомы с соседской пожилой четой, что, в общем, понятно — те обосновались в квартале недавно, живут замкнуто, много путешествуют. Последний раз обе пары виделись несколько дней назад, вскоре после возвращения Уолтера и Норы из Мексики. И неизвестно, вспомнила ли бы вообще Пег о соседях, не попроси ее фермер, снабжающий квартал продуктами, передать им корзину с яйцами и маслом.
При переходе от завязки к кульминации угол зрения меняется: за ясностью и простотой «нейтрального» тона рассказчицы контрастно проступает загадочность происходящего. Собирающаяся выполнить просьбу фермера Пег с удивлением обнаруживает, что дверь соседского дома не заперта, а крыша завалена грудами снега. Заподозрив неладное, она поднимается на второй этаж и видит распростертое на полу тело Уолтера, залитый кровью ковер, а рядом на кровати — недвижную Нору. И тут приходит пора дивиться и настораживаться читателю — не столько представшему глазам Пег страшному зрелищу, сколько ее последующему поведению. Как ни в чем не бывало отправляется она к себе на работу, в магазин, никому о самоубийстве — или двойном убийстве — соседей не рассказывает, держится ровно и спокойно. Между тем тревожные слухи уже циркулируют по городу, к дому погибших подъезжают полицейские машины. Тайное становится явным, и к вечеру все узнают, что последней у Норы и Уолтера была именно Пег.
Горожане обсуждают мотивы самоубийства (убийство большинство считает фактически невозможным и лишенным смысла), склоняясь к версии о неизлечимой болезни, постигшей обоих супругов. Никто открыто не обвиняет в преступлении Пег, не подозревают ее и в даче ложных показаний полиции или подтасовке деталей. Однако недоверие к героине — скорее бессознательное, чем логически доказуемое — мало-помалу нарастает у окружающих. Закрадывается оно и в душу Роберта, прежде пребывавшего в уверенности, что Пег нечего от него скрывать. Поздним морозным вечером он выходит прогуляться. Сойдя на узкую тропинку, он оказывается на опушке леса, где белеют какие-то странные холмы, подсвеченные гирляндой огоньков (догадаться, что перед ним кладбище автомобилей, и впрямь затруднительно). Иррациональность этого зрелища сопрягается в сознании Роберта с иррациональностью гибели соседей, но еще сильнее — с непостижимой сдержанностью Пег. В конце концов ему удается убедить себя, что ему нет дела до темных и запутанных обстоятельств гибели малознакомой пожилой четы. Нет дела и до роли в них собственной жены: в конце концов, любой взрослый человек отвечает за себя сам. На обратном пути, встретившись с констеблем, Роберт узнает, что установленные полицией подробности происшествия не совпадают с показаниями Пег. Кто же она? Расчетливая, хладнокровная преступница или, что более вероятно,— перепуганная, впавшая в шоковое состояние случайная свидетельница? Терзающий персонажа вопрос остается без ответа. При нарочитой сбивчивости, фрагментарности повествования рассказ «Потрясение» любопытен как попытка писательницы освоить морально чуждую «территорию», постичь изнутри непривычный для ее прозы «закрытый» женский тип.
Длинную новеллу — или, точнее, повесть — «Причудливый проблеск» можно считать продолжением начатой в предыдущем сборнике семейной саги о Чэддли-Флемингах. С такими примечательными рассказами, как «Связь» и «Камень в поле», новую новеллу роднят достоверность бытового фона, живой интерес к родовым преданиям, не исключающий суровой критики патриархального ханжества (разве не подводные рифы пуританских традиций изуродовали здесь все существование героини Вайолет Томе?) или насмешки над зашоренностью и узостью представлений провинциального «среднего класса». Вайолет Томе «путь любви» уводит вспять — в отдаляющееся с каждым уходящим годом прошлое. Похоже, однако, что и Элис Манро легче даются дороги, проторенные «назад» — в подретушированные памятью 40-50-е годы. По маршрутам современной жизни она движется куда медленнее и осторожнее, порой теряя уверенность и, что, увы, существеннее, ощущение художнической власти над материалом, компенсируя сомнения следованием жесткой схеме: мужчины рано или поздно собьются с пути и отстанут, тогда как женщины будут идти до конца и победят. Схема, однако, раньше или позже подводит: трасса резко обрывается, героини вынуждены демонстрировать нравственное превосходство на бездорожье одиночества, а рассказы не так уж редко утрачивают жизненную убедительность.
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – Москва, 1990. – Вып. 2. – С. 44-46.
Произведения
Критика