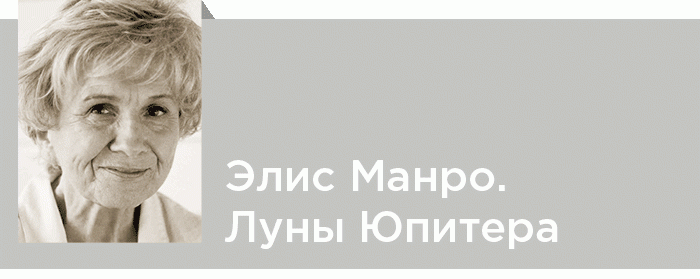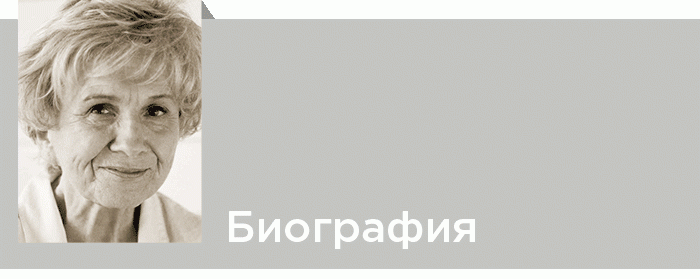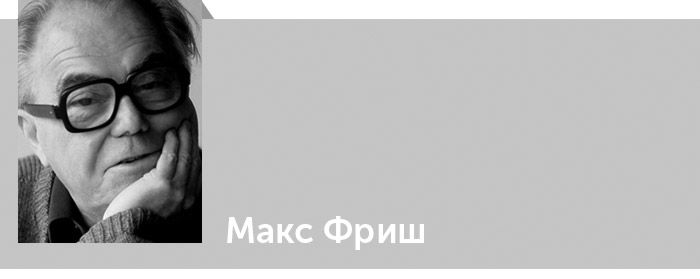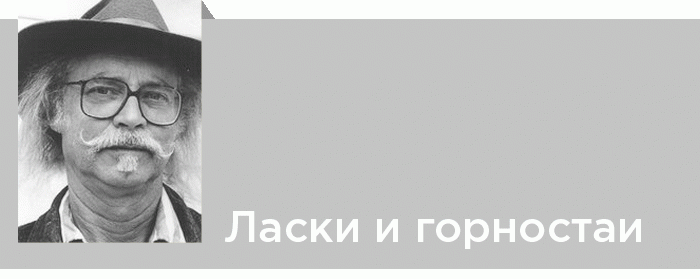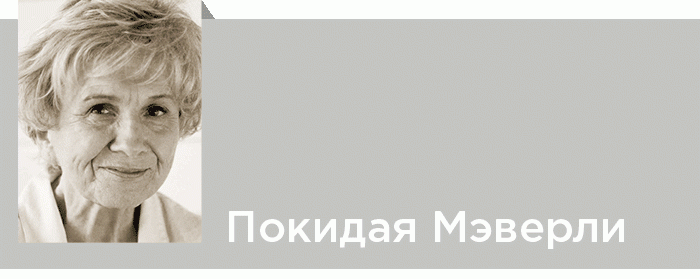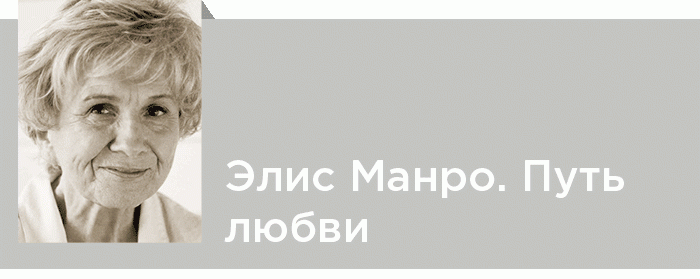Элис Манро. Достичь Японии
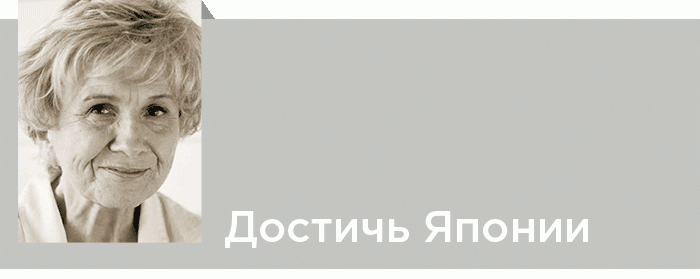
Питер принес ее чемодан в купе и как-то засуетился. Впрочем, он тут же объяснил, что вовсе не торопится от нее убежать — просто боится, как бы поезд не тронулся. Он вышел на перрон, встал под окном купе и принялся махать рукой. Улыбаться и махать. Улыбка, предназначенная Кейти, была широкая, солнечная, без тени сомнения, будто он верил, что дочь всегда так и будет чудом для него, а он — для нее. На всю жизнь. Улыбка, предназначенная жене, была словно исполнена веры и надежды, с толикой решимости. Пожалуй, эту улыбку непросто было бы выразить словами. Может, и вовсе невозможно. Скажи Грета что-нибудь такое, он ответил бы: «Не придумывай». И она согласилась бы — решила бы, что для людей, живущих бок о бок день ото дня, всякие объяснения бессмысленны.
Когда Питер был еще ребенком, мать перетащила его через горы — Грета никак не могла запомнить их название. Мать Питера бежала из социалистической Чехословакии на Запад. Не одна, конечно. Отец Питера собирался идти с той же группой, но его отправили в лечебницу как раз накануне их тайного отбытия. Он должен был последовать за ними, когда получится, но вместо этого умер.
— Я читала про такое, — сказала Грета, когда Питер впервые поведал ей эту историю. И добавила, что в книгах ребенок обязательно начинал плакать и матери приходилось его задушить, чтобы он своим плачем не выдал всю группу.
Питер сказал, что никогда не слыхал подобного и не знает, что сделала бы его мать в такой ситуации.
На самом деле его мать сделала вот что: уехала в Британскую Колумбию, подучила английский и нашла работу преподавателя. Она преподавала в старших классах школы то, что тогда называлось «Нормами делового оборота». Она вырастила Питера одна и отправила в университет, и он стал инженером. Приходя в гости к Питеру и Грете — сперва в квартиру, потом в дом, — мать всегда сидела в гостиной и не заходила на кухню, пока Грета не приглашала ее туда зайти. Такой уж у матери был обычай. Она довела до крайности искусство не замечать. Не замечать, не вмешиваться, не намекать. Хотя в любой области домашнего хозяйства, домашнего искусства намного опережала невестку.
И еще она избавилась от квартиры, в которой Питер вырос, и переехала в другую, поменьше, где не было отдельной спальни — только место для раскладного дивана. «Значит, Питер теперь не сможет погостить дома у мамочки?» — поддразнивала ее Грета, но мать эти шутки явно ошарашивали. Даже причиняли ей боль. Может быть, все дело в языковом барьере. Но мать теперь все время говорила по-английски, а Питер так и вовсе никакого другого языка не знал. Он тоже изучал «Нормы делового оборота» — правда, не у матери, — пока Грета проходила «Потерянный рай». Она избегала всего полезного, как чумы. Он, кажется, поступал в точности наоборот.
Теперь их разделяло стекло, Кейти упорно продолжала махать, и они самозабвенно изображали на лицах комическую и даже отчасти безумную благожелательность. Грета подумала о том, какой он красивый и насколько сам об этом не подозревает. Он стригся под ежик, в духе времени, — собственно, для инженера и тому подобных профессий выбора и не было. У него была светлая кожа, и он никогда не краснел, в отличие от Греты, никогда не шел пятнами от солнца, а лишь покрывался ровным легким загаром независимо от времени года.
Его мнения были чем-то сродни его цвету лица. После похода в кино его никогда не тянуло обсуждать фильм. Он только говорил, что фильм отличный, или хороший, или ничего так. Просто не видел смысла углубляться в рассуждения. Он и телепередачи смотрел, и книги читал так же. Относился к авторам с пониманием. Они ведь сделали все, что могли, в пределах своих возможностей. Раньше Грета начинала с ним спорить и сердито спрашивала: вот если бы дело касалось моста, он бы то же самое сказал? Что люди сделали все, что могли, в пределах своих возможностей, но этого оказалось недостаточно, и мост рухнул.
Но он не спорил с ней, а только смеялся.
И говорил, что это совсем другое.
Другое?
Другое.
Грете следовало бы понять, что такой взгляд на жизнь — терпеливый, прощающий — большая удача для нее. Ведь она была поэтом, и в ее стихах попадались вещи отнюдь не бодрые, а также труднообъяснимые.
(Мать и коллеги Питера — кто знал — до сих пор говорили «поэтесса». Питера она отучила от этого слова. Больше никого учить не пришлось. Ни родственники, от которых Грета отделалась, ни люди, с которыми она общалась теперь в роли жены и матери, ничего не знали об этой ее небольшой странности.)
Потом, позже, ей трудно будет объяснять, что было принято в то время и что нет. Можно сказать, что да, феминизм был не принят. Но тут же пришлось бы объяснять, что тогда и слова-то такого не знали — «феминизм». А дальше увязнешь в подробностях: тогда любая серьезная мысль у женщины, не говоря уже о карьерных устремлениях или чтении настоящих книг, могла стать поводом для подозрений. Или причиной того, что когда-нибудь потом у твоего ребенка было воспаление легких. А твое замечание о политике на корпоративном вечере могло стоить твоему мужу продвижения по службе. Даже не важно, что́ именно ты сказала и про какую партию. Важен сам факт того, что у женщины с уст сорвались такие слова.
Когда она все это рассказывала, люди смеялись и говорили: «Вы шутите, конечно же». И она отвечала: «Да, но в этой шутке очень большая доля правды». И добавляла: «Одно, впрочем, могу сказать. Писать стихи женщине было чуть более простительно, чем мужчине». Вот тут слово «поэтесса» приходилось очень кстати. Оно было как паутина из нитей сахарной ваты. Питер придерживался других воззрений, но не забывайте, что он родился в Европе. Впрочем, он бы понял, как его коллегам, мужчинам, полагалось относиться к таким вещам.
В то лето Питеру предстояло месяц или даже больше руководить проведением работ в Ланде. Далеко вверх по карте, вверх до упора на север, до края материка. Для Кейти и Греты там места не было.
Но у Греты была знакомая, с которой она когда-то вместе работала в ванкуверской библиотеке. Знакомая вышла замуж и теперь жила в Торонто, но Грета поддерживала с ней связь. Она и ее муж собирались летом уехать на месяц в Европу — муж был преподавателем. И знакомая написала Грете с вопросом (очень вежливо сформулированным), не хочет ли Грета вместе с семьей оказать им услугу и часть этого времени последить за домом в Торонто, чтобы он не пустовал. Грета написала в ответ, что Питер уедет по работе, но сама она вместе с Кейти с удовольствием принимает предложение.
Вот поэтому они сейчас и махали друг другу — он с перрона, они из поезда.
Тогда был такой журнал, «И ответило эхо». Выходил он в Торонто, нерегулярно. Грета наткнулась на него в библиотеке и послала в журнал свои стихи. Два стихотворения в самом деле опубликовали, и поэтому, когда главный редактор журнала прошлой осенью приезжал в Ванкувер, Грету вместе с прочими литераторами пригласили на встречу. Встреча проходила в доме писателя, имя которого Грета, кажется, знала всю свою жизнь. Мероприятие начиналось ранним вечером, когда Питер еще был на работе, так что Грета наняла кого-то побыть с ребенком, а сама села на автобус и поехала по Северному Ванкуверу, через мост Львиных Ворот и через парк Стэнли. Потом долго ждала на остановке перед универмагом «Компании Гудзонова залива» и снова долго ехала — до самого кампуса университета, где и жил писатель. На последнем повороте перед конечной Грета вылезла, нашла нужную улицу и пошла по ней, вглядываясь в номера домов. Грета была на высоких каблуках и потому шла очень медленно. Еще на ней было ее самое шикарное черное платье, с молнией на спине, — оно утягивало талию и с самого начала было тесновато в бедрах. Ковыляя по извилистым улочкам без тротуаров, Грета думала, что выглядит по-дурацки — одинокий пешеход в свете увядающего дня. Современные дома, панорамные окна — словно в районе новых застроек; Грета совсем не такое ожидала увидеть. Она уже начала подумывать, что ошиблась улицей, и не сказать чтобы это ее огорчило. Можно вернуться на остановку, там скамейка. Украдкой снять туфли и устроиться поудобнее на всю долгую дорогу домой.
Но когда она увидела нужный номер дома и стоящие рядом машины, было уже поздно возвращаться. Из-под закрытой двери просачивался шум, и Грете пришлось нажать кнопку звонка дважды.
Ее впустила женщина, которая, похоже, ждала кого-то другого. «Впустила», впрочем, не совсем точное слово — женщина открыла дверь, и Грета сказала, что, кажется, это здесь сегодня сборище.
— А вы сами не видите? — сказала женщина и встала в двери, прислонясь к косяку.
Так она и стояла, загораживая дверь, пока Грета не спросила:
— Можно я войду?
Женщина двинулась вглубь дома, — казалось, это движение причиняло ей сильнейшую боль. Она не пригласила Грету пройти, но Грета все равно пошла за ней вглубь дома.
Никто не заговорил с Гретой, никто ее даже не заметил, но скоро к ней подошла девочка-подросток и пихнула в ее сторону поднос, на котором стояли бокалы с чем-то вроде розового лимонада. Грета взяла один бокал и выпила залпом — ей хотелось пить, — потом взяла второй. Она поблагодарила девушку и попыталась завязать разговор, но та не заинтересовалась и пошла дальше делать свою работу.
Грета продолжала двигаться. И улыбаться. Никто не смотрел на нее с радостью, никто даже не узнавал, да и с какой стати? Люди скользили по ней взглядами и продолжали разговоры между собой. У всех присутствующих, кроме Греты, было вдоволь друзей, шуток, полутайн. Каждого кто-нибудь да приветствовал. Кроме подростков, которые продолжали мрачно и упорно разносить розовые напитки.
Впрочем, она не сдавалась. Розовый напиток ее подбодрил, и она решила взять еще один, как только поднос окажется в досягаемости. Она высматривала в беседующих группах брешь, в которую могла бы втереться. И кажется, нашла — до нее донеслись названия фильмов. Европейских, которые как раз в то время начали показывать в Ванкувере. Она услышала название фильма, который они с Питером ходили смотреть, — «Четыреста ударов».
— О, я его видела! — воскликнула она громко, с жаром, и все посмотрели на нее, и один — видимо, главный в группе — отозвался:
— Да неужели?
Конечно, Грета была пьяна. После выпитой залпом смеси ликера «Пиммс № 1» с соком розового грейпфрута. Поэтому она не расстроилась от чужого высокомерия, как расстроилась бы трезвая. И поплыла дальше по течению, зная, что отчасти не владеет собой, но чувствуя, что комнату заполняет головокружительная атмосфера вседозволенности. Пускай Грета ни с кем не подружилась — зато она вольна бродить где хочет и выносить собственные суждения.
В арке дверного проема стояли кучкой важные люди. Грета увидела среди них хозяина дома — того самого писателя, чье имя и лицо она знала всю жизнь. Речи писателя были громки и несвязны; казалось, он окутан облаком опасности, а его собеседники готовы в любой момент разразиться оскорблениями. Грета пришла к выводу, что жены этих людей составляли другой кружок, тот самый, куда она только что пыталась втереться.
Женщина, что открыла ей дверь, не принадлежала ни к одному из этих кружков — она сама была писательницей. Она обернулась, когда ее окликнули. Прозвучавшее имя значилось в списке авторов в журнале, где напечатали стихи Греты. Может, этого хватит, чтобы подойти и представиться? Как равная — равной, несмотря на холодный прием у дверей?
Но женщина уже склонила голову на плечо мужчине, который ее окликнул, и мешать им не стоило.
От этих размышлений Грета решила сесть, а так как стульев в комнате не было, она села на пол. Ее посетила мысль. Мысль заключалась в том, что, когда сама Грета ходила с Питером на вечеринку инженеров, атмосфера там была дружелюбной, хотя разговор наводил скуку. Это потому, что степень значительности каждого инженера была уже выяснена и — во всяком случае, на данный момент — оставалась неизменной. Здесь же не было никаких гарантий: в любую секунду кто-нибудь за глаза мог вынести приговор даже мэтру с кучей публикаций. И кто угодно мог напустить на себя умный вид. Или страдающий вид.
А Грета жаждала, чтобы ей кинули хоть реплику из разговора, как кость собаке.
Сформулировав про себя эту теорию неприятного общения, Грета успокоилась и решила, что ей плевать, хотят с ней разговаривать или нет. Она сняла туфли и испытала ни с чем не сравнимое облегчение. Привалилась спиной к стене и вытянула ноги в проход, один из тех, по которому ходили туда-сюда гости, но не самый оживленный. Она боялась, что стакан с напитком опрокинется на ковре, и потому осушила его залпом.
Вдруг она заметила, что над ней стоит какой-то мужчина.
— Как вы сюда попали? — спросил он.
Ей стало жалко его тупо топочущие ноги. Ей было жалко всех, кому приходится стоять.
Она сказала, что ее пригласили.
— Понятно. Я спрашиваю, вы на машине приехали?
— Я пришла.
Подумав, она решила дать более развернутый ответ:
— Я сначала приехала на автобусе, а потом пришла пешком.
Тут за спиной у мужчины в туфлях возник другой, из кружка избранных.
— Превосходная идея! — сказал он. Он как будто был на самом деле не прочь с ней поговорить.
Но первому это почему-то не понравилось. Он подобрал туфли Греты, но она отказалась их надевать, объяснив, что у нее ужасно болят ноги.
— Тогда несите их. Или я понесу. Встать можете?
Она оглянулась в поисках важного человека, но тот куда-то делся. Теперь она вспомнила, что он написал. Пьесу про духоборов, которая наделала шуму, потому что духоборы должны были выступать голыми. Не настоящие духоборы, конечно. Актеры. И все равно им в конце концов не разрешили играть голыми.
Она попыталась объяснить это мужчине, который помог ей встать, но он явно не заинтересовался. Она спросила, что пишет он. Он сказал, что писатель, но не в том смысле — он журналист. Гостит в этом доме со своими детьми, которые приходятся внуками хозяевам дома. Это они — его дети — разносили напитки.
— Смертельное пойло, — сказал он, имея в виду напитки. — Чистое убийство.
Они уже были вне дома. Грета шла по газону в одних чулках и едва не наступила в лужу.
— Кто-то сблевал, — сообщила она своему спутнику.
— И верно, — сказал тот и запихал ее в машину.
От свежего воздуха настроение у Греты поменялось — беспокойный подъем сменился замешательством и даже стыдом.
— Северный Ванкувер, — сказал он. Должно быть, она успела назвать свой адрес. — О’кей? Поехали. Следующий пункт — мост Львиных Ворот.
Грета надеялась, что он не спросит, почему ее пригласили на вечеринку. Тогда ей придется сказать, что она поэт, и ее теперешний вид, ее подпитие выйдет отвратительно шаблонным. На улице было светло, но уже наступал вечер. Кажется, они ехали в нужную сторону: сначала вдоль какой-то воды, потом по мосту. Мост Бэррард-стрит. Снова поток машин. Грета все время открывала глаза и видела пролетающие мимо деревья, а потом глаза как-то сами снова закрывались. Когда машина остановилась, Грета знала, что это не дом, до него гораздо дальше. До ее дома то есть.
Над ними смыкались огромные кроны деревьев. Звезд не было видно совсем. Но виднелся отблеск на воде — между тем местом, где они были сейчас, и городскими огнями.
— Посидите, обдумайте, — сказал он.
Это слово заворожило ее.
— Обдумать?
— Как вы войдете в дом, например. С достоинством — получится у вас? Не перестарайтесь. Небрежно? Я полагаю, у вас есть муж.
— Я должна сначала поблагодарить вас за то, что отвезли меня домой, — сказала она. — Значит, вы должны сказать, как вас зовут.
Он сказал, что уже представлялся ей. Возможно, даже дважды. Ну хорошо, еще раз. Гаррис Беннет. Бен-нет. Он зять тех людей, которые устраивали у себя вечеринку. Это его дети разносили напитки. Он вместе с ними приехал в гости из Торонто. Теперь она довольна?
— А мать у ваших детей есть?
— О да. Но она в больнице.
— Мои соболезнования.
— Не нужно. Это очень хорошая больница. Для душевнобольных. Точнее, для людей с эмоциональными проблемами.
Грета тут же сообщила ему, что у нее есть муж по имени Питер и у них есть дочь по имени Кейти.
— Очень мило, — ответил он и принялся сдавать машину задним ходом.
На мосту Львиных Ворот он сказал:
— Простите, что я с вами разговаривал таким тоном. Я думал о том, поцеловать вас или нет, и решил, что нет.
Она поняла его в том смысле, что в ней есть какой-то изъян и она недостойна поцелуя. От стыда, как от пощечины, она сразу и начисто протрезвела.
— А теперь, когда мы переедем мост, нам надо повернуть направо, на Марин-драйв? — продолжал он. — Я полагаюсь на вас. Скажите мне.
Пришла осень, потом зима, потом весна, и она вспоминала о нем, наверно, каждый день. Словно каждый раз, когда засыпаешь, тебе сразу начинает сниться один и тот же сон. Она откидывалась на спинку софы и представляла, что лежит в его объятьях. Казалось бы, она не должна была запомнить его лица, но оно виделось ей во всех подробностях: с морщинками, усталое от жизни, ироничное лицо кабинетного жителя. Его тело ее тоже вполне устраивало: изношенное в разумных пределах, но еще в рабочем состоянии; неповторимо желанное.
Она чуть не рыдала от тоски по нему. Но все эти фантазии развеивались или впадали в спячку при возвращении Питера с работы. Их место заступали рутинные, неизменно надежные знаки супружеской привязанности.
Эта греза была, по правде сказать, очень похожа на ванкуверскую погоду — тоска по несбыточному с примесью уныния, дождливая мечтательная грусть, тяжесть, обвивающая сердце.
А что же отказ в поцелуе, такой неделикатный удар?
Она вычеркнула его из памяти. Забыла напрочь.
А что же ее стихи? Ни слова, ни строчки. Ни намека, что она когда-то творила.
Конечно, она отдавалась этим грезам, только когда Кейти спала. Иногда она произносила его имя вслух, впадая в полный идиотизм. Вслед за этим ее охватывали жгучий стыд и презрение к себе. Настоящий идиотизм. Идиотка.
И вдруг как разряд молнии — сперва вероятный, потом решенный отъезд Питера в Ланд. Возможность пожить в Торонто. Кусок чистого неба меж тучами, порыв ясности.
Она поймала себя на том, что пишет письмо. Оно начиналось не так, как положено письмам. Никаких «Дорогой Гаррис». Никаких «Помните меня?».
Пишу, как бросают
Записку в бутылке, надеясь
Достичь Японии.
Подобие стихов — впервые за долгое время.
Адреса Грета не знала вообще. Ей хватило нахальства и глупости позвонить людям, которые тогда устраивали у себя вечеринку. Но когда ответила женщина, у Греты пересохло во рту, и он показался ей бескрайним и сухим, как тундра, и пришлось повесить трубку. Она дотащила Кейти до библиотеки и нашла телефонную книгу Торонто. Там была куча Беннетов, но ни одного Гарриса или Г. Беннета.
Тут ее посетила ужасная мысль: нужно просмотреть некрологи. Она ничего не могла с собой поделать. Пришлось ждать, пока человек, читающий подшивку газет, не закончит. Грете обычно не попадались на глаза торонтовские газеты, потому что за ними нужно было ехать через мост, а Питер приносил домой исключительно «Ванкувер сан». Листая страницы, Грета увидела фамилию «Беннет» над статьей. Значит, он не умер. Газетный колумнист. Конечно, ему ни к чему, чтобы кто попало звонил ему домой, найдя телефон в справочнике.
Он писал о политике. Кажется, умные вещи, но Грета не заинтересовалась.
Она послала ему письмо прямо туда, в редакцию газеты. Она не могла быть уверена, что он сам вскрывает свои письма, а написать на конверте «Личное» означало напрашиваться на неприятности, так что она только дописала дату и время прибытия поезда после строчек про бутылку. И не подписалась. Пусть тот, кто откроет конверт, подумает, что это пишет какая-то престарелая родственница с оригинальной манерой выражаться. Ничего такого, что могло бы его скомпрометировать, даже если странное письмо перешлют ему домой и конверт откроет жена, вышедшая из больницы.
Кейти явно до сих пор не поняла, что папа, стоящий на платформе, не едет вместе с ними. Когда поезд поехал, а папа — нет, а потом поезд набрал скорость и папа окончательно остался позади, Кейти очень тяжело восприняла такое дезертирство. Но скоро успокоилась, сообщив Грете, что папа придет утром.
Утром Грета боялась скандала, но Кейти вообще ничего не сказала про папино отсутствие. Грета спросила дочь, хочет ли та завтракать, и Кейти сказала, что да, а потом объяснила матери — как Грета объяснила ей самой еще до того, как они сели в поезд, — что теперь им нужно снять пижамы и пойти искать другую комнату, где им дадут завтрак.
— А что ты хочешь на завтрак?
— Крис-пис.
Так Кейти называла сухой завтрак «Криспис».
— Мы спросим, есть ли у них «Криспис».
«Криспис» в вагоне-ресторане был.
— А теперь мы пойдем искать папу?
В поезде был игровой зал для детей, но совсем небольшой. Его полностью заняли мальчик и девочка — судя по одинаковым костюмчикам с кроличьими ушами, брат и сестра. Их игра состояла в том, чтобы наезжать друг на друга игрушечными машинками, в последний момент сворачивая в сторону. ТРАХ! БАХ! ВЖЖЖ!
— Это Кейти, — сказала Грета. — А я ее мама. А вас как зовут?
Грохот стал еще яростнее, но дети не подняли головы.
— Папы тут нет, — сказала Кейти.
Грета решила, что надо вернуться в купе, взять книжку про Кристофера Робина, пойти в вагон обозрения с прозрачным куполом и там читать. Там они точно никому не помешают, потому что завтрак еще не кончился, а самые главные горные пейзажи еще не начались.
Беда была в том, что, как только Грета дочитала книжку про Кристофера Робина, Кейти потребовала начать снова с самого начала. Когда Грета читала в первый раз, Кейти слушала молча, а теперь начала подхватывать концы строчек. В следующий раз она вторила матери, читая стихи полностью, но еще не была готова сама повторить все стихотворение целиком. Грета была уверена, что, когда вагон обозрения заполнится, эта декламация будет действовать на нервы окружающим. Дети в возрасте Кейти ничего не имеют против повторения, монотонности. Они даже рады ей — ныряют в нее, оборачивая знакомые слова вокруг языка, словно конфету, которая никогда не растает.
По лестнице поднялись юноша с девушкой и сели через проход от Греты и Кейти. Они бодро поздоровались, и Грета им ответила. Кейти рассердилась, что мать признала существование каких-то незнакомцев, и продолжала тихо повторять стихи, не отводя глаз от книги.
С той стороны прохода послышался голос юноши — почти такой же тихий, как у Кейти:
Смена караула у дворца! Загляделись
Кристофер Робин с нянею Элис.
Закончив это стихотворение, он принялся за другое:
Это что за ветчина?
Мне не нравится она!
Грета засмеялась, а Кейти — нет. Она была заметно возмущена. В ее системе мира глупые слова должны были исходить из книжки, а не так — без всякой книжки, изо рта.
— Извините, — сказал юноша Грете. — Мы дошкольники. Это наша рабочая литература.
Он перегнулся через проход и тихо и серьезно обратился к Кейти:
— Хорошая книжка, правда?
— Он хочет сказать, что мы работаем с дошкольниками, — объяснила девушка Грете. — Правда, иногда мы сами путаемся.
Юноша продолжал беседовать с Кейти:
— А теперь я попробую угадать, как тебя зовут. Шустрик? Черныш?
Кейти кусала губу, но не смогла удержаться и дала ему суровую отповедь:
— Я не собака!
— Конечно нет. Это я сглупил. Я мальчик, меня зовут Грег. А эту девочку зовут Лори.
— Он тебя дразнит, — сказала Лори. — Хочешь, я его шлепну?
— Нет, — ответила, подумав, Кейти.
— «Элис просватана за рядового», — продолжил декламацию Грег. — «„Служба солдатская страх как сурова“, — молвила Элис».
На второй «Элис» Кейти едва слышно подхватила.
Лори сказала Грете, что они путешествуют и дают концерты в детских садах. Это называется «деятельность по подготовке к чтению». На самом деле они актеры. Лори сойдет с поезда в Джаспере, где ей дали работу на лето — официанткой плюс элементы комических номеров. Уже не для детей, конечно. Скорее, развлечения для взрослых.
— Господи боже мой, — засмеялась она. — Приходится брать что дают.
Грег был свободен как птица и собирался сойти с поезда в Саскатуне. У него там родня.
Грета подумала, что оба они очень красивы. Высокие, гибкие, почти ненатурально стройные, он — с черными курчавыми волосами, она — с черными гладкими, как у Мадонны. Чуть позже она сказала об их похожести, и они ответили, что иногда пользовались этим, снимая жилье. Это очень упрощало жизнь, только надо было обязательно просить две кровати и ночью смять обе.
А теперь, сказали они, можно уже не беспокоиться. Ничего скандального между ними не происходит. Они расстаются после трех лет, проведенных вместе. Они уже много месяцев хранят целомудрие (во всяком случае, друг с другом).
— Все, хватит про дворец, — сказал Грег, обращаясь к Кейти. — Мне нужно делать упражнения.
Грета решила, что он хочет спуститься или по крайней мере выйти в проход вагона и заняться гимнастикой, но вместо этого оба откинули голову назад, напрягая шею, и разразились странными трелями и клекотом. Кейти была в восторге — она решила, что это представление и что ее хотят позабавить. Она и вела себя, как полагается зрителю, — сидела абсолютно тихо, а когда все кончилось, расхохоталась.
Какие-то люди, желающие подняться в купол для обозрения пейзажей, остановились у подножия лестницы — представление не захватило их, и они не понимали, что происходит.
— Извините, — сказал Грег, ничего не объясняя, но очень дружелюбно. Он протянул руку Кейти. — Пойдем посмотрим, есть ли тут игровая комната.
Лори и Грета последовали за ними. Грета надеялась, что Грег не из тех взрослых, что заводят дружбу с детьми, чтобы лишний раз убедиться в собственной неотразимости, и тут же начинают скучать и одергивать ребенка, устав от его неотвязного интереса.
К обеду — или даже чуть раньше — она поняла, что может не беспокоиться. Общение с Кейти вовсе не утомило Грега. К ним присоединились другие дети, и по Грегу было совершенно непохоже, что он от них устает.
Начались соревнования, которые Грег вроде бы не организовывал. Он как-то повернул направленное на него внимание детей сначала друг на друга, а потом — на игры, очень живые и даже буйные, но без злости. Никто не впадал в истерику. Никто не дулся. На это просто не было времени — столько всего интересного творилось. Казалось чудом, что такой объем свободы и даже исступления вмещался в такое тесное пространство. А потраченная детьми энергия сулила, что после обеда они будут спать.
— Он совершенно удивительный, — сказала Грета.
— Он просто полностью выкладывается, — объяснила Лори. — Он себя не экономит. Вы понимаете? Многие себя экономят. Особенно актеры. Вне сцены они просто покойники.
«И я тоже, — подумала Грета. — Я тоже себя экономлю, почти все время. Я сдержанна с Кейти, сдержанна с Питером».
В десятилетии, которое уже началось (но о котором сама Грета пока что не задумывалась), подобным вещам будет уделяться большое внимание. Слова «полностью выкладываться» стали означать что-то такое, чего они не значили раньше. Плыть в общей волне. Дарить себя. Некоторые люди щедро дарили себя, другие не очень. Барьерам, разделяющим внутреннее и наружное, предстояло пасть под ногами толпы. Этого требовала «подлинность». Вещи вроде Гретиных стихов, которые не плыли в общем потоке, вызывали подозрение и даже навлекали на себя критику. Грета, конечно, продолжала гнуть свою линию — она раскапывала, зондировала и втайне придерживалась невысокого мнения о контркультуре. Но сейчас, вручив свое дитя Грегу и его фокусам, она была всецело благодарна.
После обеда, как Грета и предвидела, дети легли спать. Некоторые матери — тоже. Другие сели играть в карты. Лори сошла в Джаспере, и Грег с Гретой помахали ей на прощание. Лори послала им воздушный поцелуй с перрона. Появился мужчина постарше, нежно поцеловал ее, забрал ее чемодан, посмотрел в сторону поезда и махнул Грегу. Грег махнул в ответ.
— Ее нынешний хахаль, — сказал он.
Они еще помахали из окна, поезд тронулся, и Грег с Гретой увели Кейти обратно в купе, где она уснула между ними — практически на лету, в прыжке. Они открыли занавеску на окне, чтобы впустить побольше воздуха, пока нет опасности, что ребенок вывалится.
— Как это круто, когда у тебя есть ребенок, — сказал Грег.
Еще одно модное новое словечко — во всяком случае, новое для Греты.
— Со многими случается, — ответила она.
— Вы такая спокойная. Дальше вы скажете: «Такова жизнь».
— Не скажу, — ответила Грета, уставилась ему в глаза, словно играя в гляделки, и он отвел взгляд, тряхнул головой и расхохотался.
Он рассказал ей, что стал актером из-за своей религии. Его семья принадлежала к какой-то христианской секте, о которой Грета никогда не слышала. Секта была немногочисленна, но очень богата (во всяком случае, некоторые люди из секты были богаты). Они построили в маленьком городке в прерии церковь и при ней театр. Там Грег и начал играть на сцене — ему еще и десяти лет не было. Они инсценировали библейские притчи, а также ставили пьесы из современной жизни — про людей, не принадлежащих к секте, и ужасные вещи, которые с ними из-за этого случались. Семья Грега очень гордилась им, и, конечно, он сам тоже гордился собой. Конечно, он не мог даже заикнуться своим родным о том, что происходило, когда приезжали новообращенные богачи, чтобы возобновить свои обеты и получить новый заряд святости. В любом случае Грегу нравилось всеобщее одобрение, и играть на сцене тоже нравилось.
Но в один прекрасный день он сообразил, что может просто играть на сцене без всей этой церковной лабуды. Он вежливо объяснил, чего хочет, но ему сказали, что это в него вселился дьявол. Он сказал: «Ха-ха, я знаю, кто в меня вселился».
И до свидания.
— Вы не думайте, что там было только плохое. Я до сих пор верю, что человек должен молиться и все прочее. Но я никогда не смогу объяснить своим родным, что там творилось на самом деле. Даже намек на правду их просто убьет. Вы ведь, наверно, знаете таких людей?
Грета рассказала ему, как они с Питером только что переехали в Ванкувер, и ее бабушка в Онтарио списалась со священником из Ванкувера, и он пришел их навестить, и Грета была с ним ужасно заносчива. Он обещал за нее молиться, а она едва ли не открытым текстом заявила, что не стоит. Бабушка тогда уже умирала. Каждый раз, когда Грета вспоминала об этом, ей становилось стыдно, а потом она дико злилась на себя за этот стыд.
Питер вообще не понимал таких вещей. Его мать никогда не посещала церковь, хотя одной из заявленных причин их перехода через горы было то, что они хотели свободно исповедовать католичество. Питер говорил, что католикам, наверно, хорошо — у них есть запасная страховка на случай смерти.
Это воспоминание о Питере было первым за долгое время.
Правду сказать, во все время трудного, но в чем-то утешительного разговора Грета и Грег пили. Он откуда-то достал бутылку узо. Грета пила очень осторожно — она вообще была осторожна со спиртным после той писательской вечеринки, — но все же отчасти опьянела. Достаточно, чтобы они с Грегом начали гладить друг другу руки, а потом целоваться и ласкать друг друга. Все это, конечно, происходило рядом со спящей Кейти.
— Давай-ка перестанем, — сказала Грета. — Иначе потом будем жалеть.
— Это не мы, — ответил Грег. — Это какие-то совсем другие люди.
— Ну так скажи им, чтобы перестали. Ты знаешь, как их зовут?
— Погоди-ка… Рег. Рег и Дороти.
— Ну так прекрати, Рег. В присутствии моего невинного ребенка.
— Можно пойти ко мне. Здесь недалеко.
— У меня нету…
— У меня есть.
— Неужели прямо при себе?
— Нет, конечно. За кого ты меня принимаешь?
И они поправили пришедшую в беспорядок одежду, старательно застегнули все до единой пуговицы полога на койке, где спала Кейти, выскользнули из купе и, напустив на себя чрезвычайно невинный вид, перебрались в вагон Грега. Но можно было не стараться — они никого не встретили. Пассажиры сидели в вагоне обозрения, фотографируя вечные горы, либо оттягивались в вагоне-баре, либо прилегли отдохнуть.
В отсеке Грега, где царил хаос, они начали с того же, на чем только что прервались. Койка была узкая, и места обоим не хватало, но они как-то пристроились друг на друге. Сначала их разбирал сдавленный смех, потом сотрясали спазмы наслаждения — смотреть было некуда, кроме как в широко распахнутые глаза другого. Они впивались друг в друга зубами, чтобы сдержать рвущийся наружу пронзительный крик.
— Мило, — сказал Грег. — Неплохо.
— Мне надо идти обратно.
— Так скоро?
— Кейти проснется, а меня нет.
— Ладно. Ладно. Мне все равно надо собираться, Саскатун уже скоро. Представляешь, что будет, если поезд подъедет, когда мы в самом разгаре. «Привет, папа. Привет, мама. Подождите минуточку, пока я тут… А-а-а-аах!»
Она привела себя в порядок и ушла. На самом деле ей было все равно, кто ее увидит. Она была слаба, потрясена, но ее несло на волне радости, словно гладиатора, — она полностью сформулировала эту мысль про себя и улыбнулась ей, — словно гладиатора, который вышел на арену и победил.
Но она никого не встретила.
Нижнее крепление полога было отстегнуто. Грета точно помнила, что застегивала его. Хотя даже при отстегнутом креплении Кейти вряд ли могла бы выбраться наружу — и, конечно, даже пробовать не стала бы. Один раз, когда Грете нужно было выйти в туалет, она подробно объяснила Кейти, что та не должна за ней ходить, и Кейти сказала: «Не буду» — таким тоном, словно допустить саму возможность подобного означало объявить ее неразумным младенцем.
Грета взялась за занавеску, чтобы открыть ее совсем, и, открыв, обнаружила, что Кейти нет.
Она лишилась рассудка. Она рывком сбросила подушку, как будто ребенок размеров Кейти мог под ней укрыться. Она стала тыкать кулаками в одеяло, словно Кейти могла прятаться под ним. Она взяла себя в руки и попыталась сообразить, останавливался ли поезд, пока она была с Грегом. На этой остановке, если остановка была, мог ли в поезд забраться похититель и каким-то образом украсть Кейти?
Грета стояла в проходе, пытаясь сообразить, что нужно сделать, чтобы остановить поезд.
Потом она подумала — заставила себя подумать, — что ничего подобного случиться не могло. Это смешно. Кейти просто проснулась, увидела, что матери нет, и пошла ее искать. Сама по себе.
Она где-то тут. Должна быть где-то тут. Торцевые двери вагона слишком тяжелые, Кейти не смогла бы их открыть.
Грета стояла как вкопанная. Все ее тело, ее мозг разом опустели. То, что случилось, не могло случиться. Надо вернуться назад во времени, в момент перед тем, как она ушла с Грегом. И там остановиться. Стоп.
Раскладная койка-кресло через проход пустовала. На ней лежали женский свитер и какой-то журнал, давая понять, что хозяйка вернется. Дальше была такая же койка, но разложенная и с опущенным пологом, как только что ее — или их с Кейти — койка. Грета рванула полог. Там спал какой-то старик — он во сне перевернулся на спину, но не проснулся. Разумеется, он у себя никого не прятал, там просто не было места.
Какой идиотизм.
Тут ее охватил новый страх. Что, если Кейти все же добралась до конца вагона и умудрилась открыть дверь? Или кто-то шел через эту дверь, а Кейти проскользнула за ним следом. Между вагонами был узкий отсек — там, где вагоны, собственно, сцеплялись друг с другом. Там движение поезда внезапно ощущалось по-новому и пугало сильнее. За спиной тяжелая дверь, впереди — другая, а по сторонам лязгают железные пластины. Они прикрывали ступеньки, которые опускались на перрон на станциях.
В этих переходах люди всегда торопятся, чтобы убежать от качки и грохота, напоминающих о подлинной конструкции вещей, которые на поверку оказываются не такими уж незыблемыми. Они будто сляпаны на скорую руку, раз так качаются и грохочут.
Дверь в торце вагона была тяжелой даже для Греты. А может, она просто ослабела от страха. Она изо всех сил налегла на дверь плечом.
И там, между вагонами, на беспрестанно лязгающей металлической плите, сидела Кейти. Глаза широко раскрыты, рот приоткрыт — удивленная, одна. Она вовсе не плакала, но расплакалась при виде матери.
Грета схватила ее, вскинула себе на бедро и вывалилась обратно в дверь, которую только что открыла.
У всех вагонов были названия — в честь известных битв, географических открытий или знаменитых канадцев. Их вагон назывался «Коннахт». Грета этого никогда не забудет.
Кейти была совершенно невредима. Она могла зацепиться одеждой об острые трущиеся края металлических пластин, но не зацепилась.
— Я пошла тебя искать, — сказала она.
Когда? Секунду назад — или сразу после того, как Грета ее оставила?
Конечно нет. Кто-нибудь наверняка заметил бы ее, взял на руки, поднял тревогу.
День выдался солнечный, но не теплый. Лицо и руки Кейти были заметно прохладными.
— Я думала, ты на ступеньках, — сказала Кейти.
Грета уложила ее на их общую койку и укрыла одеялом, и тут ее саму затрясло как в лихорадке. Ее замутило, в горле появился вкус рвоты.
— Не толкайся, — сказала Кейти и отодвинулась, извиваясь как червяк. — От тебя пахнет плохо.
Грета убрала руки от дочери и улеглась на спину.
Это было совершенно ужасно — все то, что она себе представляла, то, что могло случиться с ее дочерью. Кейти все еще лежала напряженная, застывшая в возмущении, отстраняясь от матери.
Конечно, Кейти кто-нибудь нашел бы. Хороший человек, а не плохой. Заметил бы и отнес в безопасное место. Грета услышала бы объявление по радио — в поезде найден потерявшийся ребенок. По словам девочки, ее зовут Кейти. Грета помчалась бы сразу, где бы ни была, на ходу застегиваясь и приводя себя в порядок, — помчалась бы забирать ребенка. Соврала бы, что она только на минуту вышла в туалет. Да, она испугалась бы, но, по крайней мере, у нее не было бы в голове этой картинки: Кейти, что беспомощно сидит в узком лязгающем пространстве между вагонами. Не плача, не жалуясь — словно ее приговорили сидеть там вечно без всяких объяснений и без надежды. Взгляд бессмысленный, челюсть отвисла — но тут она поняла, что пришло спасение, и тогда уже стало можно плакать. Лишь тогда она вернулась в свой мир и к ней вернулось право страдать и жаловаться.
Сейчас Кейти заявила, что спать ей не хочется, и попыталась встать. Она спросила, где Грег. Грета ответила, что он устал и лег спать.
Остаток дня они провели в вагоне обозрения. Кроме них, там почти никого не оказалось. Любители пейзажной фотографии, видимо, истратили всю энергию на Скалистые горы. А в прериях, как сострил Грег, не было ничего выдающегося.
Поезд ненадолго остановился в Саскатуне, и несколько человек сошли. Среди них Грег. Грета видела, что его встречают мужчина и женщина — должно быть, родители. Еще женщина в инвалидном кресле — должно быть, бабушка — и несколько молодых людей, которые стояли рядом, с лицами бодрыми и смущенными одновременно. Никто из них не был особо похож на сектантов или на тиранов, неспособных понять чужие страдания.
Но как это определишь по виду?
Грег отвернулся от встречающих и стал разглядывать окна поезда. Грета помахала ему из вагона обозрения, он заметил ее и помахал в ответ.
— Вон Грег, — сказала она, обращаясь к Кейти. — Видишь, вон там, внизу. Он нам машет. Помаши ему тоже.
Но Кейти не смогла найти Грега взглядом. А может, и пробовать не стала. Она отвернулась с чопорным и слегка оскорбленным видом, и Грег, последний раз фигурно взмахнув рукой, тоже отвернулся. Уж не наказывает ли Кейти его за то, что он ее бросил, подумала Грета. Она явно отказывается по нему скучать или даже признавать, что он существует на свете.
Ну и ладно — раз так, то пусть будет так, и дело с концом.
— Грег тебе помахал, — сказала Грета, когда поезд отходил от перрона.
— Я знаю.
Ночью, пока Кейти спала на койке, Грета сидела рядом и писала письмо Питеру. Длинное письмо — она описывала разные типы пассажиров, стараясь, чтобы выходило смешно. Она писала о том, как многие из них предпочитают смотреть на жизнь через видоискатель фотоаппарата, а не напрямую. О том, что Кейти ведет себя хорошо. Конечно, ни слова о потере и страхе. Она отправила письмо, когда прерии давно остались позади, мимо пошли бесконечные леса черных елей и поезд по неизвестной причине остановился в маленьком затерянном городке под названием Хорнпейн.
На протяжении всех этих сотен миль все ее часы бодрствования были посвящены Кейти. Грета знала, что никогда раньше не была так предана ребенку. Да, она заботилась о дочери, одевала ее, кормила, разговаривала с ней все время, пока они были вдвоем, а Питер — на работе. Но у Греты были еще и дела по дому, и она уделяла дочери внимание лишь отрывочно, а ее нежность была хорошо рассчитанной.
Причем дело было не только в работе по хозяйству. Другие мысли заслоняли ребенка в голове у Греты. Даже до того, как ею овладела бессмысленная, изнурительная, идиотская одержимость человеком из Торонто, у нее была еще и другая работа — работа поэта, которую она творила внутри себя едва ли не с рождения. Ее осенила внезапная мысль, что это — тоже предательство: по отношению к Кейти, к Питеру, к жизни. А теперь из-за этой картины у нее в голове — Кейти, сидящая в металлическом лязге между вагонами, — она, мать Кейти, была обязана принести еще одну жертву.
Грех. Она устремила свое внимание на что-то другое. Целенаправленное, жадно ищущее внимание — на что-то иное, нежели ее ребенок. Грех.
Они прибыли в Торонто незадолго до полудня. Небо было черное. Летняя гроза с молнией. Кейти, живя на западном побережье, никогда не видела такого, но Грета объяснила, что бояться тут нечего, и Кейти, кажется, не боялась. Она не испугалась и еще более непроглядной черноты, озаренной электрическими лампочками, в туннеле, где остановился поезд.
— Ночь, — сказала она.
— Нет-нет. — Грета объяснила, что надо выйти из поезда и пройти пешком до конца туннеля. Потом они поднимутся по ступенькам или поедут наверх на эскалаторе и окажутся в большом здании, а оттуда выйдут на улицу и возьмут такси. Такси — это просто машина, и на этой машине они поедут в свой дом. В новый дом, где они немножко поживут. Они там немножко поживут, а потом поедут обратно к папе.
Они поднялись вверх по пандусу, и там оказался эскалатор. Кейти притормозила, так что Грета тоже притормозила, но тут их начали обгонять другие люди. Так что Грета взяла Кейти на руки, пристроила ее у себя на бедре, наклонилась, ухитрилась подхватить другой рукой чемодан и грохнула его на движущиеся ступени. Наверху она спустила дочь на пол, и они смогли взяться за руки под ярко освещенными высокими сводами центрального вокзала.
Прибывшие пассажиры, идущие перед ними, отделялись от потока по одному — их разбирали встречающие, окликая по имени или просто подходя и подхватывая чемоданы.
Их чемодан тоже кто-то подхватил. Схватил его, схватил Грету и поцеловал ее впервые — решительно и торжественно.
Гаррис.
Грету сначала что-то ударило, а потом у нее внутри все перевернулось и с грохотом расставилось по местам.
Она пыталась цепляться за Кейти, но девочка именно в этот момент отстранилась и вырвала руку.
Она не делала попыток убежать. Просто стояла и ждала, что будет дальше.
Произведения
Критика