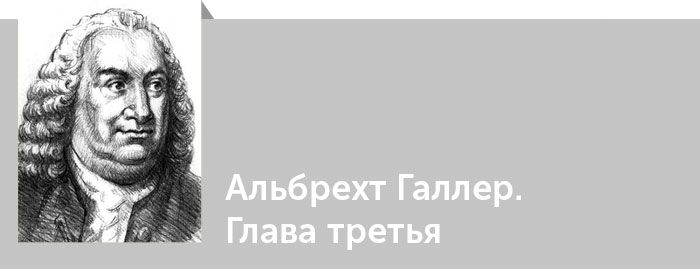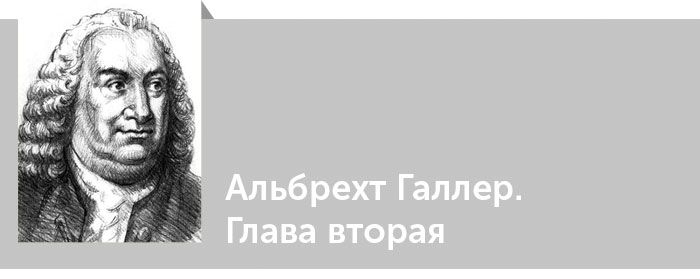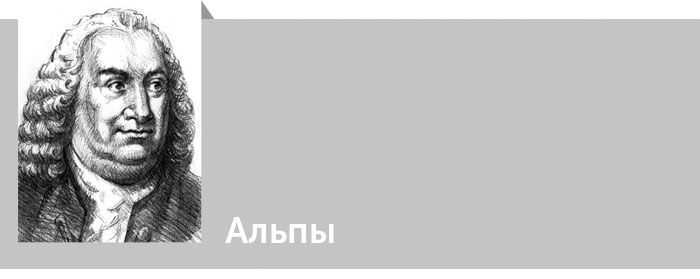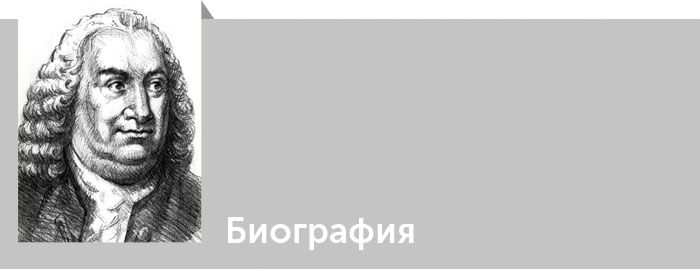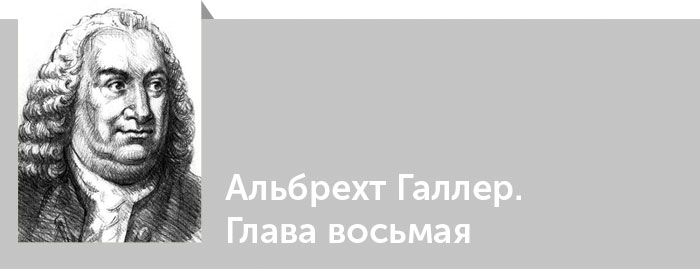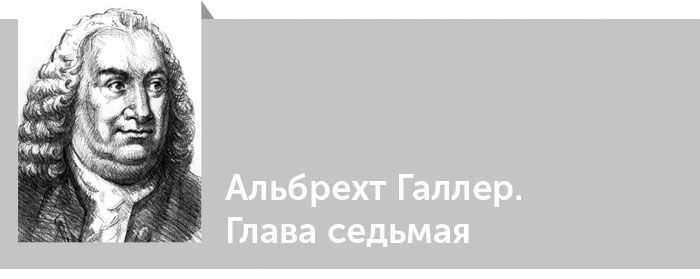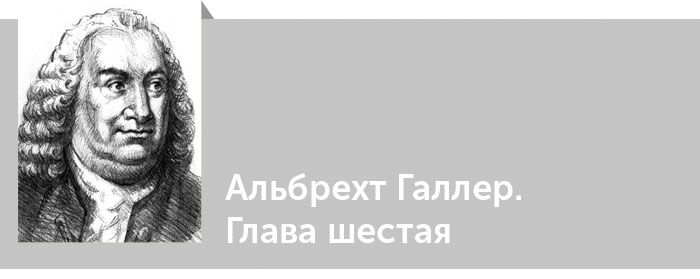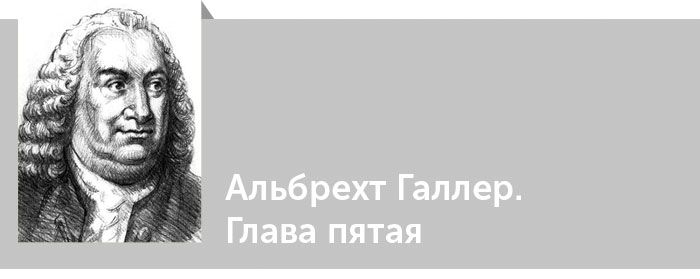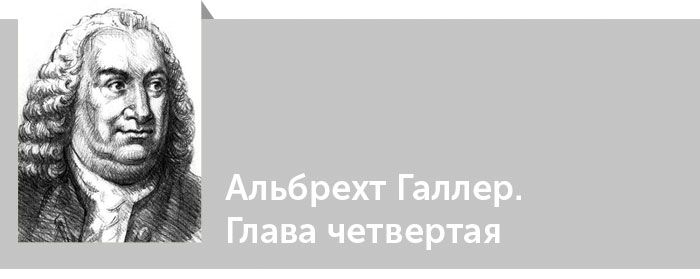История швейцарской литературы. Том 1. Глава 13. Альбрехт фон Галлер

Из больших поэтов Швейцарии в XVIII в. Альбрехт фон Галлер — единственный, чьей родиной был не Цюрих, а Берн, в то время столица очень большого по размерам швейцарского кантона. В
XVIII в. вся Швейцария, но только очень неравномерно, была захвачена активнейшими усилиями по реорганизации своей культурной жизни. Все эти усилия, так или иначе, подчинялись общим тенденциям времени, тенденциям просветительским, причем Цюрих успел первым аккумулировать огромные духовные и культурные силы, так что по числу учених на душу населення, вполне вероятно, стоял на первом месте в Европе. Цюрих действительно и играл ведущую посредническую роль в передаче новых культурних веяний, например, между Англией и всей Германией. Спустя века нам легко видеть такую роль в просветленных тонах и не замечать, что всегда и на каждом своем шагу она вызывала колоссальную напряженность между традиционным духом города, его издавна сложившейся атмосферой и любыми новими попытками духовной и умственной самодеятельности. И цвинглианский протестантизм Цюриха, и кальвинистский протестантизм Берна сохраняли в себе жестокие пуританско-аскетические черты Реформации XVI столетия со всей ее неуютностью, подозрительностью и беспощадностью; при этом бернский олигархический режим, впитавший в себя все эти укрепившиеся религиозные настроения, отличался, в сравнении с цюрихским, еще несравненно большей неподатливостью, косностью и неуступчивой твердостью в защите своих интересов. Традиционная культура, сложившаяся в зтих испытавших реформацию южнонемецких землях, воплощала в себе “дух протестантской этики” (Макс Вебер) последовательнее и прямолинейнее, чем где-либо, и здесь серьезнее и глубже, чем где-либо, било воспринято заповеданное Богом Адаму: “Проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей ... В поте лица твоего будешь есть хлеб ...” (Быт. 3,17; 19).
Обращаясь к творчеству Альбрехта фон Галлера (Albrecht von Haller, 1708-1777), можно только убедиться в том, какие противоречивые силы, причем в своей первозданной глобальности, без послаблений и каких-либо снисхождений к слабости человеческой природы, действовали в нем, предопределяя и течение его жизни, и творчество, и способы самоистолкования; как мощно обрушивались они на его личность и труды, словно он один-единственный должен был исполнять призвание целого поколения, нагружая себя непомерным и нечеловеческим бременем труда. Отсюда и величие достигнутого Галлером — величие вполне в тонах XVIII столетия, в иных случаях позволявшего своим деятелям, государственным и культурным, возвышаться — в степени почти непредставимой, — и полнейшая безрадостность его жизненного труда, что так резко расходится с оптимизмом, обычно свойственным раннепросветительским мыслителям. Однако какие же силы так действовали в Галлере как человеке, как личности, как ученом и поэте? Это и любовь или, скорее, привязанность к своей родной земле, за пределами которой Галлер никогда не чувствовал себя уютно, это и потребность в непрестанном труде, который есть призвание и вместе с тем тяжкий долг, блаженство и возлагаемый на себя крест.
По характеру же своей деятельности Галлер был — в век Просвещения — настоящим наследником барочного XVII в., т.е. наследником ученых, действительно охватывавших все то, что в их время считалось научным знанием. Как наследник таких ученых-энциклопедистов, Галлер обязан был вместе со своим веком и перестраивать такое знание, придавая его специальным областям характер внутренней органической взаимосвязи, и, конечно, отказываться от уже недостижимой буквальной его полноты, и, естественно, делать, в пределах “всего” знания, крен в какую-либо одну специальную сторону. В рамках известного, еще сохранявшегося универсализма знания Галлер был прежде всего естествоиспытателем, а как естествоиспытатель — прежде всего физиологом. Здесь, в этой области, ему принадлежали непереоценимые заслуги, которые в ходе дальнейшего развития естественной науки, быть может, и начали расцениваться несколько ниже, чем первоначально, но только потому, что специальная наука переросла свои фундаменты, столь основательно заложенные в эпоху Галлера. В дальнейшем нельзя будет не назвать хотя бы главные естественнонаучные труды Галлера1.
Само по себе напрашивается сравнение Галлера с нашим М. В. Ломоносовым, человеком одного с ним поколения. Сравнение тут же выявляет и существенное различие между ними. Так, Ломоносов куда более склонен работать с отдельными частями распавшегося здания прежней науки. Он проявляет себя почти в каждой из наук и, достигая в некоторых из них самых значительных результатов, все же не может отдаваться каждой с полнейшей сосредоточенностью и целенаправленностью. Внешне, но только внешне, наследие Ломоносова значительно менее цельно, хотя оно пронизано глубокими общими идеями и представлением о цельности знания. Ломоносов все время выступает и как поэт, что ученому полигистору только положено, однако и как поэт он — в ином положении, нежели Галлер, — его поэзия не отрывается от сферы его общенаучных интересов, вполне вписывается в круг захватывающих его общих, научных и государственных, идей, им подчинена, вся пропитана великими ожиданиями и сопутствующим им оптимизмом. Поэзия же Галлера создается как бы на отложившейся от науки теневой стороне, в лучшем случае дополняет и комментирует все научное, и комментирует нередко как бы со стороны, недоверчиво и скептически в отношении самой науки. Чисто количественно такой поэзии у Галлера несравненно меньше, чем у Ломоносова, потому что его поэзии не хватает общей с научным творчеством идеи, того энтузиастического начала, какое позволяло Ломоносову-поэту подниматься над собой в порыве неподдельного восторга от самих своих научных тем и забот, воспарявших до уровня общегосударственного и общечеловеческого замысла.
Но, с другой стороны, поэзия Галлера по-своему сопряжена, или сцеплена, со всем научным творчеством и отражает в себе и целое его личности, и целое его научных интересов, только совсем иначе, чем у Ломоносова. На протяжении примерно пятидесяти лет поэзия Галлера как сильный и крепкий голос звучит в концерте немецкоязычной поэзии, уверенно занимая в нем свое прочное и важное место.
Альбрехт фон Галлер родился 16 октября 1708 г. в Берне, в семье юриста, принадлежавшей к лучшим родам Берна, однако не принимавшей никакого участия в управлении государством. Позднее Галлеру удалось преодолеть это положение — ему удалось сделать это с блеском, что, несомненно, составляло особый предмет его гордости. В 14 лет мы уже застаем Галлера в Биле, в доме друга его отца — врача, который посвящает его в тайны своей профессии; итак, Галлер профессионально занимается медициной и в 15 лет отправляется в Тюбингенский университет. Преподавание здесь вскоре перестает удовлетворять Галлера, и в 1725 г. он едет в Лейден, где слушает лекции Германа Бурхаве, самого выдающегося врача своего времени, — он читал не только курс медицины, но также ботанику и химию. Летом 1726 г. Галлер путешествует по северной Германии, составляя (иное было бы для него немыслимо) подробный дневник путешествия, а в 18 лет защищает диссертацию (о слюнных железах) и становится доктором медицины. Из Голландии Галлер отправляется в Англию, а затем во Францию, где продолжает совершенствоваться в медицине. Затем в Базеле Галлер завершает свое образование — здесь он слушает лекции математика И. Бернулли, здесь же увлекается ботаникой и здесь же начинает заново и всерьез заниматься поэзией, восполняя упущенное в Лондоне. Именно в Базеле Галлер впервые читает сочинения Шефтсбери и Попа и для этого по-настоящему изучает английский язык. В 1729 г. Галлер вместе с Иоганнесом Геснером предпринимает ботаническое путешествие в Альпы, которое не осталось без самых серьезных результатов, — во-первых, научных, какие Галлер опубликовал спустя годы2, и, во-вторых, поэтических, поскольку он был вдохновлен на создание поэмы “Альпы” (Die Alpen, 1729), самого знаменитого среди его поэтических созданий. В 1729 г. начинается бернский период деятельности Галлера, продолжавшийся по 1736 г. Вся эта пора считается периодом неудач Галлера — его в родном городе не признают, даже и как врача; считается, что написанные им сатирические стихотворения настраивали против него правящие семейства города, однако сатиры Галлера были выдержаны в общем характере риторического жанра и не притязали ни на какую особую злободневность, хотя их тема — падение и порча нравов — не была надуманной и прямо соотносилась с действительностью дня. В 1732 г. Галлер собирает и впервые печатает свои стихотворения, пока не указывая еще своего имени. Этому собранию стихотворений был сужден большой и длительный успех. Личная жизнь Галлера скла-дывается несчастливо. В 1731 г. он женится на Марианне Висс, однако она умирает в 1736 г., вторая жена Галлера умирает в 1740 г., через год после свадьбы, а третий и последний брак Галлера был длительным и несчастливым.
Между тем в 1736 г. Галлера приглашают в Геттинген, в новый университет, только что основанный в 1734 г. Удивительным образом блестящие традиции этого университета установились как-то сразу, — то были традиции трезвого, рационального научного творчества в духе Просвещения, представленные так солидно и последовательно, как ни в одном немецком университете. Никакого “немецкого тумана” тут не было и в помине, и сам Галлер, — не говоря уж о том влиянии, какое он мог оказать на дух нового университета, — словно был создан для этого учебного заведения. Галлер был приглашен сюда как профессор анатомии, хирургии и ботаники (или, как значится в биографии, написанной И.Г. Циммерманом, — “профессором медицины, анатомии, ботаники и хирургии”) и очень скоро занял подобающее себе место. С 1747 по 1753 г. Галлер редактирует журнал научных рецензий — “Göttingische Zeitungen von Gelehrten Sachen” (позднее “ Göttingische Gelehrte Anzeigen”), один из самых влиятельных научных органов того времени (существует и поныне), в работе которого Галлер до конца жизни принимал самое живое участие. В 1750 г. Галлер основывает в Геттингене Академию наук и становится ее президентом. Годом раньше Галлер возведен в дворянское достоинство. В те же годы выходят в свет капитальные труды Галлера — его восьмитомные “Анатомические картины”, атлас швейцарской флоры, первый очерк “Физиологии” (1747), за которым позднее последовал его большой курс физиологии в восьми томах, наконец, не считая морально-философских сочинений и постоянно переиздававшегося собрания стихотворений, четыре громадные “Библиотеки”, т.е. аннотированные библиографии по ряду областей знания — ботанике, анатомии, хирургии3.
Находясь в Геттингене, Галлер приглашался на самых почетных условиях на профессорскую должность в Утрехт, Оксфорд, Берлин, однако всякий раз он отвечал отказом. Уже поэтому трудно представить себе, что в Геттингене что-то не удовлетворяло Галлера. Однако это было так — он тяжело переживал разлуку с родным городом. В 1744 г. Галлер довольно неожиданно был избран членом Большого совета Берна. Очевидно, он придавал этому обстоятельству очень большое значение, поскольку постоянно порывался вернуться в Берн. Итак, невзирая на полнокровную научную жизнь в Геттингене, несмотря на свое положение президента Академии наук, каким Галлер и оставался до конца своих дней, несмотря на настоящую славу, которой пользовался он в Геттингене и во всем научном мире, Галлер при первой же возможности вернулся в Берн.
Это произошло в 1753 г., как только он был избран, путем жребия, на городскую должность в родном городе. Эта должность именовалась — Rathausammann и была относительно скромной, а именно “четвертой в республике”, по словам И.Г. Циммермана. Ради этой административной и, безусловно, подчиненной должности великий ученый оставил Геттинген. До самой своей смерти (16 ноября 1777 г.) Галлер и оставался в кантоне Берн, причем его научная продукция шла своим чередом, между тем как самой значительной должностью, какой удостоился он в Берне, было управление соляными копями в Роше; должность эта на самом деле считалась весьма важной, и Галлер занимал ее с 1758 по 1764 г. Впоследствии Галлер носился с мыслью вновь вернуться в Геттинген, однако семья его решительно воспротивилась этому, и Галлер, оставшись в Берне, исполнял тут некоторые дипломатические поручения. Помимо уже названных “Библиотек” и грандиозной “Физиологии”, Галлер нашел еще время для публикации трех небольших “государственных романов” (историко-политических сочинений в беллетризованной форме), а также “Писем о важнейших истинах Откровения” и “Писем относительно некоторых возражений ныне здравствующих вольнодумцев против Откровения”, последнее сочинение — в трех томах4.
***
Как уже отмечалось во вводном обзоре немецкоязычной литературы Швейцарии XVIII в., вся эта литература покоится на многовековой морально-риторической культуре в ее особенном состоянии, отмеченном скрытой внутренней напряженностью, — в состоянии предфинальном. Поэтическое творчество Альбрехта фон Галлера есть весьма своеобразный вариант риторической поэзии.
Первым делом надо решительно расстаться с распространенным ранее мнением, будто Галлер создавал свои стихотворения в юности, а позднее отказался от поэтического творчества.
Действительно, поэтическое творчество Галлера почти уже завершилось к тридцати годам, позднее Галлер пишет почти исключительно только стихи “на случай”. Однако все это — отнюдь не юношеское творчество. Сама риторическая поэзия — это язык, хотя и представленный во множестве оригинальных преломлений, это особое состояние слова, это язык, на котором мыслят и творят и Вергилий, и Овидий, и Данте, и Галлер. Эта поэзия — всегда носительница своего знания, и оно прибавляется к возрасту поэта; как знание поэзия умудряется вложенным в нее опытом культуры, и была бы такой многоопытно-умудренной даже и в своем комически-пародийном варианте (что для Галлера отпадает, так как его поэзия проникнута глубочайшей серьезностью, которая не ведает своей противоположности — не ведает ни смеха, ни издевки, ни чего-либо комического).
Тем самым поэзия Галлера “безвозрастна”. Она несет на себе черты личности поэта, но не эти черты определяют самую ее суть, ее облик, фактуру и т.д. Все это очень вскоре начало радикально меняться, и в 1770-е годы Гете и его молодые современники начинают создавать поэзию с “возрастом”, а именно чувствующую себя юной и так себя и подающую.
Вместе с тем со стороны биографической, поэзия Галлера — это свидетельство становления новой личности, уже довольно далеко зашедшего. Поэтическое творчество Галлера началось довольно рано. Как многие люди того времени и круга, Галлер был совершенно лишен “беззаботного” детства — в нынешнем разумении. С ранних лет его жизнь была подчинена суровой работе — той, какую мы теперь определили бы как преимущественно филологическую: “На девятом году жизни, — пишет Иоганн Георг Циммерман, биограф ученого, — он начал готовить большие лексиконы всех еврейских и греческих слов, встреченных в Ветхом и Новом Завете, со всеми их различными оборотами, корнями и толкованиями. Он создавал халдейскую грамматику. Он составил до двух тысяч жизнеописаний знаменитых людей по образцу Бейля и Морери, которых к тому времени уже прочитал”6. “Гомер был моим романом в 12 лет”, — свидетельствует сам Галлер. В 1729 г. Галлер сжег почти все свои рукописи — “бессчетные стихи, эклоги, трагедии, эпические поэмы”. Поэзия Галлера начинается для нас с его зрелых и совершенных работ.
Вместо непосредственности привычного впоследствии типа: коль скоро поэзия есть излияние и выражение личности поэта, то в ней — интимное запечатление всей непосредственности его мироощущения-переживания (в это твердо веруют века полтора, но не более!), — в поэзии галлеровского, риторического склада осуществляется “непосредственность” иного плана. Древние поэты, как, прежде всего, Вергилий, высоко ценятся тут как образцы, ценятся, но не переоцениваются и не возводятся в абсолют: и самые образцовые тексты требуют, по своему существу, пристально-критического и отчетливо-сознательного чтения, трезво и холодно отмечающего успехи и неудачи поэзии. Для такого восприятия и понимания вещей Гомер — все еще поэт не образцовый; новыми веяниями, шедшими по преимуществу из Англии и прокладывавшими путь к позднейшему чтению Гомера совсем новыми глазами, Галлер, в отличие от своих современников, не был затронут, так что трижды прочитанный им Гомер отличается у него следующими свойствами — он все вновь и вновь отторгается от круга риторически-нормативного и отходит в свою обособленность; однако остро начинает ощущаться седая древность Гомера, и она незаметно несет в себе всю потенциальность будущих прочтений Гомера.
Зато Шекспир, читаемый Галлером, проявляет иную — совсем обратную динамику: он, при самом обостренном ощущении его обособленности от риторически-нормативного и континентального, втягивается в круг непосредственного — непосредственно оцениваемого и, хотя вынужден сносить самые неснисходительные и нелицеприятные отзывы, рассматривается благожелательным взором — тем, что ищет в нем близкородственную природу, — повинуясь слабо осознаваемой логике историко-культурного тяготения.
Со своей собственной поэзией Галлер, помимо непосредственных, находится и в многообразно опосредованных отношениях. Она — не результат какого-либо непосредственного самовыражения, а итог долгого и стоившего немалых трудов процесса учения — приспособления своих задатков и своей индивидуальности к поэтически-риторической форме. Вот почему Галлер и начинает сразу же со зрелых произведений, вот почему он — в самую первую очередь — относится к своей же поэзии как читатель-филолог.
В течение всей своей жизни Галлер продолжал оставаться в творческом общении со своими стихотворными текстами, исправляя, переделывая и как филолог-эдитор издавая их. И текст каждого стихотворения, и состав издания с годами менялись. Галлер издал свои стихотворения — “Опыты швейцарских поэм” (“Versuch schweizerischer Gedichte”) — не менее 11 раз. Каждое издание было “умноженным” и “измененным” — в общей сложности Галлер внес в свои стихотворения около 1600 изменений. Все такие изменения и исправления были смысловыми и/или языковыми, стилистическими; как поэту швейцарскому Галлеру приходилось приспосабливаться к вырабатывавшейся норме нового немецкого литературного языка. Галлер говорил на бернско-немецком, а по-немецки писал, в сущности, как на чужом языке. Сам Галлер говорит об этом: “Я швейцарец, немецкий язык мне чужой”7. В первом издании книги даже сам заголовок содержал, с точки зрения нормы, ошибку: Versuch schweizerischer Gedichten вместо Gedichte8. Вообще довольно резкий сдвиг, совершавшийся в самосознании и самоистолковании немецкой литературы, вынуждал начинать как бы с нуля (вопреки самой действительности литературы), рационально прорабатывая все нормы языка и по возможности отсекая любое “барочное” своеволие, — Галлер как рационалист сразу же перенял все эти требования. “В моем отечестве, за границей Германской империи, даже и самые ученые мужи говорят на весьма нечистом наречии; в наших символах веры, и в наших государственных документах — иные склонения, иные согласования. Со всеми дурными привычками такого рода мне пришлось весьма постепенно расставаться, а поскольку другие труды не позволяли мне посвящать свои часы родному языку, то в итоге на моей стороне всегда оставалась известная бедность выражения”9.
Роль Галлера в сложении этого немецкого поэтического литературного языка оказалась в итоге как раз особо выдающейся и иной раз расценивалась в самых восторженных выражениях, — например, Моисеем Мендельсоном и И. Г. Зульцером.
Поскольку же Галлер не просто вносил в текст своих стихотворений изменения, но и фиксировал многие из них в научно-критическом аппарате изданий, то сам графический облик его стихотворений представал остраненным, напоминая полосы изданий античных классиков, а издание знакомило, в сущности, с генезисом текста. Генезис текстов совершается хотя и не без “воли” автора, но по соображениям, высоко поднимающимся над любой эмпирической личностью поэта-творца.
В связи с этим же постоянно перестраивается и состав сборника. Оба первых издания начинались с поэмы “Альпы”, которая в издании 1743 г. (третьем) была предварена тремя стихотворениями — “Утренние мысли” (или “Утренние размышления”, “Morgengedanken”, 1725; ср. заглавие одного из известнейших стихотворений М. В. Ломоносова), “Тоска по родине” (“Sehnsucht nach dem Vaterlande”, 1726), “О чести” (“Über die Ehre”, 1728). С этого же третьего издания Галлер начинает проставлять даты при своих стихотворениях, что и служит знаком наступления нового этапа его обращения (или общения) со своими текстами. Третье издание, вышедшее в свет в пору пребывания Галлера в Геттингене, свидетельствует об увеличившейся дистанции как между автором и его текстом, так и между автором и его родиной, — слово “тоска” или “томление” (“ностальгия”), столь углубленно разработанное спустя почти сто лет в романтической поэзии, оказывается вполне на своем месте и здесь, в этой риторически-рационалистически трактующей себя поэзии, и здесь тоже разыгрывается настоящий пролог к будущему ностальгическому самочувствию романтического поэта (как “вообще” человека на земле). То самое состояние души — казалось бы, вопреки всякому здравому смыслу — отравляло пребывание Галлера в Геттингене (в течение 16 лет), где роль ученого была поистине достославной, поверено Галлером его поэзии.
Расположение стихотворений становится хронологическим. Сама датировка становится для поэта средством постигнуть сборник (или вообще “корпус своих текстов”) как смысловую конфигурацию; по крайней мере в отношении одного стихотворения Галлера доказано, что его датировка неверна, — это “Незавершенная ода о Вечности” (“Unvollkommenes Gedicht über die Ewigkeit”), в шестом издании (1751) получившая дату — 1736 г.; К. С. Гутке доказал, что Галлер окончил работу над ней лишь в 1742 г.10
За поэмой “Альпы” в издании стихотворений следуют большие дидактические стихотворения-поэмы — “Мысли о разуме, суеверии и неверии” (“Gedanken über Vernunft, Aberglauben und Unglauben”, 1729), “Лживость человеческих добродетелей” (“Die Falschheit menschlicher Tugenden”, 1730) и “О происхождении зла” (“Über den Ursprung des Übels”, 1734), занявшие в окончательном расположении текстов места 5-е, 6-е и 14-е; вместе с “Альпами” эти три текста составляют ядро поэтически-интеллектуального наследия Галлера.
Между ними располагаются тексты меньших размеров и более скромных притязаний — среди них оды, сатиры “Испорченные нравы” (“Die verdorbenen Sitten”, 1731) и “Модник” (“Der Mann nach der Welt”, 1733). Современный исследователь, К. Зигрист, вполне допускает, что содержащиеся в первой из этих сатир строки типа следующих:
Bey solchen Herrschern wird ein Volk nicht glüklich;
Zu Häuptern eines Stands gehoret Hirn darein
(“При таких правителях народ не будет счастлив; / и вельможным головам нужны еще и мозги”) — могли серьезно испортить отношения Галлера с бернскими властями11. Далее в корпусе текстов следовало единственное собственно лирическое во всем творчестве Галлера стихотворение — “Дорис” (“Doris”, 1730), написанное поэтом перед своей первой женитьбой на Марианне Висс. Это строфическое стихотворение (с рифмовкой: aabccb) “благодаря истинному выражению чувства высоко поднимается над модными забавами анакреонтики”12; его можно было положить на музыку и петь, и спустя двадцать лет после его создания, во время плавания по Цюрихскому озеру — что увековечено Ф.Г. Клопштоком в оде “Цюрихское озеро” (1750), — его пела Иоганна Мария Хирцель.
Галлер же считал нужным извинять свое лирическое создание: “То, что кажется живым и дозволительным на двадцатом году жизни, представляется нелепым и непристойным на пятидесятом ... Но поскольку стихотворение это в руках столь многих, так что я не в состоянии вырвать его у них, то мне приходится оставить эту память о страсти господствующей и, в конце концов, в известном смысле невинной”13. Вот такое самоотрицающее извинение оставил Галлер!
Занявшее свое (хронологически неоправданное) место стихотворение о вечности открыло целый ряд поэтических текстов на болезнь и смерть первой супруги Галлера, в число которых вошла и обращенная к поэту элегия И.Я. Бодмера с ответом ему Галлера, — об этих стихотворениях еще пойдет речь, — а также и стихотворение на смерть второй жены Галлера Элизабеты Бухер (№ XXV). Скорбно-меланхолический тон этих стихотворений будто предвещает коду всего сборника, для которого поэт словно нашел наконец подобающий ему человеческий тон. Впрочем, включенные в сборник кантата и серенада в честь английского короля Георга II — Геттинген располагался в его владениях — относятся к числу зрелых созданий поэта, вполне владеющего разными тонами поэзии, в том числе и лирическим. Несколько эпиграмм и стихотворений на случай завершают собрание поэзии Альбрехта фон Галлера.
Однако в это собрание вошло далеко не все написанное Галлером в стихотворной форме: после второго издания из сборника выпали стихотворения на французском языке; некоторые стихотворения, и в том числе касающиеся России, русской темы, а потому представляющие для нас особый интерес, никогда сюда и не включались, и Галлер отрицал за ними какое бы то ни было значение14.
***
Как подает Галлер свою поэзию? Как нечто создаваемое в “часы досуга”, как только нечто терпимое и заслуживающее извинения: “Моим главным занятием были иные труды, и, мне кажется, справедливо простить такому случайному поэту многое из того, что было бы непростительно для настоящего поэта, который всю свою жизнь посвящает поэзии ...”15. “Тысячи иных занятий подавляют меня и оставляют в моем распоряжении лишь немного мгновений, какие я мог бы посвятить столь ненужным и неважным вещам, какими выступают в моих глазах мои стихи”16.
Все эти заверения — цепочки из риторических общих мест. Только сопоставление общих мест и реального плана внутри самого же риторического самоистолкования позволяет взглянуть на подлинное, т.е. уже как бы не риторическое своеобразие, с каким разумеет Галлер свою поэзию. Галлер в своей риторической позе самоумаления склоняется к тому решению, какое в эпоху сентиментализма, т.е. несколько позже поэтических начал Галлера, стало давать всякого рода поэтические “Безделки” (как называется сборник Н. М. Карамзина), что соответствует немецкому “Tändeleyen” (название поэтического сборника Г. В. фон Герстенберга, 1759), — такое название вновь лишь топос поэтического самоистолкования, так что никто не вправе принимать “безделки” за безделки. Для поэта риторической поры заявлять, что он занимается поэзией как безделкой и только в часы досуга, одновременно значит претендовать на то, чтобы его поэзия понималась как трудное, совсем не простое дело, и на то, чтобы она бралась читателями во всей ее серьезности, — это не столько “подтекст”, сколько прямое логическое следствие, прямая импликация риторического самоумаления, в чем Галлер, конечно, вполне отдавал себе отчет. В позднем своем самоанализе Галлер весьма взвешенно сопоставляет свою поэзию с творчеством другого “легкого” поэта Хагедорна, и он всегда сочувственно присматривается ко всему тому иному, что наблюдает в творчестве своих современников и ровесников (каким и был Фридрих фон Хагедорн, 1708-1754). Внутренний ход рассуждения, ведущий к известному типу самоистолкования, тут тоже достаточно ясен: ведь Галлер, как и вся немецкая литература его поры, расстается прежде всего с заветами позднего барокко. “Моим первым образцом был Лоэнштейн, — рассказывает Галлер, — он-то и побуждал меня к поэзии”, однако суть его — “напыщенность и надутость; Лоэнштейн скользит по метафорам словно по легким пузырям” (Предисловие к четвертому изданию)17. Когда Галлер начинает ориентироваться на новую философскую поэзию Англии с Александром Попом во главе, равно как и на древние образцы Горация и Вергилия, то он рисует творчество поэта как чрезвычайно интенсивное и сжатое творение образов, и такие его представления вполне гармонируют с цюрихской эстетикой глубокого суггестивного воздействия на читателей: “Мне бы хотелось, чтобы еще больше мыслей помещалось у меня в еще меньшее число стихов. По моему мнению, нельзя допускать, чтобы внимание читателя ослабевало ... Поэт обязан громоздить друг на друга образы, живые фигуры, краткие речения, энергетические черты, неожиданные наблюдения, или же считаться с тем, что его отложат в сторону”18.
И вновь странность: едва ли хотя бы один поэт позднебарочной эпохи стал бы возражать против такого описания деятельности поэта, и тем не менее за ним стоит совершенно новый тип философско-поэтического мышления. Итак, поэзия — это тяжелое и ответственное дело: “легкая работа дурна и в поэзии” (“Сравнение стихотворений Хагедорна и Галлера”)19. “Что же остается мне?”20 — спрашивал Галлер, если поэзия стала слишком трудна. В тексте 1772 г. он отвечал на свой вопрос так:
“Ничего, кроме восприимчивости; это сильное чувство, следствие темперамента, принимает в себя впечатления любви, восхищения, а еще более того — признательности, с такой живостью, из-за которой выражения чувств начинают дорого обходиться мне. Еще и теперь слезы текут у меня из глаз, когда я читаю о великодушном поступке; а чего только не выстрадал я, когда судьба отняла у меня юную и возлюбленную супругу, когда тут ничем нельзя было помочь делу. Эта чувствительность, как начинают именовать ее теперь, придала, правда, моим стихотворениям особый меланхолический тон и ту суровость, какая бесконечно отлична от Хагедорновой живости (Munterkeit)”21.
Некоторые слова, которые в переводе этого отрывка вынужденно заменились разнокорневыми, в немецком тексте коренным образом друг с другом сопряжены — это Empfindlichkeit, Empfindungen, Empfindsamkeit. Последнее — это “чувствительность”, или “сентиментальность”, какая дала наименование богато развитому языку культуры второй половины XVIII — начала XIX в.; в России рубежа веков эту культуру уверенно представлял, и не без немецко-швейцарских воздействий, Н. М. Карамзин22. В Германии же эта культура, с соответствующим языком выражения и самоистолкования чувства, пустила глубокие корни существенно раньше; ко времени написания галлеровского “Сравнения стихотворений Хагедорна и Галлера”, эта культура, тесно связанная с “анакреонтикой”, с “бездельством”, с поэтической игрой и со всем, что ассоциируется с понятием “рококо”, ими и подготовленная, насчитывала уже почти четверть века! Основное понятие этой культуры — чувство, или sentiment, чувство как “сантиман” — по-немецки Empfindung. Галлер дожил до серьезного поворота в этой сентиментальной, или сентименталистской культуре, до ее расцвета, затронувшего и немецкое течение так называемых “бурных гениев”, “Бури и натиска”, “Sturm und Drang” в 1770-е годы. Как можно видеть по только что приведенному высказыванию 1772 г., Галлер вполне сочувственно отнесся к этим новым движениям и, главное, открыл нечто родственное им в своей ранней поэзии. И это — с полным основанием, уже потому, что одной из центральных категорий поэтики Галлера с самых ранних пор было Rührung — способность трогать и быть тронутым. “Растроганность сердца” (“die Rührung des Herzens”) — это и предмет изображения (в стихотворении “Тоска по родине”), и “восприимчивость”, кроме которой Галлеру ничего более не оставалось; Rührung des Empfindlichkeit, т.е. способность воспринимать ощущения, чувства, удивительным образом связывают поэзию Галлера с тем центральным понятием, какое Галлер, по заветам своих учителей, развивал в науке, с понятием “раздражимости”: “раздражимость”, Irritabilität, как свойство мышц, нервов, соответствует в физиологии чувствительности, или восприимчивости, Empfindlichkeit, в душевной и духовной жизни человека, и первое служит основой для второго. Оставаясь рационалистом, каким он был в 1720-1730-е годы, — рационалистом, преодолевающим в поэзии барочную, не знающую меры об-разную пышность, — Галлер оказался открытым к новопонятому чувству даже и изнутри своей науки, изнутри естествознания.
В 1747 г. Галлер писал: “Мысль, хорошо подобранный эпитет, изысканное, однако истинное слово, трогательность — вот что творит стих, а не счет слогов и не совпадения букв”23. По мнению К. С. Гутке, Галлер — причем на сей раз даже в отличие от цюрихских теоретиков — не отступает перед следствиями эстетики эмоций, но постепенно обращает “трогательное” в основное понятие своей эстетики24. Здесь необходимо всего одно уточнение: если цюрихцы и перекрывают “трогательное” своим интеллектуализмом, то Галлер в некотором фундаментальном отношении все же и вовсе не покидает атмосферы рационализма — тоже в отличие от цюрихцев; как и они, он тоже парадоксальным образом открывается в сторону будущего, однако происходит это у них по-разному, так что Галлер, поступая вполне самостоятельно, даже в чем-то дополняет “предвидения” цюрихских теоретиков.
Как поэзия чувства, стихотворения Галлера уходят внутрь своей тяжелой меланхоличности. Как уже говорилось, поэзия Галлера, согласно его внутреннему самопониманию, обязана стоять в стороне от его научной деятельности, что так отличает его от захваченного интересами науки поэта М. В. Ломоносова. Кажется, только один-единственный раз Галлер возвышается до некоторого призыва, обращенного к ученым (и к науке), и этот призыв, несколько приглушенный, несказанно умножился в громовом одическом стиле Ломоносова. У Галлера это строфа 37 поэмы “Альпы”.
Нет сомнения в том, что и Галлер, и Ломоносов идут одними и теми же путями рассуждения и образного построения: и тот, и другой заворожены — каждый на свой лад — внутренним: недрами земли, скрытым строением растений, духом изыскания, исследования. Но только если Ломоносов в своем порыве внутрь всегда безоговорочно оптимистичен: все вообще и до конца постижимо! — то Галлер замирает перед бесконечностью, и его взгляд уже заранее упирается в непостижимое, в то, что нельзя изыскать, даже просто в то, что нельзя успеть исследовать.
Читая в 1730 г. книгу Генри Пембертона об Исааке Ньютоне25, Галлер отметил для себя следующую мысль: “Естествоиспытатели должны быть довольны, если, следуя по ступеням причин, достигнут некоей средней ступени, и достижение первопричины, лежащей в непроницаемом мраке, никоим образом не может быть вменено им в обязанность”26.
Поэзия для Галлера — отнюдь не место самых напряженных и ответственных высказываний, но спокойное и лишенное какой-либо патетики, культа знания (а тем более неудержимого его прославления) место размышлений и сомнений. Представлять себе Галлера в качестве гамлето-фаустовской натуры — это охотно повторяет А. Эльшенбройх27 — было бы сильным преувеличением: как любая ложная актуализация образа ученого, такой взгляд его искажает. Однако и А. Эльшенбройх прав, когда настаивает на том, что дидактическая поэзия Галлера — это новая по своей сути философская поэзия, философская лирика28, в конце концов, в развитии своих новых установок, приводящая к Шиллеру и Гёльдерлину: мыслящая личность поэта начинает все больше принимать участие в создании такой лирики уже и экзистенциально, вкладывая в нее весь свой вес — свои мысли и сомнения, хотя в итоге все высказывания такой поэзии и притязают на общность, общезначимость, а, стало быть, и на некоторую самоочевидность. Есть в такой дидактической поэзии и то, и другое, — и личное, и совершенно общее.
Скептические суждения Галлера относительно возможности познания из поэмы “Лживость человеческих добродетелей” (“Die Falschheit menschlicher Tugenden”) стали знаменитыми благодаря вызванной ими полемике. У Галлера сказано так:
Ins Innre der Natur dringt kein erschafner Geist,
Zu glücklich, wann sie noch die aussre Schale weist29.
(“Во внутреннее Природы не проникнет тварный дух, / слишком счастлив, если явит она ему хотя бы внешнюю оболочку”).
Гете, а потом и Гегель протестовали против этих строк, — Гете в стихотворении, первоначально опубликованном (1820) в его журнале “К морфологии” под названием “Недовольное восклицание” (“Unwilliger Zuruf”), затем в собрании сочинений (1827) — под названием “И однако” (“Allerdings”) — и адресованное тут “физику”. Стихотворение Гете устроено так, что авторская речь перебивает текст Галлера своими глоссами:
“Внутрь природы...” / Ах ты, филистер!.. / “Не проникнуть духу сотворенному ”. / Мне и близким моим / Не смейте и напоминать / О таких словах. / Мы думаем: место за местом, / И мы — внутри. / "Счастлив уже тот, кому /Являет она хотя бы внешнюю оболочку!” / Это я слышу уже лет шестьдесят, / Кляну такие слова, но втихомолку, / И говорю себе тысячу тысяч раз: / Природа все дарует щедро и охотно; / У природы нет ни сердцевины, / Ни оболочки; / Она — все единым разом, / Поверь сперва ты сам себя, / Ядро ты или скорлупа”.
Следом за Гете и со ссылкой на первое издание его стихотворения эти же строки Галлера приводит и Гегель — в 140 параграфе своей “Большой энциклопедии”. “Обычная ошибка рефлексии, — пишет тут Гегель, — сущность берется только как внутреннее. А когда она так берется, то и такое рассмотрение тоже совершенно внешнее, а такая сущность — пустая внешняя абстракция.
Во внутреннее природы, говорит один поэт,
не проникнет дух сотворенный,
Слишком счастлив, если явит она ему хотя бы
внешнюю оболочку.
А надо было бы сказать, — именно тогда, когда сущность определима для него как внутренняя, он ведает лишь внешнюю оболочку”30.
Несмотря на кажущееся взаимосогласие между Гегелем и Гете логический анализ Гегеля противоречит той поэтически-научной интуиции Гете, которая заставляет его тяготеть взором в скрытые, глубинные недра природы. Совершенно очевидно, что Гете ближе тут нашему Ломоносову с его несокрушимым и еще не испытанным просветительским оптимизмом во взгляде на познание. Загадочная зримая представленность внутреннего во внешнем преследовала Гете как “открытая тайна”. Полемика и Гете, и Гегеля с Галлером остается “безличной” в том смысле, что личность швейцарского поэта остается тут совсем в стороне, — Гегелю важно еще раз опровергнуть современную философскую тенденцию ставить пределы познанию — тенденцию, воплощавшуюся для него в философии интуитивиста Ф. Г. Якоби. “Бог не может быть знаем, а может быть лишь веруем, — значится в «Открытом письме Фихте» (1799) Якоби. — Бог, который мог бы быть знаем, вовсе не был бы Богом”31. Гегель, исходя из собственных убеждений, мог с полным основанием настаивать на том, что знание как знание беспредельно и что ни о каком Боге, кроме как о знаемом, мы и не можем знать. Однако все это находилось за горизонтом мысли Галлера, а потому и излагаемая Гегелем диалектика внешнего/внутреннего не затрагивала существа мысли поэта, высказанной за девяносто лет до этого.
Однако соотношение, в каком оказались Гете и Галлер, вовсе не просто. Достаточно сказать, что Гете оставался антиньютонианцем, Галлер же, восхищавшийся Ньютоном как образцом современного ученого, под “возвышенным”, или “высшим”, духом в своей поэме разумеет и Ньютона: как “возвышенный дух”, тот же Ньютон, правда, одновременно и “дух тварный”, или “сотворенный”, а тем самым обреченный на неполноту знания. Поэтому его положение весьма двойственно и тяжко: неполное знание в самом конечном итоге оказывается перед своим “ничто”, а потому должно быть “разоблачено” как ненастоящее, пусть даже и с поднимающимся и нарастающим в душе отчаянием. Человек под конец все равно должен узнать, по-сократовски, что он ничего не знает, Wir irren allesamt, doch jeder irret anderst”32 — “Мы все заблуждаемся, только каждый по-своему” (“Мысли о разуме”, ст. 292). Однако “возвышенному духу” — вспомним, что он даже выходит за пределы человеческого! — остается еще очень много дел на земле. И вот в стихотворении “Лживость человеческих добродетелей” стихам, приводимым Гете и Гегелем, непосредственно предшествуют (ст. 287-288) такие:
Doch suche nu rim Riss von künstlichen Figuren
Beym Licht der Ziffer-Kunst, der Wahrheit dunkle Spuren33,
т.е. “Однако темные следы Истины ищи лишь на чертеже из фигур, (диктуемых — А.М.) искусством (наукой, знанием — А.М), / В свете цифрового искусства (математики — А.М.)”. Исследователь отсылается к сфере знаков — геометрических чертежей, к исчислению, через которые и посредством которых только и может быть осуществлено человеческое, стало быть, частичное, познание. Математическое же познание — орудие современной науки — было, однако, чуждо и Гете, и Гегелю. Итак, для человека все же есть выход — полагаться только на свое, на свою сферу знаков, на то, что Гете называл “отражениями”, — так что нетрудно было бы отыскать и некоторые точки схождения между ним и Галлером, однако на фоне резких различий в интерпретации научного знания. Полагаясь на средства человеческого познания и видя их превосходные результаты, Галлер вовсе не впадал в отчаяние.
Если же отчаяние и было знакомо ему, то, помимо жизненных, для этого имелись метафизически-религиозные основания, а потому отчаяние было чем-то вроде постоянной слагаемой его внутреннего мира. Галлер слишком хорошо помнил, что Бог сотворил мир из ничего, а потому так сотворенный мир мог рассматриваться как замена, как прикрытие или как оболочка этого Ничто; мир обречен гибели и как обреченный он и заключает в себе всю неизбежность Ничто: при сотворении мира “на ночь ветхого Ничто пролился первый поток света”, второе же “Ничто погребет этот мир” (“Незавершенное стихотворение о вечности” (“Unvollendetes Gedicht über die Ewigkeit”, ст. 54-55, 57). В стихотворении “Лживость человеческих добродетелей” (ст. 273-274) говорится:
Erscheine grosser Geist, wann in dem tiefen Nichts
Der Welt Begriff dir bleibt, und die Begier des Lichts34,
и это тоже обращение к Ньютону: “Явись, великий дух, если только в глубине Ничто в глубоком Ничто смерти / Остается у тебя постижение мира и жажда света”. Итак, мир жизни лишь прикрывает собою Ничто смерти. И в других стихотворениях то же постоянное Ничто: “Мое тело уже чувствует приближение Ничто”; “Мир — только точка /.../ лишь полувызревшее Ничто” (“Незавершенное стихотворение о вечности”, ст. 118 и 89-90)35; “Род человеческий обладает двойным гражданством — на небе и в Ничто”; ангелы, отпавшие от Бога, “канули в их собственное Ничто” (“О происхождении зла” — “ Über den Ursrung des Übels”, ст. 2, 103-104; 3, 16)36 — и наконец: “Мы давно уже распознали ничтожество человеческого рассудка (das Nicht vom Menschen-Witz)”37 (“Мысли о разуме...” — “Gedanken über Vernunt, Aberglauben und Unglauben”, ст. 373).
Итак, в целом в поэзии Галлера продумываются не содержания наук, а положение человека в мире вообще, а потому поэзия Галлера образует нечто подобное экзистенциальному слою, какой постоянно окружает всю неохватную его научную деятельность. Все области деятельности Галлера отсылают его своими проблемами к поэзии, так что поэзия вновь обретает у него центральное положение. Поскольку же мы знаем, что написанные по большей части в ранние годы поэтические создания сопровождали Галлера в течение всей его жизни, то функция такого слоя, надо думать, была значительной.
И что, в дополнение к этому, самое важное, — как поэт, как автор, как ученый Галлер никогда не отрывался от движения современной литературы — литературы в самом широком ее понимании, охватывающем все, от научных трудов до поэтических произведений, притом, что в восприятии Галлера между разными типами литературных произведений и не было никаких непроходимых рвов и все они, напротив, связаны между собой гладкими переходами. Литература и поэзия — это для Галлера, естественно, “изящная наука” (schöne Wissenschaften, belles lettres, — последнее понятие, “беллетристика”, было впоследствии радикально переосмыслено). Поэзия — это знание, умение, наука, искусство. Отсюда у Галлера и четкая постановка перед собой поэтических задач, и прозрачность для него его разумения поэзии. Теперь уже вполне понятно, почему собрание стихотворений Галлера могло доводиться им до читателя лишь в научном облачении — с текстологическим аппаратом, в окружении авторских предисловий, предуведомлений, послесловий и всякого рода аннотаций и примечаний. Никого теперь уже не удивит то, что поэзия Галлера — это продукт рационалистической отчетливости мысли. Вместе с рационализмом Галлер заимствует и его отделанные на протяжении более века инструменты, так, как поэт он естественно перенимает александрийский стих, сделавшийся во французской традиции универсальным в области наиболее ответственных применений слова и стиха, — это и стих трагедии, и стих высокой комедии, и стих эпоса, и стих дидактической поэзии. Но и в этом случае (как и вообще во всем, что касается риторического языка поэзии) перенятие совершается у Галлера уже отнюдь не автоматически, а на основании сознательного выбора, потому что в его время уже можно выбирать между разными возможностями, тем более, что в цюрихской теории началось наступление на прерогативы александрийского стиха, с самыми глубокими на то основаниями. Если при этом вполне понятно, что три свои дидактически-философские поэмы и две сатиры Галлер пишет александрийским стихом с парной рифмовкой (как поступил бы и любой французский поэт), то, с другой стороны, этот стих обретает у Галлера индивидуальные черты — как орудие его поэтической техники и мысли. Конечно, Галлер пользовался и другими размерами (четырех- и пятистопным ямбом), и мадригальным стихом, а однажды даже воспроизвел, упрощая, сапфическую строфу, однако конструктивная четкость и членораздельность александрийского стиха настолько привлекали его, что, пожалуй, даже любой иной стихотворный размер (при любом строфическом строении) несет на себе в его исполнении отпечаток конструктивной отчетливости александрийского стиха, которую Галлер усвоил до блеска. Хореем же или трехдольными размерами Галлер не пользуется вообще никогда, и, кажется, единственным исключением, что касается хорея, являются его стихи в память второй супруги, Элизабет Бухер, самим автором не публиковавшиеся. Достаточно сопоставить элегию “На кончину Марианны” И. Я. Бодмера с ответом Галлера, чтобы убедиться в том, насколько по-разному слышат и организуют александрийский стих эти два поэта, причем стих Галлера воспринимается как максимально отшлифованный. Становится понятным и то, почему Бодмер и его единомышленники стали отходить от этого размера, предпочитая ему гекзаметр, который потребовал для своего воспроизведения в стихии немецкого языка весьма длительных усилий, и почему Галлер такие попытки отвергал. Именно потому, что для опытов в области гекзаметра, поначалу до крайности неуверенных, существовали глубокие историко-культурные основания, Галлер с его приверженностью александрийскому стиху оказывается в Швейцарии в несколько двусмысленном положении, — он разделяет эстетику цюрихских теоретиков и самым впечатляющим образом открывает свое поэтическое сознание “трогательности” и “сантиману”, однако вынужден отстаивать прозрачночеткий рационализм своей поэзии.
Галлер твердо держался раз выбранной позиции: с одной стороны, он в своих возражениях против гекзаметра уловил реальную слабость немецкого метра: “Примесь трохеев обрекает скандирование на неверность и произвол, отнимая у стиха регулярность, какой обладал он у древних” (1760)38; “Немецкий гекзаметр удается лишь немногим”, в то время как греческий язык был музыкальным, современные языки “против него слабы, неловки и беззвучны” (1772)39; “Если делать гекзаметры, как их обычно делают, так это слишком просто” (“Сравнение стихотворений Хагедорна и Галлера”, 1772)40.
Все это постоянные поэтологические принципы Галлера, и они находятся во взаимосвязи с его основными эстетическими установками. Поэма “Альпы” (“Die Alpen”, 1729) тоже писалась александрийским стихом, однако у нее строфическое строение — ее десятистрочные строфы имеют следующую рифмовку:
a b a b c d c d e e
Сам Галлер сознавал, что “выбрал затруднительный вид стихотворений, который без нужды (!) усложнил мне работу... Еще труднее сделалась она благодаря обычаю новых времен, когда сила мыслей возрастает к концу”41. Говоря иначе, Галлер вполне отдавал себе отчет в том, какие технические требования предъявляло к нему строение стиха и строфы — он считался с этими “трудностями”, которые становились неотъемлемой частью его поэтического мышления. Поэма “Альпы” состоит из 49 (в первом издании — из 48) строф, и каждая из них должна была представлять отдельное замкнутое построение, получающее в конце как бы убедительный финальный аккорд. Этого Галлер и достигает. На его языке это выглядит следующим образом: “Десятистрочные строфы, к которым я прибег, принудили меня сделать равное с ними число отдельных картин и всякий раз заключать в эти десять строк целый предмет”42.
Итак, каждой строфе соответствует отдельная картина, а слово “картина”, естественно, отвечает основному риторическому принципу, в начале XVIII в. еще обобщенному и подчеркнутому, согласно которому “поэзия — что живопись”. В начале XVIII в. описательная поэзия, строящая свои картины-“табло”, переживает свой новый расцвет — прежде всего в творчестве высокоталантливого гамбургского поэта Бартольда Хинрика Брокеса, а в Швейцарии — у самого же Галлера, затем у С. Гесснера. В 1766 г. последовал контрудар против всей “живописующей” поэзии, когда Г. Э. Лессинг издал свой трактат, который, согласно распространенному недоразумению, раз и навсегда покончил с уподоблением поэзии и живописи, доказав его несостоятельность.
Однако, чтобы вглядеться в происходившее тогда в поэзии, в ее внутренние сдвиги, в сопровождавшие их критические акты, а также и всяческие недоразумения, надо перенестись внутрь этой поэзии. Итак, каждая строфа “Альп” — это картина, а, следовательно, нечто живописное. Однако как же понимались эта картина и эта живопись?
Возьмем для начала самую первую строфу “Альп”:
Versuchts, ihr Sterbliche, macht euren Zustand besser,
Braucht, was die Kunst erfand und die Natur euch gab;
Belebt die Blumen-Flur mit steigendem Gewässer,
Theilt nach Korinths Gesetz gehäune Felsen ab;
Umhängt die Marmor-Wand mit Persischen Tapeten,
Speist Tunkins Nest aus Gold, trinkt Perlen aus Smaragd,
Schläft ein beim Saitenspiel, erwachet bei Trompeten,
Räumt Klippen aus der Bahn, schließt Länder ein zur Jagd;
Wird schon, was ihr gewünscht, das Schicksal unterschreiben,
Ihr werdet arm im Glück, im Reichthum elend bleiben43.
(“Что ж, сделайте попытку, о смертные, и усовершенствуйте свое положение; / Воспользуйтесь всем, что изобрело искусство и даровала вам природа; / Оживите цветочные луга воздымающимися вверх водами (фонтанами); / Расчлените согласно законам Коринфа обтесанные камни; / Увешайте мраморные стены персидскими коврами; / Вкушайте тонкинские гнезда на золотой посуде, пейте жемчуг из Смарагда; / Засыпайте под бряцание струн, просыпайтесь же под трубный глас, / Уберите горы с пути, опояшьте целые земли ради охоты на зверей; / Если и подпишет судьба все ваши пожелания, / Вы окажетесь нищими в счастье, жалкими в богатстве”).
Совершенно очевидно, что в этой строфе нет никакой картины “вообще”, зато в ней осуществляется некоторое единое и законченное движение мысли, строящей трехчастную форму, — призыв, исполнение и итог; это и логическое, и образное движение мысли, то и другое одновременно. Движение мысли завершается решительной сентенцией, — она еще не вполне понятна в том отношении, что требует разъяснений и обязана приводить в движение и все последующее. Это строго упорядоченное и жестко логичное движение не создает единой статической картины, зато в нем торжественно проходит много картинного, — сами такие картины в стих и в полстиха — это патетические, широкие жесты-картины, — в них предлагается мысленно, со всею обстоятельностью проделать нечто такое, что потом окажется обычной человеческой суетой и будет тут же сведено на нет и морально уничтожено. Такие жесты-картины либо более просты: “Увешайте мраморные стены персидскими коврами”, либо же они устроены более риторически-хитроумно: “расчлените согласно законам Коринфа обтесанные камни”, или даже “горы”, “скалы”, т.е. выстраивайте ряд коринфских колонн, к чему принадлежит и соответствующее богатое, пышное здание, — все это варьирует на разные лады тему богатой, пышной, царской, утонченной, преизобильной жизни людей, купающихся в золоте. В начальных и заключительных стихах строфы выступают и аллегорические персонификации, поскольку Искусство и Природа в стихе втором и Судьба — в стихе втором с конца — это не абстракции и не стереотипизированные выражения, но для сознания риторической эпохи все еще реальные деятели, от “воли” которых зависит очень многое, — Искусство изобретает, Природа дарует, а Судьба так даже и подписывает свое согласие с пожеланиями людей. Средние же строки строфы, взятые таким способом в объятья аллегорий-персонификаций, стихи с третьего по восьмой, — это провокационный призыв к роскошествованию, между тем как крайние строки строфы содержат умозаключение: если вы поступите вот так-то, то результат будет вот такой-то (а почему это так, разъяснится — во всех подробностях — позднее). Между тем картинные образы-жесты, продекламированные со всем вкусом и с внушительной отчетливостью, и крайние стихи “нравственного” толка усиливают друг друга: середина подчинена заявленному началу — “соблазну” совершенствовать свой образ жизни и ради этого не скупиться, конец же с ораторской броскостью подводит предварительный итог всему, объявляя поддавшемуся соблазну “человечеству” грустный итог всех его гигантских усилий. Мы обязаны исходить из того, что риторическое сознание с величайшей готовностью улавливает любой элемент картинности и цепляется за любой повод претворить что бы то ни было в наглядный образ. Наши пожелания — то, что Судьба подписывает или же не подписывает — это, в зависимости от установки нашего сознания, — либо бледный и даже некрасивый “образ” с бюрократическим оттенком, либо же яркий образ внутреннего свойства, вовсе не требующий явной внешней наглядности и полной своей проявленности, но такой, что в нем осуществляется нечто почти космически-масштабное — фигура Судьбы с каким-то пером в руке, какое-то выраженные (в форме какого-то прощения, что ли) наши человеческие пожелания. Все это, если только допустить, что такое может поразить сознание, рождает некую картинную или пластическую потенциальность, хотя и не доведенную до конца, не разработанную и тем не менее данную и здесь наличествующую. Итак, это своего рода живописно-пластическая потенциальность. Как можно думать, нечто подобное и имеет в виду поэт, помещающийся внутри риторической системы поэтического мышления, и, кажется, несколько неожиданным открытием последнего времени стало то, что, оказывается, риторической “живописности” вовсе не свойственна какая-либо заведомая наглядность “вообще”, а наши касающиеся живописности ожидания могут самым резким образом расходиться с ее истолкованием в риторической теории.
Если же считать вводную строфу “Альп” недостаточно характерной для описательной поэзии, — хотя и это, по автору, цельная картина, — то можно взять любую иную на выбор:
Ein angenehm Gemisch von Bergen, Fels und Seen
Fällt nach und nach erbleicht, doch deutlich, ins Gesicht,
Die blaue Ferne schliesst ein Kranz beglänzter Höhen,
Worauf ein schwarzer Wald die letzten Strahlen bricht;
Bald zeigt ein nah Geburg die sanft erhobnen Hügel,
Wovon ein laut Geblock im Thäle widerhallt:
……………………………………..
Bald aber ofnet sich ein Strich von grünen Thälern,
Die, hin und her gekrümmt, sich im entfernen schmälern44.
Это — 34-я строфа поэмы: “Приятное смешение гор, скал, озер — / Постепенно, не спеша, открывается взору, — / Пусть все бледнея, однако с отчетливостью, голубую даль окружает венец залитых солнцем вершин, / На которых чернеющий лес гасит последние лучи Солнца: / То близлежащая цепь гор являет мягкий овал холмов, / С каких доносится громкое блеяние, отдаваясь в долине, / То широко раскинувшееся озеро предстает зеркалом, протянувшимся на много миль, — / По его гладкой поверхности пробегает дрожащее пламя: / Однако вскоре откроется полоска зеленых долин, / Что, виясь между гор, все сужаются в отдалении”.
Конечно же, это — другое, это швейцарский пейзаж на закате солнца, с прекрасным наблюдением и умело сжатой передачей выразительных деталей. Все написанное рассчитывается на пристально-замедленное и даже останавливающееся на месте чтение, — есть сколь угодно много времени, чтобы подумать над прочитанным, перевести все в картинные образы и дать всему замереть в своем воображении. Это действительно картины, жизнь которых в сознании, всецело зависящая от языка культуры, от установок и навыков читателей, сложнее и цельнее всего того, что в смысле картинности можно было наблюдать в первой строфе поэмы. Спор о том, образует ли такое описание некую стоящую перед глазами картину, есть спор праздный, удел которого — застревать на границе разных языков культуры, запутываясь в недоразумениях. Конечно же, это — картина, если только допустить существование как установки сознания, так и навыков соответствующего ей чтения.
Ясно и то, что Галлеру было что возражать Лессингу, который в главе XVII “Лаокоона” писал: “В каждом слове слышу труждающегося поэта, однако я по-прежнему далек от того, чтобы видеть саму вещь. Итак, еще раз: я не отрицаю за речью способность описывать вообще, часть за частью, некое телесное целое ... но за речью как средством поэзии я отрицаю эту способность, так как таким словесным описаниям телесного недостает обмана иллюзии: к какому по преимуществу стремится поэзия”45. На что Галлер отвечал: “Нам кажется, что г-н Лессинг не улавливает цель, какую ставит перед собой поэт, создающий картины. Он намерен лишь ознакомить с некоторыми замечательными свойствами растений, и это удается ему лучше, чем художнику, потому что он может выразить и качества, в них заключающиеся, что познаются иными органами чувств, или же открываемые путем экспериментов, а такой путь для живописи закрыт ... поэт может живописать и зримые красоты, остающиеся неведомыми художнику. К таковым относится сверкание бриллиантов из воды, т.е. росы, переливающейся всеми цветами радуги на гладких листьях энциана; таковы же и те жемчужины, какие фея вдевает у Шекспира в ушко каждому первоцвету”46. Позднее Галлер писал с еще большей четкостью, обобщенно и не задерживаясь на частностях: “Поэзия живописует то, чего не может живописать кисть: свойства иных чувств наряду со зрением, связи с нравственным положением дел, какие чувствует только поэт” (“Сравнение стихотворений Хагедорна и Галлера”)47.
Галлеру было что отвечать Лессингу, однако, отстаивая принцип поэтической живописности, он невольно идет на некоторые уступки, образ-картина все время мыслится им как “перемножаемая” с чувством, или аффектом, с незримой и моральной стороной вещей, между тем как принцип живописности предполагал и нечто более узкое и буквальное — зримость создаваемого образа как такового, куда вливается, конечно, и все “внутреннее”. Одновременно в этой дискуссии заметно и то, что Галлер и Лессинг переговариваются через границу языков культуры, взаимно не понимая глубинных импульсов, направлявших каждого из них. И до сих пор на этой границе не наведено должного порядка, т.е. не достигнута должная ясность. Однако в своей поэме “Альпы” поэт, по его убеждению, создал целых 49 отдельных картин, и, надо сказать, они приведены в ясную композиционную связь.
Вот, в самых общих чертах, композиция этой поэмы.
Строфы
I - II Мораль,
III - Золотой век,
IV - XVII Простота нравов швейцарского народа,
ХI - ХII Праздники,
XIII - XVII Любовь и брак,
XVIII - XXXI Времена года (и дня)
(А при более дробном членении: XVIII — XIX Весна / Утро и вечер)
XX - Лето,
XXI - XXV Осень,
XXVI - XXXVI Зима,
XXX - XXXVI Мудрость народа,
XXXVII - XLV Природа Альп,
XXXVIII - ХLII Флора,
ХLV - ХLIХ Мораль,
ХLVI - ХLVII Отрицательный пример,
ХLVIII - ХLIХ Положительный пример живущего в довольстве народа.
“Альпы” — это не описательная поэма о природе Альпийских гор (как это иногда представляют себе), а поэма о выборе правильного пути в жизни, или, иначе, о добродетели, какую должно предпочесть пороку, причем поэма на “материале” жизни швейцарского народа, а уж в связи с этим и о природе, в единстве с которой живет этот счастливый народ. И описательное в поэме — это не описания природы, вернее, не только они, а описательное в ней — это каждый стих и каждый отрезок стиха, создающие зрительный образ-жест. Как поэма о народе, она рассказывает о таком народе, который живет в довольстве и “не желает никаких улучшений” (ст. 489 — предпоследний, симметричный самому 1-му стиху поэмы; см. выше) и который именно потому и живет в довольстве, что не требует улучшений; этот народ еще ведает, что такое “золотой век” (ст. 31); все в жизни этого народа находится в идеальном равновесии: суровость климата, простота пищи, безыскусность нравов, бедность (ст. 62), отсутствие учености (строфа IX), заменяемая наблюдениями над погодой (строфа XXVII), знанием растений и вообще природы (строфа XXXI), личным участием в важных исторических событиях, как-то сражениях (строфы ХХIХ-ХХХ), безыскусностью даже самого искусства (строфа XXVIII), — все это положительные, непременные стороны общей ненарушимой гармонии, все это образ сердечности, жизни по сердцу, а не по уму (ст. 90). Только “умеренная природа” может осчастливить человека (ст. 450), откуда явствует, что моральный идеал умеренности нуждается еще и в своем подкреплении извне, со стороны природного мира, по своим условиям и не богатого, и не бедного. Не что-либо, но сама природа еще особо побеспокоилась об этом счастливом народе швейцарцев, “отгородив его от мира” Альпийскими горами (ст. 53).
Умеренность природного и морального — это сама золотая середина: в сознании Галлера соединялись представления о неминуемом упадке рода человеческого и о благотворном воздействии искусств и наук — процесса цивилизации — на жизнь людей: и то, и другое представления Галлеру предзаданы как противоречивые, притом чрезвычайно долговечные элементы самого языка культуры. Галлер писал: “Страна, в которой орды кочевников вели в скудости бесполезную и безрадостную жизнь свою, начинает полниться городами и искусствами. Вместо отупляющего суеверия перед блуждающим во тьме народом открывается путь к истине и к знанию единственно благого” — из Посвящения девятого издания сборника стихотворений48. Как и большинство писателей немецкоязычной Швейцарии, Галлер не разделял культурного пессимизма Руссо, и его нельзя упрекнуть во “враждебности культуре” как одного из предшественников Руссо, взгляды которого во многом сложились под влиянием французской книги швейцарца Беата фон Муральта “Письма об англичанах и французах” (1725) с их проповедью естественности и простоты нравов и с присущей им большой долей “французоедства”.
В этом отношении любопытно убедиться на тематически близком примере в том, насколько культурно-исторические привязанности Галлера на деле были отвлечены и направлялись общериторической предзаданностью. Случилось так, что в своих текстах Галлер не так уж редко упоминает Россию49, куда в 1727 г. отправился его друг Иоганн Георг Гмелин (1709-1751), участник десятилетней сибирской экспедиции Петербургской Академии наук (1733-1743). Ему Галлер посвятил два стихотворения (в собрание стихотворений не включенных) — в 1725 г. напутственное стихотворение “отъезжающему в Москву другу” (30 строк), столь характерным образом начинающееся со слов: “Избранный друг! О половина моей жизни, на этом свете мы не свидимся с тобой” (в 1749 г. Гмелин все же вернулся в Тюбинген, и возможность свидеться еще была), а в 1752 г. — эпиграмму (помещенную в четвертом немецком издании описания путешествия в Сибирь). Эпиграмма Галлера читается так:
Zu den Gmelinischer Reisen
Wo Russlands breites Reich sich mit der Erde schliesset
Und in dem letzten West des Morgens March zerfliesset,
Wohin kein Vorwitz drang, wo Thiere fremder Art
Noch ungenannten Völkern dienten,
Wo unbekanntes Erzt sich für die Nachwelt spart
Und nie gepflückte Kräuter grünten,
Lag eine neue Welt, von der Natur versteckt,
Bis Gmelin sie entdeckt.
(“Там, где обширная империя России кончается с концом Земли / И граница Востока сливается с крайним Западом, / Там, куда не проникала и сама Любознательность, где животные неведомых видов / Служили безымянным еще народам, / Где неизвестная руда хранила себя для потомства и зеленели растения, / Не срываемые ничьей рукою, / Там лежал Новый свет, сокрываемый Природою, — / Пока Гмелин его не открыл”.)50 Это для Галлера весьма светлое по тону стихотворение, и Россия рисуется тут, скорее, благодатной для счастливого исследователя страной, географическое положение которой удивительно, коль скоро она простирается до самого края света. Однако в этом светлом тоне заглушены иные, более мрачные стороны, коренящиеся в тех же самых представлениях. В “Серенаде” в честь Георга II (1748) Галлер напоминал этому английскому монарху и немецкому герцогу, что по “его Эльбе” плывут тысячи мачт — в том числе “с холодной Ладоги, где пред Елизаветою склоняются сотни неведомых народов”51, — это внешне ничем не спровоцированное упоминание России по-своему ценно; какая-то идея возвышенно-колоссального связывалась у Галлера с Россией, как и у многих его современников, не исключая и самих русских, находившихся под огромным впечатлением петровских реформ, взятых с их идеальной стороны. Подобное упоминание Ладоги уже и в стихотворении 1725 г: “Тебя стремят западные ветры счастья к Ладоге на быстрых парусах”, — это крепкое присутствие в памяти Ладоги, естественно, восходит к событиям новейшей русской истории, к основанию Санкт-Петербурга; Ладога метонимически репрезентирует все становившиеся известными российские нововведения. Однако полагать, будто в мысли о России у Галлера косвенно “отразилась та мечта о неиспорченном мире, которая вдохновляла Галлера при создании поэмы «Альпы»”52, значит проявлять известное благодушие, потому что на деле Россия для Галлера есть, совсем напротив, страна неизвестного, неведомого и как бы обреченного на неизведанность. В Посвящении девятого издания стихотворений (1762) шведской королеве Ульрике Луизе, сестре Фридриха Великого, Галлер тоже без особой причины вспоминает о России, вводя сюда целый пассаж о ней:
“Достигни Петр обыкновенного предела человеческой жизни, и Истина — наиважнейшая из истин, Религия, — распространилась бы по всей наиобширнейшей империи света; суевериям, опирающимся на ребяческую надежду, на образы (т.е. иконы! — А.М.), на жесты (т.е. вообще обряды — А.М.), человекохищению, какие совершают бесполезные жилища затворников-бездельников, пришлось бы бежать подальше на юг под пронзительным взором мудрого монарха. Однако Провидение даровало великому орудию своему (исполнение — А.М.) лишь половины его желаний”53.
Все эти высказывания — в контексте рассуждений о том, сколь много полезного может принести народу даже одна царственная особа. Галлер в этой части Посвящения прибег к столь выспреннему стилю, что в одном месте текст, возможно, нуждается в расшифровке: “человекохищение” — это, конечно, пострижение в монахи, так что — весьма смелая персонификация! — жилища отшельников “крадут людей” у общества и государства, хочет сказать поэт, когда, постригаясь в монахи, люди делаются бесполезными для общества. Бросается в глаза то, что при чтении нейтральных текстов Галлера остается скрытым, — крайняя абстрактность просветительских представлений западного, вполне передового по своей мысли человека; абстрактность такова, что она нимало не интересуется культурой далекого и малоизвестного народа в ее цельности и существе, и абстрактность эта опасна, поскольку не остановится перед тем, чтобы разрушить это неведомое ей единство.
В конце жизни Галлер нашел время для того, чтобы написать три государственных, или государственно-политических романа, которые относятся ко вполне мыслимому тогда типу учения, излагаемого в романной форме. Все три романа, при одинаковой их структуре, в некотором смысле крайне архаичны и написаны в уединении ученого кабинета. Впрочем, все эти романы, несомненно, входят в широкий спектр создававшихся тогда в Германии весьма разнообразных по стилю и направлению “исторических” и политических романов. Вот их наименования — “Узонг” (“Usong”, 1771), “Альфред, король англосаков” (“Alfred, König der Angelsaxen”, 1773), “Фабий и Катон” (“Fabius und Cato”, 1774), — все они были своевременно переведены на русский язык54. Как можно видеть уже по вынесенным в заголовок именам, первый роман — из истории китайско-монгольской, второй — из истории древней Англии, третий — из истории римской. В каждом из них Галлер, стремясь к достаточно точной передаче реальных исторических событий, насколько они были известны ему по сочинениям историков, представил идеальный тип одной из трех мыслимых форм правления — 1) тирании (или абсолютной монархии), 2) умеренной (конституционной) монархии и, наконец, 3) республики, каждая из которых, в традиции Монтескье, соопределяется как наиболее подходящая одной из трех климатических зон Земли. В романах, в соответствии с таким замыслом, и нет критики разных политических систем, но лишь указывается на возможные в каждой из них извращения и злоупотребления, а также и на те соблазны, каких благополучно избегают герои этих романических хроник.
Начав в юности с дидактической поэзии, Галлер завершил свое литературное творчество дидактической прозой. В поздних нравоучительных повествованиях он сохраняет свой прежний идеал умеренной народной жизни. Идеал Галлера в политике — это правовое государство, причем вопрос о политическом устройстве такого государства не может быть предрешен, любое из известных устройств допускает установление подобной идеальности. Моральная же основа такой идеальности — это умеренность и создаваемое ею равновесие сил. Романы Галлера, по выражению Р. Невальда, “отпрыски барочных аллегорий”55. Это ничуть не мешает им быть повернутыми в сторону новых политических реальностей, в эпоху барокко еще и отдаленно не столь отчетливо просматриваемых.