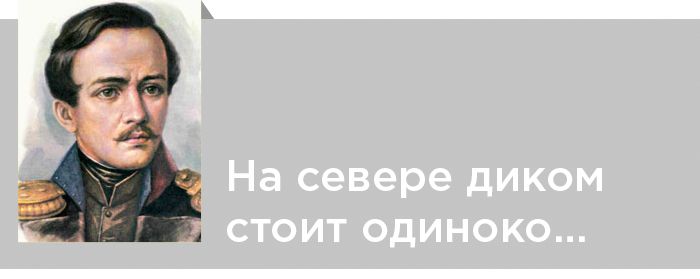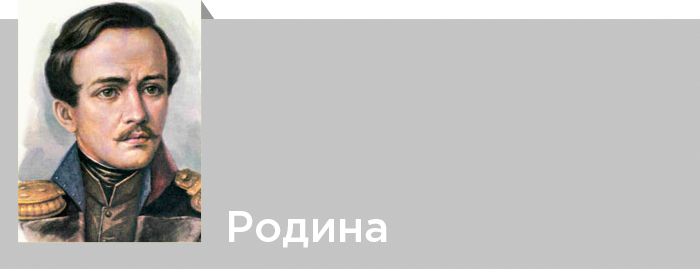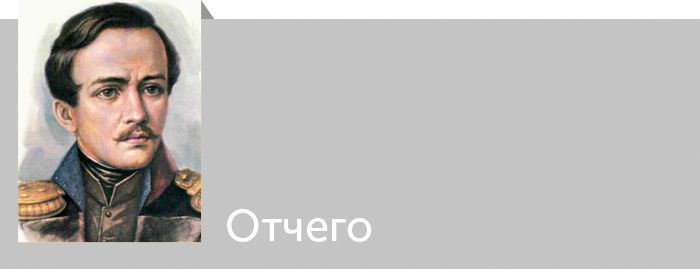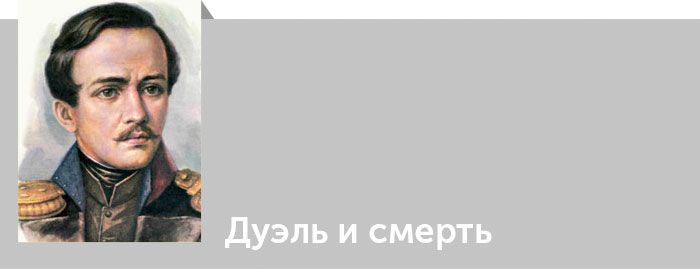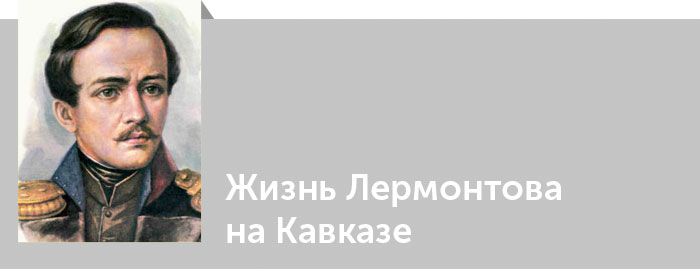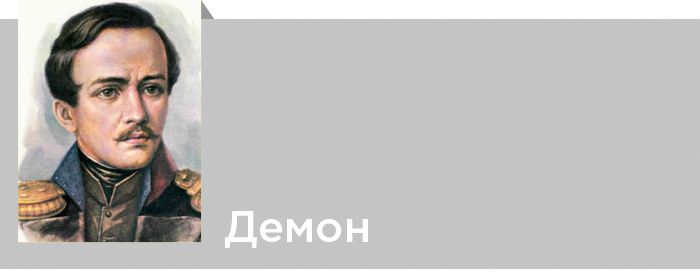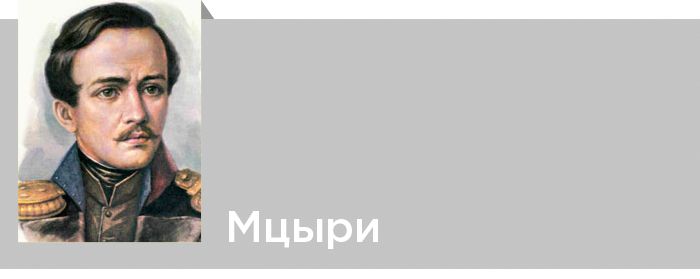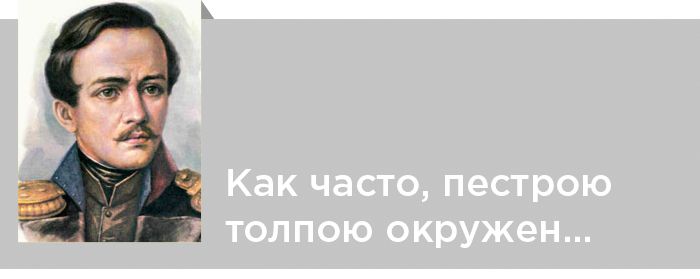Трагедийная тема в творчестве Лермонтова

Абрамович Г. Трагедийная тема в творчестве Лермонтова // Творчество М. Ю. Лермонтова: 150 лет со дня рождения, 1814—1964. — М.: Наука, 1964. — С. 42—75.
Г. АБРАМОВИЧ
Трагедийная тема
в творчестве Лермонтова
*
Если в изумительной гармонии пушкинской поэзии трагедийная тема звучит наряду и наравне с другими, то у создателя «Мцыри» и «Демона» она занимает преобладающее место и сообщает основной пафос его произведениям.
Социально-исторические истоки лермонтовского трагического мировосприятия известны. Они берут свое начало в сложившейся после декабря 1825 г. ситуации русской жизни. Вожди декабристов были повешены. Сто двадцать человек томились в «мрачных пропастях земли». Все сколько-нибудь связанные с восстанием и восставшими преследовались и ссылались. Командные высоты в николаевской России заняла та «дрянь александровского поколения», о которой писал Герцен и которая составила «жадную толпу, стоящую у трона, свободы, гения и славы палачей». Шла обычная жизнь «большого света», лишь еще более надменного и торжествующего в годы реакции, чем он был ранее. Лермонтов назовет его «важным шутом». Внизу же шла жизнь народа, политическое сознание которого еще не было разбужено, который не знал конкретных целей и путей борьбы за свое освобождение. Лучших сынов России 30-х годов окружали те обескровленные, серые людишки, о которых так горько и зло поэт сказал в «Думе». «Руку подать в минуту душевной невзгоды» поистине было некому. Поэтому и предавались передовые люди того времени скорбным раздумьям: о мучительном для них одиночестве, о незнании перспектив развития, о тягостной неволе. Поэтому трагически и звучал голос Лермонтова:
Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И как преступник перед казнью
Иду кругом души родной...
(II, 109)
Это трагическое сознание чрезвычайно обострило основную антитезу, раскрываемую поэтом в его творчестве: антитезу между мечтой о человеческом счастье и несчастьем в реальной действительности, между великой красотой жизни, земли, человека, творческого деяния, возвышенной любви, единения людей и безобразием «лика» современного ему мира, которое Лермонтов, предвосхищая в этом отношении Достоевского, так глубоко постиг. И чем сильнее становился порыв к прекрасному, тем суровее и горестнее был суд поэта над всем бесчеловечным, низменным, уродливым.
В «Журналисте, читателе и писателе» Лермонтов сам указывает на столь свойственные ему и взаимосвязанные друг с другом два различных состояния поэтического духа. На то состояние, когда
...с отвагою свободной
Поэт на будущность глядит,
И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и обмыт!..
(II, 149)
и на то состояние, когда
...Диктует совесть,
Пером сердитый водит ум.
Тогда, «неумолим» и «жесток», поэт «смело предает позору»
Приличьем скрашенный порок...
(II, 150)
Противоречие между все более определявшимся великим счетом Лермонтова к жизни и все более непримиримым отрицанием им господствовавших в тогдашнем мире человеческих отношений и обусловит силу и остроту проходящей через все его творчество трагедийной темы.
* * *
Страстное стремление поэта к красоте жизни и счастью людей сказалось еще в отроческие годы.
Уже тогда он писал о такой гармонии человеческого существования, при которой
...дружба дружбы не обманет,
Любовь любви не изменит.
(«К П........ну»,
I, 13)
Как и героя его юношеской драмы «Menschen und Leidenschaften» Юрия Волина, Лермонтова волнует и неизменно влечет к себе «прекрасная мечта земного, общего братства». Ему грезятся иное время и иные люди. Он пишет в «Отрывке» 1830 года:
Наш прах лишь землю умягчит
Другим, чистейшим существам.
Не будут проклинать они;
Меж них ни злата, ни честей
Не будет. — Станут течь их дни,
Невинные, как дни детей;
Меж них ни дружбу, ни любовь
Приличья цепи не сожмут,
И братьев праведную кровь
Они со смехом не прольют!..
(I, 114)
Но поэт не ограничится песнопением будущему. С годами все пристальнее и глубже всматриваясь в жизнь и людей, он будет радостно отмечать все прекрасное, с чем встретится, что увидит.
В отличие от Жуковского, Лермонтову было чуждо «очарованное там». Его влекло к себе многокрасочное и многозвучное великолепие земли, — то «земное упоенье», которое он противопоставлял отнюдь не пленявшей его «небесной красоте» («К другу»). Недаром впоследствии он вместе со своим Мцыри решительно откажется от «рая и вечности» и будет готов променять их на несколько сладостных минут «между крутых и темных скал», где проходили его детские игры. Если же и говорить о вечной, нетленной красоте, то опять-таки о красоте земли и человека (как и Горький, Лермонтов мог бы назвать себя геофилом и антропофилом!). Об этом он пишет в незабываемом стихотворении «Выхожу один я на дорогу», пишет измученный, стремящийся «забыться и заснуть», но заснуть так, чтобы в этом сне «дремали жизни силы», чтобы вечно ласкало и радовало то прекрасное, что есть в человеческой жизни и природе. Этот же мотив звучит и во входящей в поэму «Мцыри» «Песне рыбки».
Воспевая красоту Земли, поэт создает чудесные разнообразные пейзажи.
То его манит бурная, мятежная стихия: «Как я любил твои бури, Кавказ! те пустынные громкие бури, которым пещеры как стражи ночей отвечают!..» («Синие горы Кавказа, приветствую вас!» — II, 26), то влекут к себе суровые бескрайние степные просторы:
Как нравились всегда пустыни мне.
Люблю я ветер меж нагих холмов,
И коршуна в небесной вышине,
И на равнине тени облаков.
Ярма не знает резвый здесь табун,
И кровожадный тешится летун
Под синевой, и облако степей
Свободней как-то мчится и светлей.
(«1831-го июня 11 дня», I, 181)
То чарует поэта гармоническое спокойствие природы, о котором он с такою силой написал и в памятном каждому с детских лет стихотворении «Когда волнуется желтеющая нива», и в «Герое нашего времени».
Остро чувствуя многообразное великолепие земли, природы, Лермонтов столь же проникновенно останавливался на самых различнейших проявлениях красоты человеческого духа, творческого деяния, подлинно человеческих отношений.
Высочайшим образцом человека и человеческого был для Лермонтова Пушкин. Лермонтов любовно отмечает в Пушкине те черты, которые и делают его великим примером для всего человечества: присущий ему «дивный гений», «свободный смелый дар», совершенное постижение людей и их жизни, служение обществу.
С неменьшей любовью писал Лермонтов и об А. И. Одоевском. Конечно, несоизмеримы дарования Одоевского и Пушкина и несоизмеримы их свершения, но разве не пленяют в Одоевском его великие человеческие надежды, его стремления к «поэзии и счастью», его пусть еще «незрелые, темные вдохновения», «блеск его лазурных глаз», «звонкий детский смех», «вера гордая в людей и жизнь иную».
О такой красоте человека-творца, жизнелюбца и человеколюбца, ощущающего свою связь с человечеством и свою ответственность перед ним, Лермонтов писал во многих произведениях. Характерно, что и себя самого он прежде всего оценивал именно с этой стороны. Клеймя в «Думе» жалкое поколение банкротов, которое не оставит потомкам «ни мысли плодовитой, ни гением начатого труда», Лермонтов с достоинством говорил о себе еще с отроческих лет:
...мой дух бессмертен силой,
Мой гений веки пролетит...
(«Дереву», I, 135)
Или:
Я чувствую — судьба не умертвит
Во мне возросший деятельный гений...
(«Унылый колокола звон»,
I, 254)
В стансах «1831-го июня 11 дня» он написал незабываемые строки:
Мне нужно действовать, я каждый день
Бессмертным сделать бы желал, как тень
Великого героя, и понять
Я не могу, что значит отдыхать.
(I, 183)
С такой же силой утверждает Лермонтов свободолюбие. Он обращается к образам далеких предков, вспоминает когда-то вольные Новгород и Псков, приветствует французских революционеров, создает поэтические образы борцов за вольность, начиная от образа «последнего сына вольности» Вадима и кончая чудесным образом Мцыри.
А какой диапазон в изображении прекрасного в «обыкновенных», как их называют, людях! Простой, гуманнейший
Максим Максимыч, самозабвенная в своей любви Бэла, гордые и неукротимые характеры кавказских персонажей «Тамани», люди несгибаемой воли, высокого человеческого достоинства, широкого великодушия — такие, как Степан Парамонович Калашников, русские воины-богатыри, сражавшиеся под Бородином.
Любовь Лермонтова к жизни и людям особенно была связана у него с животворящим чувством родины. Когда он говорит о чем-либо ему дорогом, близком, то лучшим для него будет сравнение со «сладкою песнью отчизны».
Отсюда живой интерес поэта к русскому устному народному творчеству. Еще в 1830 г. он писал в одной из своих заметок: «...если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях» (VI, 387).
Живой интерес проявляет Лермонтов к «древним российским стихотворениям», собранным Киршей Даниловым, восторженно воспринимает пушкинские произведения, созданные на фольклорной основе, и сам пишет ряд произведений, которые берут истоки в русском народном творчестве («Русская мелодия», «Русская песня», «Атаман», «Воля», «Казачья колыбельная песня», «Песня про купца Калашникова» и др.).
Все яснее осмысливая величие и силу русского народа, Лермонтов делает в год своей смерти такую запись:
«У России нет прошедшего: она вся в настоящем и будущем. Сказывается сказка: Еруслан Лазаревич сидел сиднем 20 лет и спал крепко, но на 21 году проснулся от тяжелого сна — и встал и пошел... и встретил он тридцать семь королей и 70 богатырей и побил их и сел над ними царствовать... Такова Россия» (VI, 384—385).
Вершиной поэтических раздумий Лермонтова о России и русском народе явилась его «Родина», которая послужила основанием для проникновенных добролюбовских слов: «Лермонтов... обладал, конечно, громадным талантом и, умевши рано постичь недостатки современного общества, умел понять и то, что спасение от этого ложного пути находится только в народе»1.
Особое место в царстве прекрасного занимает у Лермонтова любовь. Разработка этой темы в его поэзии имеет романтический характер, сама же тема исполнена глубокого символического значения. Как для поэта, так и для многих героев его произведений в образе любимой слилось вое лучшее, к чему стремится человек, в этом образе — «отрада бытия». Мир без любимой — «храм без божества». Эта формула, зазвучавшая еще в «Вадиме», пройдет в различных, но чрезвычайно близких друг к другу вариациях через лермонтовское творчество, завершившись обращением Демона к Тамаре:
Что без тебя мне эта вечность?
Моих владений бесконечность?
Пустые звучные слова,
Обширный храм — без божества!
(IV, 203)
Лермонтовские стихи о любви исполнены, если так можно сказать, какого-то максимализма духа, могучего устремления к прекрасной жизни и прекрасным людям. Александр Блок писал в своем «Демоне»:
В томленьи твоем исступленном
Тоска небывалой весны...2
Именно такая тоска свойственна Лермонтову и с наибольшей силой сказывается в его любовной лирике.
Романтический и символический характер этой лирики особенно отчетливо выявляется в стихотворении «Как часто пестрою толпою окружен...». Поэт говорит об огромном мире красоты, который заключен в его душе и связан с его мечтой о любимой. «Наружно погружась в ... блеск и суету» светского общества, поэт всей силой своей мысли и своего чувства уходит в этот грезящийся ему мир.
И странная тоска теснит уж грудь мою;
Я думаю об ней, я плачу и люблю,
Люблю мечты моей созданье
С глазами, полными лазурного огня,
С улыбкой розовой, как молодого дня
За рощей первое сиянье.
Так царства дивного всесильный господин —
Я долгие часы просиживал один,
И память их жива поныне
Под бурей тягостных сомнений и страстей,
Как свежий островок безвредно средь морей
Цветет на влажной их пустыне.
(II, 137)
В другом стихотворении («Из-под таинственной холодной полумаски») Лермонтов также пишет, что он создал в «воображении по легким признакам красавицу мою» и что ее образ он носит в своем сердце, «ласкает и любит».
Если поэт и испытывает живое обаяние красоты встречавшихся на его жизненном пути женщин, то и в этом случае мысль и чувство обращают его к тому же «бесплотному виденью». Об этом он пишет в стихотворении «Нет, не тебя так пылко я люблю...», посвященном, по свидетельству П. А. Висковатого3, Софье Михайловне Соллогуб (урожденной Виельгорской).
1
Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.
2
Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором:
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.
3
Я говорю с подругой юных дней;
В твоих чертах ищу черты другие;
В устах живых уста давно немые,
В глазах огонь угаснувших очей.
(II, 214)
Правда, текст данного стихотворения заставляет нас предположить, что речь идет о какой-то определенной девушке, которую поэт любил когда-то и которую унесла безжалостная смерть («уста давно немые», «угаснувшие очи»). Однако реальных оснований для этого нет. Приводимое в этой связи Б. М. Эйхенбаумом одно из ранних лермонтовских стихотворений («Болезнь в груди моей и нет мне исцеленья...»)4, в котором, по его предположению, говорится якобы о смерти любимой поэтом девушки, во-первых, не содержит прямых на это указаний, а во-вторых, по признанию и самого исследователя, никак не проясняет вопрос о том, кого имел в виду Лермонтов под «подругой юных дней». Гораздо больше данных предположить, что и в этом случае, как и в ряде других подобных, главным было выражение — иногда в различных условных формах — пафоса романтической любви.
Может быть, легче достигнуть понимания всей специфики и всего исключительного значения для лермонтовской поэзии темы любви, если соотнести друг с другом два поэтических высказывания Лермонтова: одно из самых ранних и одно из самых поздних.
В записке, датированной с предельной точностью — «1830 года, 8 июля. Ночь», Лермонтов писал о своей первой любви:
«Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду?
Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. — К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет 9. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет. Но ее образ и теперь еще хранятся в голове моей; он мне любезен, сам не знаю почему... О! сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум!.. Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне, мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу; не поверят ее существованью — это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность — нет; с тех пор я ничего подобного не видал, или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз... И так рано! в 10 лет... о эта загадка, этот потерянный рай до могилы будут терзать мой ум!.. иногда мне странно, и я готов смеяться над этой страстию! — Но чаще — плакать» (VI, 385—386).
К этой записке сделано красноречивое примечание: «Говорят (Байрон), что ранняя страсть означает душу, которая будет любить изящные искусства. — Я думаю, что в такой душе много музыки. — » (VI, 386).
Вряд ли эта записка требует пояснений. Огнивом первого зародившегося чувства была высечена та искра, из которой и вспыхнет пламя неугасимой (романтической по ее характеру) любви поэта. Как настойчиво хочет уверить Лермонтов в существовании своей белокурой девочки, как больно ему какое-либо сомнение в ее реальности, как, наконец, оказались связанными с нею любовь, красота, счастье и как она поэтому стала для него «потерянным раем». А между тем, чему можно было не верить? Не «легким признакам», конечно (белокурым волосам, голубым глазам, быстрым, непринужденности), а тому, видимо, что стояло для поэта за ними и что досказывало, создавало творческое воображение.
Второе поэтическое признание Лермонтова, о котором я выше упомянул, сделано им в последний год его жизни, сделано как-то со стороны, в эпическом повествовании, и в то же время очень лично, лирически. Оно окончательно разъясняет романтический характер и символическое звучание темы любви у Лермонтова, связывая воедино все устремления поэта к добру, истине, красоте, счастью и выражая ту «тоску небывалой весны», о которой писал Блок.
В отрывке из начатой повести «У граф. В... был музыкальный вечер» («Штосс») Лермонтов так передает красоту представшего перед Лугиным видения и вызванный этим видением в герое повести могучий подъем всех сил человеческого существа: «То было чудное и божественное виденье: склонясь над его плечом, сияла женская головка; ее уста умоляли, в ее глазах была тоска невыразимая... она отделялась на темных стенах комнаты, как утренняя звезда на туманном востоке. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземного, никогда смерть не уносила из мира ничего столь полного пламенной жизни: то не было существо земное — то были краски и свет вместо форм и тела, теплое дыхание вместо крови, мысль вместо чувства; то не был также пустой и ложный призрак... потому что в неясных чертах дышала страсть бурная и жадная, желание, грусть, любовь, страх, надежда, — то была одна из тех чудных красавиц, которых рисует нам молодое воображение, перед которыми в волнении пламенных грез стоим на коленях и плачем, и молим, и радуемся, бог знает чему — одно из тех божественных созданий молодой души, когда она в избытке сил творит для себя новую природу, лучше и полнее той, к которой она прикована» (VI, 365).
Таковы смысл и сила великого жизнеутверждающего пафоса Лермонтова. Земля, жизнь, люди в их красоте и величии предстают в лермонтовской поэзии. Он воспевает прекрасную природу, творческое вдохновение гения, возвышенные человеческие деяния, человеческое братство, любимую им родину, русский народ, великое будущее человечества.
Однако, как об этом уже было сказано, мечта о прекрасном, все более разгоравшаяся в сознании Лермонтова, столкнулась с уродливой действительностью представшего перед его глазами «страшного мира», составившего мучительную для поэта антитезу его мечте и определившего закономерность трагедийного начала его творчества.
* * *
Чем светлее были мечты Лермонтова о красоте жизни и счастье людей, тем болезненней ощущал поэт потрясающие диссонансы современного ему мира.
«Музыка моего сердца была совсем расстроена нынче», — признавался юноша-поэт в одной из своих заметок 1830 г. (VI, 385). А в стихотворении «1831-го января» уже прямо отрекался от столь противоположного его духовному состоянию «света»,
Где носит всё печать проклятья,
Где полны ядом все объятья,
Где счастья без обмана нет.
(I, 175)
Пройдут годы, и в «Герое нашего времени» Лермонтов устами Печорина скажет о своем раннем осознании противоречия между его мечтой об истинно человеческой жизни и той жизнью, к какой он временем и обстоятельствами был прикован: «В первой молодости моей я был мечтателем: я любил ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мне беспокойное и жадное воображение. Но что от этого мне осталось? — одна усталость, как после ночной битвы с привидением, и смутное воспоминание, исполненное сожалений» (VI, 343).
Какой же мир предстал перед взором поэта, так мечтавшего о свободе, красоте, счастье, творчестве, любви? Если, как говорилось, Лермонтов еще в юношеские годы, вместе со своим Юрием Волиным, мечтал о человеческом братстве на земле, то вместе с ним же он страдальчески ощущал, что в современном ему обществе массы людей находятся в положении «брошенных бесприютных созданий».
Пристально вглядываясь в «лик мира сего», поэт отмечает самые различные проявления человеческого отвержения, бесприютности, порабощения.
Прежде всего его внимание привлекает жизнь социальных низов, особенно многомиллионного русского крестьянства. В драме «Menschen und Leidenschaften» немало говорится об истязаниях крестьян: мужчин, дворовых девушек и даже крестьянских детей. А в романтической драме «Странный человек» перечисляются самые истязания: вывертывание рук, выщипывание бород и т. п.
Один из героев этой драмы — Белинский выразительно подчеркивает ужасающее бесправие русского крепостного крестьянина. «Несчастные мужики! — восклицает он. — Что за жизнь, когда я каждую минуту в опасности потерять все, что имею, и попасть в руки палачей!» (V, 236). Недаром в повести «Вадим» Лермонтов прямо пишет о невыносимом положении крестьян, которое и переполнило чашу народного гнева в годы пугачевского восстания. Помещик Палицын, перебирая в памяти крестьян, на верность которых он мог бы положиться, не может вспомнить ни одного, кого бы он смертельно не обидел.
Задолго до Некрасова, Щедрина, Достоевского обращается Лермонтов и к беднякам города. Его внимание привлекают и та страшная нищета, за которую, как впоследствии будет говорить в «Преступлении и наказании» Мармеладов, «и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой», и спутница этой нищеты — проституция.
Образы нищих и увечных показаны поэтом в его юношеской повести «Вадим». Сказав, что «это были люди, отвергнутые природой и обществом (только в этом случае общество согласно бывает с природой)», Лермонтов далее продолжает: «это были люди, погибшие от недостатка или излишества надежд, олицетворенные упреки провидению; создания, лишенные права требовать сожаления, потому что они не имели ни одной добродетели, и не имеющие ни одной добродетели, потому что никогда не встречали сожаления.
Их одежды были изображения их душ: черные, изорванные. Лучи заката останавливались на головах, плечах и согнутых костистых коленах; углубления в лицах казались чернее обыкновенного; у каждого на челе было написано вечными буквами нищета! — хотя бы малейший знак, малейший остаток гордости отделился в глазах или в улыбке!» (VI, 7—8).
Образ проститутки создается поэтом в стихотворении «Склонись ко мне, красавец молодой!» Рассказывается о безрадостном детстве, об омуте разврата, в который неизбежно погружается бедная девушка, проданная еще малолетней «по воле злой судьбы» сластолюбцу. Ужас ее положения особенно подчеркивается строчками, передающими силу и красоту ее чувства к возлюбленному. Конечно, это лишь первое постижение бесчеловечия и уродства жизни в современном поэту городе. Но от этого стихотворения потянутся нити к образу подруги поэта в некрасовском стихотворении «Еду ли ночью» и к «Убогой и нарядной», к представшему во сне Мичулина («Запутанное дело» Салтыкова-Щедрина) образу его жены, к Сонечке Мармеладовой Достоевского, к толстовской Катюше Масловой.
Наряду с социальными париями рисуются Лермонтовым и так называемые маленькие люди, бедные труженики. Как и Гоголь, Лермонтов глубоко постигает и по достоинству оценивает печальную судьбу бедных чиновников, вербуемых из разночинцев и обедневших дворян.
В набросанном в 1830 г. сюжете трагедии поэт писал: «Молодой человек в России, который не дворянского происхождения, отвергаем обществом, любовью, унижаем начальниками (он был из поповичей или из мещан, учился в университете и вояжировал на казенный счет). — Он застреливается» (VI, 375). Такой трагедии создано не было, но отдельные мотивы задуманного можно найти в образе бедного чиновника Красинского из «Княгини Лиговской».
Правда, Красинский — дворянин, а не разночинец. Но, как можно думать, Лермонтов сделал его обедневшим дворянином по тем же причинам, что и Гоголь своего Поприщина: с целью острее выявить больное, ущемленное сознание человека, достоинство и права которого попраны. Ожесточенная отповедь Красинского Печорину — это протест бедняка против мнимых преимуществ людей, имеющих рысаков, белые султаны, золотые эполеты.
Чрезвычайно ощутимо выступает бедность Красинского в описании петербургской трущобы, где живет этот бедный чиновник. Оно предвосхищает позднейшие описания «петербургских углов» — чердаков и подвалов многими русскими писателями середины прошлого столетия:
«49 нумер, и вход со двора! Этих ужасных слов не может понять человек, который не провел по крайней мере половины жизни в отыскивании разных чиновников, 49 нумер есть число мрачное и таинственное, подобное числу 666 в Апокалипсисе. Вы пробираетесь сначала через узкий и угловатый двор, по глубоком снегу, или по жидкой грязи; высокие пирамиды дров грозят ежеминутно подавить вас своим падением, тяжелый запах, едкий, отвратительный, отравляет ваше дыхание, собаки ворчат при вашем появлении, бледные лица, хранящие на себе ужасные следы нищеты или распутства, выглядывают сквозь узкие окна нижнего этажа. Наконец, после многих расспросов, вы находите желанную дверь, темную и узкую, как дверь в чистилище; поскользнувшись на пороге, вы летите две ступени вниз и попадаете ногами в лужу, образовавшуюся на каменном помосте, потом неверною рукой ощупываете лестницу и начинаете взбираться наверх» (VI, 170—171).
С грустной и едкой иронией отмечает Лермонтов стремление бедных людей завоевать себе почетное место в обществе путем обогащения. Печорин видит на столе Красинского книгу, которую тот достал по просьбе своей матери, пекущейся о благополучии сына: «„Легчайший способ быть всегда богатым и счастливым“ сочинение Н. П. Москва, в тип. И. Глазунова, цена 25 копеек» (VI, 172). Эта книжка вызывает улыбку Печорина, сравнивающего ее с пустым лотерейным билетом, обманутой мечтой, несбыточной надеждой. Пути к утверждению своего достоинства, к истинно человеческой жизни бедные люди тогда не знали. Гоголевский Поприщин мог утвердить свою любовь, свое право на счастье лишь в фантасмагории, вообразив себя Фердинандом VIII. Щедринскому премудрому пескарю в более позднее время будет сниться, что он выиграл по выигрышному билету двести тысяч, вырос на поларшина и сам щук глотает. Условия времени порождали такие неизбежные противоречия. Недаром впоследствии А. М. Горький напишет, что «по условиям времени „маленький человек“ Девушкин стремится и может выползти только в большие хищники, в эксплуататоры, в лицемеры и фарисеи, вроде, например, Губонина или — в лучшем случае — вроде И. Д. Сытина»5.
Конечно, пафос изображения Красинского заключался у Лермонтова не в обнажении двойственной социальной природы «бедных людей» (как это будет иметь место в таких произведениях, как «Двойник» Достоевского или тот же «Премудрый пескарь» Щедрина), а в протесте против «брошенности и бесприютности» человека. Но знаменательно, что обратившись к теме бедного чиновника, Лермонтов увидел, как противоречия современного ему общественного развития определяют не только горестные судьбы бедных людей, но и деформацию человеческих характеров.
Наряду с социальным неравенством поэт видит в современном ему мире отверженные и порабощенные народы.
В трагедии «Испанцы» (1830) Лермонтов с горячим сочувствием (и опять-таки первый в русской литературе) пишет о положении еврейского народа.
Его Ноэми говорит:
Гонимый всеми, всеми презирает
Наш род скитается по свету: родина,
Спокойствие, жилище наше — всё не наше.
(V, 53)
В центре пьесы — судьба Фернандо. Несчастный найденыш, он болезненно ощущает свое одиночество:
...совсем, совсем забытый сирота!..
В великом божьем мире ни одной
Ты не найдешь души себе родной!..
Питался я не материнской грудью
И не спал на ее коленях....
(V, 15)
Однако когда он находит свою семью, его положение становится еще более мучительным оттого, что родители
Фернандо — евреи. С темой человеческого бесправия связана и развязка трагедии: осуждение Фернандо на казнь и обрушившиеся на его отца несчастья.
Пафос трагедии передан во вставленной в нее «еврейской мелодии»:
Плачь, Израиль! о плачь! — твой Солим опустел!..
Начуже в раздольи печально житье;
Но сыны твои взяты не в пышный предел:
В пустынях рассеяно племя твое.
(V, 76)
Столь же тягостно и унизительно для человека, как и его национальная дискриминация, положение раба. Лермонтов показывает в поэме «Сашка» плененного, а затем проданного в рабство свободного жителя Гвинеи, которого его господин назвал Зафиром.
Мотив «брошенности» и «бесприютности» звучит и в этом образе. Если Фернандо «совсем, совсем забытый сирота», то, как пишет Лермонтов, «никто, никто не думал о Зафире». Правда, Зафир свыкся с Сашей, безмолвно исполняет его приказания, но разве может он быть счастливым в неволе, забыть свою родину, близких ему людей?
Поэт расскажет о днях, когда и Зафир на берегу Гвинеи
Имел родной шалаш, жену, пшено
И ожерелье красное на шее,
И мало ли?... О, там он был звено
В цепи семей счастливых!..
(IV, 92)
Но «родина и вольность» были у него отняты, — он пробудился в «железных цепях» среди блеска, шума и звона чужих и непонятных ему городов.
То, что пристальное внимание Лермонтова к различным проявлениям социального и национального бесправия людей было отнюдь не случайным или эпизодическим, свидетельствует ряд набросанных поэтом творческих планов. Можно привести, например, такие записанные Лермонтовым в 1830 г. сюжеты:
«В Америке (дикие, угнетенные испанцами. Из романа французского Аттала)» (VI, 374).
«Прежде от матерей и отцов продавали дочерей казакам на ярмарках как негров: это в трагедии поместить» (VI, 375).
«(Ecrire une tragédie: Néron» — VI, 379).
Таковы свершения и замыслы Лермонтова, посвященные изображению «лика» современной ему жизни. Социальные парии, бедные люди, порабощенные и отверженные народы, рабы... Враждебный человеку и человеческому мир!..
Мы уже говорили о мучительной для поэта антитезе: красота, добро, счастье, светлая мечта о «земном общем братстве» и, с другой стороны, ужасы и уродства человеческой жизни, порожденные господствовавшими тогда общественными отношениями. Осознание этого породило великое отрицание Лермонтовым всего современного ему зла, породило и его могучее устремление к иной, лучшей действительности. Противоречие между силой лермонтовского романтического прорыва в будущее и казавшимися еще в то время незыблемыми основами господствовавшего строя жизни и определило трагедийное звучание творчества поэта.
* * *
Рождение трагической темы в лермонтовском творчестве относится к ранней юности поэта. Уже тогда смутно вырисовался образ, которому будет суждено сопутствовать Лермонтову на всем протяжении его пути, конкретизируясь, поворачиваясь новыми и новыми сторонами, наполняясь новым содержанием.
В одной из своих записей 1830 г. Лермонтов сообщал: «Я помню один сон; когда я был еще 8-ми лет, он сильно подействовал на мою душу. В те же лета я один раз ехал в грозу, куда-то; и помню облако, которое небольшое, как бы оторванный клочок черного плаща, быстро неслось по небу: это так живо передо мною, как будто вижу» (VI, 386).
Трудно, конечно, сказать, какие ассоциации вызвал у Лермонтова-ребенка этот клочок черного облака, — да это и не нужно. Важно представить себе, с чем связывался он позднее в произведениях поэта вплоть до последней редакции «Демона», где для обозначения трагедии человеческого отщепенства вновь возникает воспоминание о хранимом с детских лет образе:
Так ранней утренней порой
Отрывок тучи громовой,
В лазурной вышине чернея,
Один, нигде пристать не смея,
Летит без цели и следа,
Бог весть откуда и куда!
(IV, 205)
Как зерно таит в себе богатства будущих всходов, так поразивший воображение Лермонтова образ летящего в пространстве черного «отрывка» тучи породит в его произведениях многочисленные и многообразные ассоциации с трагическими явлениями в человеческой жизни.
В мире человеческого отвержения, порабощения, «брошенности» люди светлого ума и горячего сердца трагически осознают свое одиночество, свою духовную бездомность6.
По ранним произведениям Лермонтова можно судить о том, что он уже тогда ясно представлял себе связь осознания возвышенной личностью трагизма своего существования с общим пониманием ею всего неустройства человеческой жизни в современном мире. В «Жалобах турка» (1829) он говорит о тяжкой для людей жизни, о доставшихся им в удел рабстве и цепях. В этих условиях если и
...являются порой
Умы и хладные и твердые как камень,
противостоять давящей силе окружающего мира они не в состоянии:
...мощь их давится безвременной тоской,
И рано гаснет в них добра спокойный пламень.
(I, 49)
Душевные страдания возвышенного человека, осознающего царящее вокруг него зло, показаны и в драме «Странный человек».
Характерно самое название драмы, указывающее на ее главную тему: «Странный человек». В жизни, исполненной ужасающей тирании, пошлости, низменных страстей, эгоистических расчетов, Владимир Арбенин с его чистой, прямой душой предстает одним из тех чудаков, образы которых так красноречиво свидетельствовали о бесчеловечии окружающей их среды и трагизме положения подлинно человечного человека.
Конечно, ни в какой мере нельзя поставить незрелое произведение юноши-поэта в один ряд с такими предшествующими ему и последующими за ним произведениями, как «Дон-Кихот» Сервантеса, пушкинский «Бедный рыцарь», «Идиот» Достоевского и «Идиот» Келлермана, «Чудак» Назыма Хикмета и т. п. Но важно, что смысл и значение образа Владимира Арбенина для самого Лермонтова заключались именно в трагическом положении человечного человека в бесчеловечных условиях жизни тогдашней крепостнической и самодержавной России.
Можно сослаться на одну из сцен «Странного человека».
Крестьянин села, помещица которого, подобно Салтычихе, истязала «крещеную собственность», приходит к Белинскому с просьбой от всех крестьян, чтобы он купил их и тем самым вызволил из беды. Присутствовавший при Этом разговоре Арбенин проклинает счастье и богатство, купленное «кровавыми слезами». Но в то же время, имея в виду себя и себе подобных, он говорит Белинскому, что «есть люди, более достойные сожаленья, чем этот мужик». Это — люди, которые подвержены не внешним падающим на них несчастьям, а в самих себе носят причины своих страданий. Белинский, не постигая связи этих внутренних страданий с общим положением вещей, упрекает Арбенина в эгоизме, в подмене истинных несчастий химерами.
Но Арбенин, а вместе с ним и сам Лермонтов так ответит Белинскому на поставленный последним вопрос: «Можно ли сравнить свободного с рабом?» — «Один раб человека, другой раб судьбы. Первый может ожидать хорошего господина или имеет выбор — второй никогда. Им играет слепой случай, и страсти его и бесчувственность других, всё соединено к его гибели» (V, 236—237).
В условиях крепостнического и самодержавного господства, торжествующей реакции, законов жизни, устанавливаемых «важным шутом», безвременья, все углублявшегося процесса духовного обескровливания дворянской молодежи все больше и все сильнее звучат у Лермонтова трагические мотивы одиночества и отщепенства.
Вот несколько красноречивых признаний:
Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить.
Делить веселье — все готовы: —
Никто не хочет грусть делить.
(«Одиночество», I, 95).
Я одинок над пропастью стою,
Где все мое подавлено судьбою;
Так куст растет над бездною морскою,
И лист, грозой оборванный, плывет
По произволу странствующих вод.
(«К***», I, 312)
Как в ночь звезды падучей пламень
Не нужен в мире я.
(«Как в ночь звезды падучей
пламень...», II, 20)
Наряду с такими ранними признаниями звучат и подобные им позднейшие. Так, можно указать на поэму «Мцыри», в которой стремление к родине и родным душам, счастью, высокой красоте жизни и человека слито все с тем же мучительным чувством заброшенности и бесприютности. Эта тема возникла ранее не только в таких непосредственных «предшественниках» «Мцыри», как «Исповедь» или «Боярин Орша», но и в таком внешне будто никак не связанном с гениальной поэмой стихотворении, как «Спеша на север из далека», написанном в 1837 г. Внутренний пафос в нем тот же, что и в «Мцыри»: великое утверждение красоты жизни и человека и скорбное ощущение невозможности осуществления этой красоты при господствовавших тогда условиях. Такой пафос характерен для лермонтовской поэзии ее последнего, высочайшего по художественным свершениям периода.
Лермонтов написал:
Но есть еще одно желанье!
Боюсь сказать! — душа дрожит!
Что если я со дня изгнанья
Совсем на родине забыт!
Найду ль там прежние объятья?
Старинный встречу ли привет?
Узнают ли друзья и братья
Страдальца, после многих лет?
Или среди могил холодных
Я наступлю на прах родной
Тех добрых, пылких, благородных,
Деливших молодость со мной?
О если так! своей метелью,
Казбек, засыпь меня скорей
И прах бездомный по ущелью
Без сожаления развей.
(II, 103—104)
Горький сказал о природе лермонтовского пессимизма веские, точные слова: «...Пессимизм в творчестве Лермонтова действенное чувство, в этом пессимизме ясно звучит презрение к современности и отрицание ее, жажда борьбы и тоска, и отчаяние от сознания одиночества, от сознания бессилия. Его пессимизм весь направлен на светское общество»7.
Столкновение мечтателя, грезящего о «земном, общем братстве», с законами и проявлениями жизни «света» и всего тогдашнего господствующего миропорядка составляло главную причину нарастания пессимистических мотивов в поэзии Лермонтова. Непреодолимые для его современников враждебные для человеческого развития общественные условия горестно отмечаются и в «Смерти поэта» (1837), и в поэтической эпитафии А. И. Одоевскому
(1839), и в датированном 1 января 1840 г. стихотворении «Как часто, пестрою толпою окружен...», и в написанных тогда же едких и горьких строках «Благодарности», и в стихах последнего года жизни — «Графине Ростопчиной», «Пророке» и ряде других.
Ощущение Лермонтовым одиночества было связано у него, как уже говорилось, с пафосом отрицания господствующих тогда форм общественной жизни. Это и придавало его пессимизму тот действенный характер, о котором писал Горький, но, конечно, ничуть не ослабляло трагизма темы «брошенности» и «бесприютности».
Видя в современном ему мире дружбу, изменяющую дружбе, любовь — любви, видя социальное бесправие, порабощенные и отверженные народы, всякое и всяческое подавление человечности, Лермонтов настойчиво подчеркивал трагизм существования людей в распадшемся на отдельные атомы обществе, трагизм человеческого разъединения. Некоторые строки уже приводились, к ним можно было бы добавить немало других, столь же выразительных. Но достаточно, пожалуй, припомнить замечательную поэтическую формулу Лермонтова, звучащую как общий грустный итог наблюдений и раздумий поэта:
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?
(«Валерик», II, 172)
Как бы ни было сложно, а подчас и противоречиво отношение Лермонтова к войне, его взгляд на вражду человека к человеку, определяемый возвышенной мечтой об «иных чистейших существах», оставался неизменным и оплодотворил дальнейшее русское литературное развитие. Лермонтов рассказал о страшном сражении при Валерике такими словами, смысл и тон которых отзовутся позднее в «Севастопольских рассказах» Л. Толстого и ряде других последующих произведений:
...Вон кинжалы,
В приклады! — и пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили.
Хотел воды я зачерпнуть...
(И зной и битва утомили
Меня), но мутная волна
Была тепла, была красна.
(II, 171)
С трагедией человеческого разъединения в его различных и многообразных формах связана у поэта и трагедия человеческой несвободы, обескровливающей людей, деформирующей их характеры.
Еще в 1830 г. в «Песне барда», перенося читателя в тяжелое время татарского ига, юноша-поэт скорбно говорит о людях, забывших о свободе или не знавших ее вовсе:
Вдруг кто-то у меня спросил:
«Зачем я часто слезы лью,
Где человек так вольно жил?
О ком бренчу, о ком пою?»
Пронзила эта речь меня —
Надежд пропал последний рой...
(I, 146)
Близкие мотивы звучат и в юношеских обращениях поэта к теме Новгорода, к его ушедшей в прошлое величавой вольности.
Если вначале эти и подобные им мотивы непосредственно соотносились с воспоминаниями о разгромленном декабрьском восстании, то затем они приобретают общее и многостороннее значение для современного поэту общества.
Тяжесть цепей поэт все сильней и сильней ощущает и в повседневных проявлениях светской жизни, в которой нивелируется все яркое и самобытное и накладывается запрет на сильное чувство и мысль. Отсюда — проходящая через всю поэзию Лермонтова тема плена. То поэт пишет в «Желании» («Зачем я не птица...», 1831) о своем стремлении вырваться из неволи и «одну лишь свободу любить», то в другом стихотворении «Желанье» («Отворите мне темницу...», 1832) хочет «посмотреть поближе» «на жизнь и волю», от которых он трагически отчужден. То в стихотворении «Узник» (1837) поэт уподобит себя заключенному в темнице, к которому приставлен часовой и от которого безнадежно далеки и «красавица младая», и «добрый конь», и вообще вся красота и раздолье жизни, то в «Соседке» будет писать, что «тюремные дни будто годы», а в «Пленном рыцаре» прямо скажет, что освобождение от неволи ему может дать только смерть.
С этим перекликается один из основных мотивов поэмы-трагедии «Мцыри». Лермонтов создал в ней грандиозный символ человеческого порабощения — монастырь. В нем подавляется все: желание, ум, любовь, красота. Человек в монастыре должен отрешиться от своей воли, от своей жизни, но он рожден «для воли», а не «для тюрьмы» и жить в ней не может. Об этом говорит и эпиграф к поэме, и вся исповедь послушника.
Свобода Лермонтовым рассматривалась в различных аспектах. Помимо уже сказанного Лермонтов включал в понятие свободы и наличие жизненных условий, благоприятных для осуществления великих человеческих возможностей.
Конечно, в современных ему обстоятельствах общественной жизни поэт не находил и тени воплощенного гуманизма, который только и мог быть почвой для всего истинно человеческого. Поэтому Лермонтову, как и Гоголю, приходилось «проповедовать любовь враждебным словом отрицанья».
Он рано постиг враждебность человеку господствовавших общественных отношений и невозможность при их господстве свободного развития в людях лучших человеческих качеств, способностей, дарований. Еще пятнадцатилетним мальчиком он писал:
Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?
(«Монолог», I, 65)
Через два года эта мысль особенно сильно и остро была выражена в стихотворении «Унылый колокола звон».
Я чувствую — судьба не умертвит
Во мне возросший деятельный гений;
Но что его на свете сохранит
От хитрой клеветы, от скучных наслаждений,
От истощительных страстей,
От языка ласкателей развратных
И от желаний, непонятных
Умам посредственных людей?
Без пищи должен яркий пламень
Погаснуть на скале сырой...
(I, 254)
Последние две строчки — замечательная формула, раскрывающая всю глубину и остроту понимания Лермонтовым бесчеловечия господствующего в современном ему обществе порядка, его прямой враждебности человеческому развитию, определявшей поистине трагическое положение лучших людей тогдашней эпохи.
Не находят себе «пищи» ни лермонтовский Мцыри, который «вкусил мало меду», ни Пророк, в которого все ближние «бросали бешено каменья», ни — непосредственно — и сам поэт, пишущий в стихотворении «Благодарность» про «жар души, растраченный в пустыне», а в стихотворении, посвященном графине Ростопчиной, — что «нас обманули те же сны».
Характерно для активного отношения Лермонтова к действительности то обстоятельство, что ощущение им в себе «возросшего деятельного гения», с одной стороны, и непреодолимых для него препятствий, с другой, имело своим следствием осознание поэтом трагизма для людей не только господства неблагоприятных жизненных условий, но и бессилия самих этих людей перед лицом жизни, судьбы, истории. Эта мысль, как известно, позднее зазвучит в русской литературе у Чехова (с особенной отчетливостью в драме «Иванов»), а затем, в начале XX в., в «Возмездии» Блока. Теперь, в наши дни, в условиях жизни Советской страны, благоприятных для всестороннего человеческого развития, проблема ответственности человека за свою жизнь, деяния, поведение приобрела невиданную еще в истории значимость. Тем бо́льшая заслуга Лермонтова, в далекое от нас время с такой силой выдвинувшего эту проблему.
В прямой форме трагедия человеческого бессилия предстала в поэме «Мцыри». Герой поэмы говорит не только об обманутых надеждах, об отнятом у него счастье, о неосуществившемся в неблагоприятных для него условиях праве на подлинно человеческую жизнь, противостоящую монастырской неволе, но и о том, что «заслужил» свою трагическую судьбу. Выступает, если так можно сказать, «норма» героического характера, берущего на себя все бремя поступка и чувствующего себя ответственным за все проявления и следствия своего жизненного поведения.
Да, заслужил я жребий мой!
Могучий конь в степи чужой,
Плохого сбросив седока,
На родину издалека
Найдет прямой и краткий путь...
Что я пред ним? Напрасно грудь
Полна желаньем и тоской:
То жар бессильный и пустой,
Игра мечты, болезнь ума.
(IV, 165—166)
Знаменательно, что Лермонтова так привлекали люди-борцы, не склоняющие головы ни перед какой опасностью, ни перед какой силой — даже перед самой смертью («Баллада», повествующая о русском воине, который умирает, но не склоняется перед врагом, герой поэмы «Последний сын вольности», героическая солдатка из «Вадима», безымянный герой «Бородина», образы вольных горцев с «душою — желающей, южной, с цепями судьбы незнакомой» и, конечно же, вдохновенное воплощение высоких черт русского национального характера — Степан Парамонович Калашников), и так были презираемы трусы, не находящие в себе сил и решимости для борьбы за «честь и вольность», забывшие «свой долг и стыд», как, например, Гарун из «Беглеца».
Враждебный характер господствовавших тогда общественных отношений человеческому развитию раскрывался не только в современной Лермонтову трагедии человеческого гения («Смерть поэта», «Как часто пестрою толпою окружен», «Оправдание», «Пророк») или в трагедии героического («Мцыри», «Памяти А. И. Одоевского»), но и в такой разновидности трагедии человечески-возвышенного, как трагедия «чудака».
О теме чудачества выше уже было упомянуто в связи со «Странным человеком». Владимир Арбенин с его стремлением к высокой и чистой любви и дружбе, болезненно воспринимающий всякую фальшь, всякий неверный звук в человеческих отношениях, почитается в окружающей его среде сумасшедшим, как о нем и говорят отдельные действующие лица драмы, странным человеком, как обозначено в названии драмы и как выразительно говорит об этом один из гостей: «Я надеюсь, ваш Арбенин не великий человек... он был Странный человек! вот и все!» (V, 274).
Поэтический комментарий к «странности», «сумасшествию», «чудачеству» мы находим в потрясающих строках из стихотворения «Я к вам пишу: случайно! право...». После уже приведенного нами рассказа о страшной битве при Валерике, запруженном телами ручье, мутной теплой красной волне, — Лермонтов обращается в конце своего послания к его адресату (В. А. Лопухиной):
Но я боюся вам наскучить,
В забавах света вам смешны
Тревоги дикие войны...
..........................
Теперь прощайте: если вас
Мой безыскусственный рассказ
Развеселит, займет хоть малость,
Я буду счастлив. А не так? —
Простите мне его как шалость
И тихо молвите: чудак!..
(II, 173)
Так, в конце своего безвременно оборванного пути Лермонтов сам ставит себя в ряд с героями своих юношеских произведений — мечтателями, «чудаками», «странными людьми», грезившими о человеческом братстве на земле и болезненно ощущавшими дисгармонию современного им мира.
Лермонтовым был пройден большой путь. За десятилетие поэт стал сдержаннее в изъявлении своих чувств, — «горестные заметы» сердца сочетались с «холодными наблюдениями» ума, и последние произведения поэта уже далеки от подчас романтически-сентиментальной фразеологии произведений раннего периода. Но существо мыслей и чувств Лермонтова осталось прежним. И как много поэтому разъясняют в природе трагических мотивов последнего периода лермонтовского творчества пламенные признания героя юношеской драмы «Menschen und Leidenschaften» его другу: «Помнишь ли ты Юрия, когда он был счастлив...? Лучшим разговором для меня было размышленье о людях. — Помнишь ли, как нетерпеливо старался я узнавать сердце человеческое, — как пламенно я любил природу, как творение человечества было прекрасно в ослепленных глазах моих? Сон этот миновался, потому что я слишком хорошо узнал людей...» (V, 148). И несколько ниже: «Без тебя у меня не было друга, которому мог бы я на грудь пролить все мои чувства, мысли, надежды, мечты и сомненья... Часто я во мраке ночи плакал над хладными подушками, когда вспоминал, что у меня нет совершенно никого, никого, никого на целом свете — кроме тебя, но ты был далеко. Несправедливости, злоба — всё посыпалось на голову мою, — как будто туча разлетевшись упала на меня и разразилась, а я стоял как камень — без чувства. По какому-то машинальному побуждению я протянул руку — и услышал насмешливый хохот — и никто не принял руки моей — и она обратно упала на сердце... Любовь мою к свободе человечества почитали вольнодумством — меня никто после тебя не понимал» (V, 148—149).
Вспоминаются в этой связи стихи А. Блока, столь созвучные Лермонтову:
Было время надежды и веры большой —
Был я прост и доверчив, как ты.
Шел я к людям с открытой и детской душой,
Не пугаясь людской клеветы...
А теперь — тех надежд не отыщешь следа,
Все к далеким звездам унеслось.
И к кому шел с открытой душою тогда,
От того отвернуться пришлось8.
(«Ты твердишь, что я холоден,
замкнут и сух...»)
* * *
Духовное уединение человека вело к индивидуализму. Бывший мечтатель начинал, подобно Демону, «жить для себя, скучать собою». Речь шла о трагедии поколения. «Без пищи» угасал «яркий пламень», «руку подать в минуту душевной невзгоды» было некому, избавления от неволи и несчастья не виделось: не находил путей к свободе и родным душам Мцыри, томился и ждал, как свою освободительницу, смерть пленный рыцарь. Создавалась почва для ухода в себя, для великих разочарований, для холодного, ожесточающего раздумья.
Однако гениальный русский поэт отнюдь не ограничился сочувственным изображением трагедии «страдающего эгоизма». Он, хотя и не сразу, глубоко проник во враждебную человеку сущность и такого эгоизма, и потому тема индивидуализма у Лермонтова получила чрезвычайно широкий смысл, остроту и значительность.
Эпоха Лермонтова знаменовалась тем, по-гегелевски говоря, «состоянием мира», когда развивался, в связи с ростом капиталистических отношений, «холодно-ужасный эгоизм», о котором писал наш Гоголь (VIII, 12), когда грандиозным симптоматическим явлением становился пушкинский Германн, когда цинично выступал в его всемогуществе мир богатства, низменных меркантильных расчетов. В силу этого раскрытие проявлений индивидуалистического сознания, почвы, на которой оно вырастает, трагизма его для подлинно человечного человека приобрело огромное значение для всей прогрессивной литературы буржуазной эпохи. Отсюда известная двуплановость лермонтовской разработки темы индивидуализма. С одной стороны, поэту близко и понятно вынужденное духовное уединение мечтателя, «мощь» которого «давится безвременной тоской» и в котором «рано гаснет... добра спокойный пламень». С другой стороны, поэту враждебны всякие проявления эгоизма, жизни «для себя». Поэтому хотя Лермонтов в юношеские годы и сам отдавал дань индивидуализму, он в конечном счете придет к ясному пониманию его антигуманистического существа, его злой силы, что так отчетливо предстанет в образах Демона и Печорина.
То рассмотрение индивидуалиста как человека, считающего себя целью, а остальных средством по отношению к ней, которое первоначально зазвучало в образах пушкинских Алеко и Онегина, именно у Лермонтова получит предельно острое выражение. Его Демон восклицает:
Что повесть тягостных лишений,
Трудов и бед толпы людской
Грядущих, прошлых поколений,
Перед минутою одной
Моих непризнанных мучений?
(IV, 206)
Таков масштаб индивидуализма Демона: на одной доске все человечество во всех его поколениях и со всеми его трудами и бедами, на другой — одна минута непризнанных мучений его, Демона.
Вместе со своим Демоном отрицая жизнь, лишенную «истинного счастья» и «долговечной красоты», жизнь, в которой «преступленья лишь да казни», Лермонтов в то же время раскрывает двойной трагизм индивидуализма своего героя: для него самого и для других людей.
Как мы уже вспоминали, именно Демон сравнивает себя с тем «отрывком тучи громовой», чернеющим в лазурной вышине, который так поразил воображение Лермонтова. Отверженный, гонимый, живущий для себя и скучающий собой, он ощущает как проклятие свое отпадение от целого, от гармонии жизни, от того «земного упоенья», которому сам поэт посвятил такие проникновенные стихи. Для Демона, замкнувшегося в себе и своих страданиях, мир стал «глух и нем». Он говорит о своей бессменной печали, которая
...то ластится, как змей,
То жжет и плещет, будто пламень,
То давит мысль мою, как камень —
Надежд погибших и страстей
Несокрушимый мавзолей!...
(IV, 206)
Хотя, по признанию Лермонтова, он в конечном счете и «отделался» от Демона стихами, понимание поэтом трагизма его сознания, сочувствие в этом отношении своему герою остаются, как думается, в полной силе. «Отделался стихами» Лермонтов от другого.
Уже прямо предвосхищая существеннейшие мотивы в теме индивидуализма, как она предстанет у авторов «Воскресения» и «Братьев Карамазовых», Лермонтов создает в поэме «Демон» знаменательную антитезу: Демон и Тамара.
Для Демона Тамара — средство к его возрождению и счастью:
Меня добру и небесам
Ты возвратить могла бы словом.
Твоей любви святым покровом
Одетый, я предстал бы там,
Как новый ангел в блеске новом...
(IV, 202)
Возрождение Демона может осуществиться только ценою гибели Тамары:
Увы! злой дух торжествовал!
Смертельный яд его лобзанья
Мгновенно в грудь ее проник...
(IV, 211)
Напротив, любовь Тамары не знает эгоизма. Ее цель — облегчить муки «беспокойного страдальца», как она называет Демона, вернуть его «добру». Она вся порыв к самоотвержению и самопожертвованию. И потому дается апофеоз:
Ценой жестокой искупила
Она сомнения свои...
Она страдала и любила —
И рай открылся для любви!
(IV, 216)
Полезно вновь обратиться к Блоку, сумевшему, на мой взгляд, в его поэтической интерпретации темы Демона, проникнуть в самую глубь лермонтовского осуждения индивидуализма, который является психологической почвой для преступления, так как раз я — цель, а другие — средства для меня, то по отношению к ним «все позволено».
Блоковский Демон зовет Тамару лететь с ним туда, «где кажется земля звездою, землею кажется звезда», «покорной и верною» его «рабой», говорит о том, что ее «ужас бесполезный» будет «лишь вдохновеньем» для него.
И под божественной улыбкой,
Уничтожаясь на лету,
Ты полетишь, как камень зыбкий,
В сияющую пустоту...9
(«Демон»)
Конечно, у писателей второй половины XIX в., в первую очередь у Л. Толстого и Достоевского, постижение связи между философией индивидуализма и философией преступления скажется в новых и различных вариациях, но тем не менее оно полностью сохранит то основное свое значение, которое столь глубоко было осознано Лермонтовым и с такою художественной точностью передано в «Демоне» Александра Блока.
Если грандиозные символы лермонтовского «Демона» и могли бы еще вызвать какие-либо разноречивые толкования, то непосредственное выражение близких «Демону» идей в «Герое нашего времени» устраняет всякие сомнения по этому поводу.
Печорин уже прямо заявляет, что он рассматривает других людей лишь в отношении к себе, к своим интересам и целям. «Я чувствую в себе эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости других только в отношении к себе, как на пищу, поддерживающую мои душевные силы. Сам я больше неспособен безумствовать под влиянием страсти; честолюбие у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось в другом виде, ибо честолюбие есть не что иное, как жажда власти, а первое мое удовольствие — подчинять моей воле все, что меня окружает; возбуждать к себе чувство любви, преданности и страха — не есть ли первый признак и величайшее торжество власти?» (VI, 294).
Поэтому-то, как и подчеркивается Лермонтовым, определяется губительное для людей вторжение Печорина в их жизнь. Рассмотрение других людей лишь как материала, средства для себя неизбежно определяет попрание их интересов и счастья. Гибнет Бэла, разбито сердце княжны Мери, разрушена жизнь «честных контрабандистов», провоцируются на преступления Казбич и Азамат, страдает от холодности и равнодушия Печорина добрейший Максим Максимыч.
Свою страшную роль в чужой жизни сознает и сам Печорин. Вот уезжают герои «Тамани» — «ундина» и Янко, оставлена на произвол судьбы старуха, долго-долго плачет слепой мальчик, — и Печорин в связи с этим пишет: «Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие, и как камень едва сам не пошел ко дну!» (VI, 260). Накануне дуэли с Грушницким Печорин пробегает в памяти все прошедшее: «...сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы! Как орудье казни, я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаленья...
Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил; я любил для себя, для собственного удовольствия...» (VI, 321). Не менее выразительно говорит Печорин о себе, плетя сеть интриги вокруг княжны Мери: «Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние. Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя» (VI, 301).
Конечно, и Печорин, как и Демон, многогранен. В нем и «силы необъятные», и могучее отрицание пошлости, и страстная жажда подлинно человеческой жизни. Но сейчас речь идет не обо всем этом (о чем в свое время так хорошо писал Белинский), а о том поистине трагическом перерождении мечтателя, который, по собственному его признанию, «был готов любить весь мир», но под влиянием обстоятельств стал индивидуалистом, живущим только собою и для себя.
Так через все творчество Лермонтова прошла трагедийная тема. Сознание поэта неизменно хранило возникший еще в детские годы образ чернеющего в лазури обрывка грозового облака, летящего без цели и не оставляющего следа. Какие различные поэтические ассоциации рождались и развивались в связи с этим образом: отверженные люди, несчастные, обманутые дружбой или любовью, «чудаки», «радужные мечтатели», перерождающиеся в индивидуалистов и становящиеся, по точному выражению Белинского, «страдающими эгоистами».
Некоторые из таких или подобных им мотивов звучали, несомненно, и у других писателей лермонтовского времени и не только в России. Но дело не только в изображении различных проявлений «страшного мира», но и в том масштабе, с которым подходил к этому миру поэт. Таким масштабом были «земное общее братство», высокая творческая жизнь людей, мировая гармония. Поэтому-то с такой силой и страстью и раскрывался трагизм нарушения этой гармонии.
И у Лермонтова, как и у Пушкина, формировалась и утверждалась великая русская мысль о всемирном счастье людей, о таком устройстве жизни всего человечества, которое освободит его от корысти, измен, угнетения, преступлений.
Этот пафос лермонтовской поэзии придает особый колорит разработке любой ее темы. И говоря о звучащем в этой поэзии трагизме, о мотивах скорби, одиночества и даже смерти, мы можем с полным правом отнести к Лермонтову сказанные по другому поводу проникновенные слова Блока:
Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!10
(«О, я хочу
безумно жить... »)
Сноски
1 Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 2. М.—Л., 1962, стр. 263.
2 Александр Блок. Собр. соч. в восьми томах, т. 3. М.—Л., 1960, стр. 26.
3 См.: П. А. Висковатый. М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. М., 1891, стр. 326—327.
4 См. комментарии Б. М. Эйхенбаума к т. 2. Полн. собр. соч. М. Ю. Лермонтова. «Academia», 1936, стр. 245.
5 «Правда», 8 августа 1936 г., № 217.
6 Именно с духовной бездомностью как одним из решающих в его поэзии условий трагического преимущественно ассоциируется у Лермонтова тот «отрывок тучи громовой», который поразил его детское воображение и с которым на всю недолгую жизнь поэта оказалась связанной трагедийная тема в его творчестве. Случаи соотнесения с этим «отрывком тучи» человеческой отверженности по занимаемому человеком месту в жизни, по его внешнему положению единичны. Можно, например, указать на строки, посвященные в поэме «Сашка» уже упомянутому арапу Зафиру, потерявшему родину и вольность и очутившемуся в положении жалкого раба среди непонятных ему городов:
Так облачко, оторвано грозою,
Бродя одно под твердью голубою,
Куда пристать не знает; для него
Все чуждо — солнце, мир и шум его...
(IV, 92)
7 М. Горький. История русской литературы. М., 1939, стр. 165 («Архив А. М. Горького», т. I).
8 Александр Блок. Собр. соч., т. 3, стр. 156.
9 Александр Блок. Собр. соч., т. 3, стр. 61.
10 Александр Блок. Собр. соч., т. 3, стр. 85.