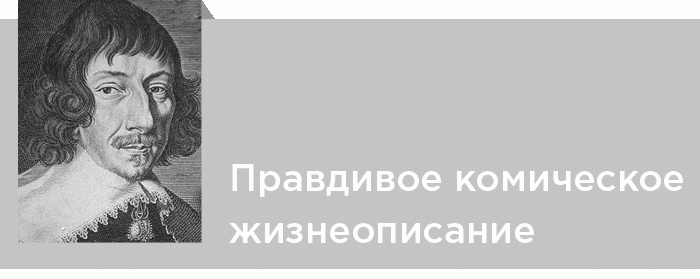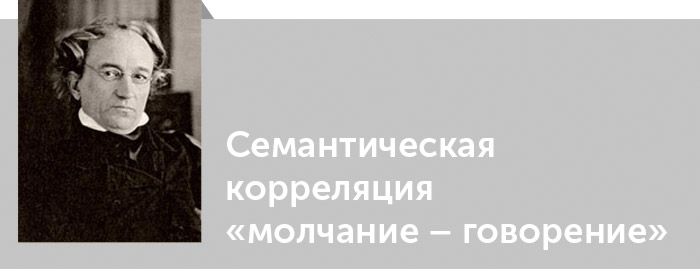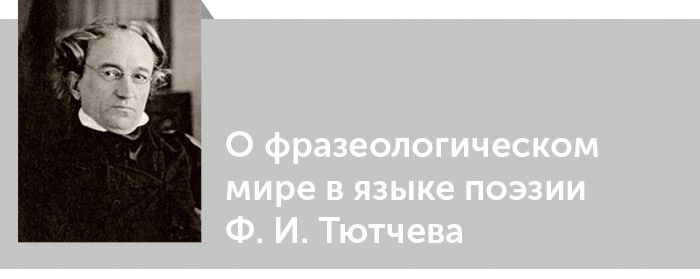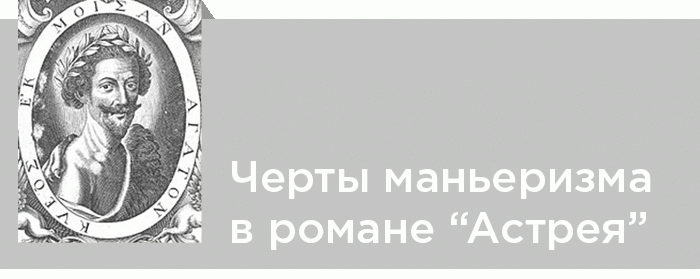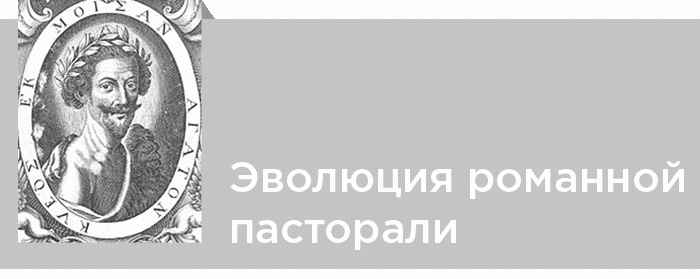О своеобразии антипасторальности «Сумасбродного пастуха» Сореля
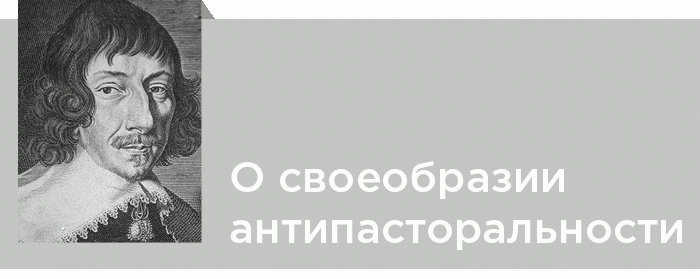
Л.Я. Потемкина
За романом французского писателя-либертина Шарля Сореля «Сумасбродный пастух» (1627-1628) прочно утвердилась репутация литературной пародии на «Астрею» д’Юрфе. Возникшие в последнее время отдельные уточняющие определения этого произведения («деревенский роман», «бурлескный роман»), не подкрепленные анализом, по существу, не изменили устоявшейся в литературоведении его традиционной дефиниции, как и спекулятивные домыслы модернистов, обыгрывающие название романа в издании 1633 года: «Антироман, или История пастуха Лизиса». Вместе с тем и полное полемическое программное название произведения как в первом, так и во втором изданиях, которым почти всегда пренебрегали, и многословные авторские поясняющие «Remarques», раскрывающие замысел, до сих пор основательно не исследованные, наконец, сам роман красноречиво свидетельствует, что «Сумасбродный пастух» задуман и осуществлен отнюдь не как простая литературная пародия на роман д’Юрфе. Это полемическое новаторское произведение вольнодумного писателя, вызванное к жизни острой идейно-эстетической борьбой 20-30-х годов XVII в., представляет собою сложное, значительное явление в истории французского «комического романа», заслуживает специального исследования.
«Сумасбродный пастух» появился одновременно с двумя последними частями пасторального романа д’Юрфе «Астрея», опубликованными секретарем писателя Баро. Это произведение Сореля, ценимое его современниками не меньше, чем «Франсион», увидело свет в литературной атмосфере бурного увлечения романом д’Юрфе и пасторалью во всех ее разновидностях: стихотворных, драматических, прозаических. Уже первые произведения Сореля свидетельствуют, что вольнодумный писатель весьма настороженно и критически относится к модным веяниям в литературе светского барокко.
Острые выпады Сореля против «трагических историй», воинственная защита «комических», вся внутренняя полемика с традиционной стихией возвышенного и поэтического во «Франсионе» (1623) таили в себе тот пародийно-полемический пыл, который выльется в замысел и особый жанровый облик «Сумасбродного пастуха» как антипасторального произведения. Совершенно закономерно, что вольнодумный писатель не мог пройти мимо «Астреи», одного из наиболее значительных и влиятельных пасторальных романов. Позднее Буало отметит, что успех романа д’Юрфе «так воспламенил «les beaux-esprits», что они в подражание ему сделали множество подобных...». Имя Селадона надолго вошло в европейские языки как синоним изысканно-галантного влюбленного.
Однако не только «Астрея» была повинна в распространении буколической моды. Издания и переиздания итальяно-испанских пасторалей, буколические романы Камю, драматические пасторали, многочисленные стихотворные «bergeries», эклоги, пасторальные балеты наводнили французское искусство, заставили даже сурового Малерба написать стихотворение от имени пастуха, «разыгрывать, — как выразился Ю.Б. Виппер, — роль Селадона». Сегре иронически отмечал, что любое представление стали называть пасторалью, а у Мольера даже непросвещенный господин Журден с раздражением замечает своему учителю музыки: «И что это всегда пастушки? «Вечно одно и то же!»
Этот пасторальный литературный потоп, освещенный античным происхождением жанра, обладал большой силой идеологического воздействия. Буколическая литература проповедовала определенный образ жизни, давала, как некогда «Амадис», «уроки галантности», отнюдь не призывая действительно жить в деревне и пасти стада, а рекомендуя идиллическое пасторальное времяпрепровождение на лужайках дворцовых парков.
Буколический культ «тихой жизни и благородного отдыха» (douce vie, un honneste repos), пытавшийся заменить военно-рыцарские идеалы, выражал характерный для пастушеской утопии отказ от жизни в обычной современной обстановке, прославлял идилличное существование, выражал ностальгию по пастушескому «золотому веку».
Во французской пасторали, далекой от неискушенной буколичности мира героев Лонга, более отчетливо, чем в итальяно-испанской, сложилась тенденция воплощать в пастухах принцев и принцесс, знать, относить действие к далекому прошлому. Пасторальные идеалы культивировала прежде всего дворянская элита, постоянно стремящаяся поэтизировать, возвышать себя, смотреться в зеркало идеализированного литературного портрета. Это стремление «казаться» рано подметил д’Обинье, создавший образ Фенеста, саркастически высмеял Ситонь как характерную черту французских дворянских нравов.
В 20-е годы XVII в. моделью знати служит пастушество «Астреи» и многочисленных подражаний д’Юрфе, позже — галантная героика «Великого Кира» (1649-1653) и «Клелии» (1654-1661) Мадлен Скюдери. (Впрочем, значительно позднее Мария Антуанетта тоже разыгрывала из себя царственную пастушку на лужайке малого Трианона). Но так как «вся Франция жаждала стать дворянской», в подражание ей те, кто был ее «тенью», пережили это увлечение, желая приобрести изысканную светскость: пасторальное поветрие захватило и недворянские круги.
Это великолепно подметил и осмеял Сорель, сделав своего центрального героя — «сумасбродного пастуха» — сыном парижского купца с улицы Сен-Дени, задолго до Мольера наметив тему «Мещанина во дворянстве», предваряя «Смешных жеманниц» (1659) в принципе двойного сатирического адресата, высмеивая карикатурное подражание светским образцам. Сорель в нелепом и смехотворном герое, захотевшем «быть» галантным пастухом и для этого неукоснительно выполняющем пасторальные предписания буквально, издевается и над теми, кто хочет «казаться» «berger» в маскараде светской жизни. Автор «Сумасбродного пастуха», как и д’Обинье, Мари де Гурне, Ренье, неодобрительно относится к увлечениям придворного мира, который осудил во «Франсионе» (1623), ядовито осмеял в одной из своих сатир, направленной против желания дворян «казаться» героями и полубогами. Писателя-либертина волновало и литературное засилие пасторали, и ее огромное и широкое воздействие на современные ему нравы.
Среди многочисленных буколических произведений, очень часто ремесленных, эпигонских, насыщенных сюжетными штампами и стилистическими клише, «Астрея» д’Юрфе — несомненно одно из самых значительных произведений. Этот роман стал «хрестоматией галантной цивилизации», сводом правил светского поведения. Знатоки нравов полагают, что в период 1625-30-х годов особенно явно стало модным «жить, как пастухи «Астреи», пользоваться их именами, вести беседы, чувствовать и выражать чувства так, как герои этого романа. В этой атмосфере литературного и жизненно-бытового увлечения «Астреей» и шире — пасторалью — Сорель создает произведение, где безжалостно развенчивает буколические кумиры, соединив воедино нравоописательную и литературно-эстетическую задачи. Писатель-либертин не испытывал личной неприязни к д’Юрфе или к какому-нибудь другому автору пасторали («Замечания» позволяют определить широкий круг осмеиваемых произведений), не имела места и литературная распря (Сорель оговаривал это и в «Предисловии», и в «Remarques» к произведению).
Он боролся не с автором «Астреи» или другим буколическим писателем (сорелевское суждение в «Замечаниях» о д’Юрфе достаточно почтительно и справедливо), а с идейно-эстетическими основами пасторального жанра, с его засилием в литературе и с воздействием на нравы.
В «Предисловии» Сорель раскрывает замысел своего произведения, ссылаясь на желание принести «l’utilité publique» тем, что покажет губительность воздействия вымыслов романа, его «вздора» на молодых людей, специально не вспоминает роман д’Юрфе. Подчеркивает писатель и литературно-критическую направленность своего творения, которое призвано «насмехаться над другими». Прибегая к названию трактата Фокана «Могила романов» (1626), Сорель воинственно заявляет: «Моя книга — могила роману и поэтической чепухе». Он пишет в предисловии, что хочет «пролить свет, (mettre au jour) на абсурдность романов», что его герой — «верная копия большого числа сумасбродов».
Литературно-критическая направленность сорелевского произведения возникает как следствие главной его задачи: осмеять реальную черту нравов эпохи — несостоятельность подражания романам, которое казалось ему вредным и опасным. Писатель-либертин исходил из представления об огромной воспитательной силе литературы, о большой ответственности писателя. Он полагал, что многочисленные романы вселяют превратные представления о подлинной жизни, что они оторваны от реальной действительности. Позднее Сорель напишет, что роман «полон ложных мыслей, совершенно негодных для того, чтобы им следовать в жизни». Он сетует на то, что «молодые люди, попав под воздействие романных вымыслов, наивно ждут, чтобы им, как героям романов, предложили управлять провинцией, или они окажутся сыновьями короля». Сорель высказывает глубоко плодотворную мысль о том, что роман нужно писать для тех, кто будет жить в обществе людей и поэтому должен знать, что в нем действительно происходит. Он остро ощущал неумолимое противоречие, которое возникало между прекраснодушными возвышенно-утопическими идеалами модных романов светского барокко и суровой, лишенной всякой идилличности реальностью Франции первых десятилетий XVII в. с ее общественными брожениями, смутами, социальными сдвигами.
Автор хотел, чтобы романы действительно помогали молодым людям, не знающим жизни, разбираться в реальных ее сложностях: этому был посвящен «Франсион», своеобразная история молодого человека начала XVII столетия. В иной художественной форме, но тем же идейно-эстетическим пафосом — предостеречь от ложных книжных увлечений, Далеких от реальности, приблизить к ее постижению — пронизан и «Сумасбродный пастух».
Замысел этого романа проступил уже в «Комической истории Франсиона», в мотиве воздействия книжных вымыслов на молодого человека. Он прозвучал в исповеди Франсиона, где герой анализировал свои духовные искания (4 кн.), признаваясь: «стародавние фантазии... так засорили мне мозги, что я принял все вымыслы поэтов за чистую монету и представлял себе леса населенными друидами и сильванами, источники — наядами, а море — нереидами. Я даже посчитал за правду все рассказы про метаморфозы...». В «Сумасбродном пастухе» этот проходной для «Франсиона» мотив критики «романического» становится центральным, несет и нравоописательную, и воинственно литературно-критическую, и философскую функции. От «Франсиона» тянутся нити и к литературно-критическому пафосу «Сумасбродного пастуха»: 5-я кн. зло осмеивала увлечения литераторов. Откликнулся Сорель в 10-ой кн. «Франсиона» и на буколическую моду, введя откровенно-полемический с высокой пасторалью эпизод «пастушества» героя, который не только обрисовывает рёальные занятия Франсиона как деревенского пастуха, но и его любовные похождения, далекие от платонических заповедей любви Селадона. Есть в 5-ой кн. «Франсиона» и ироническое беглое упоминание о воздействии «Астреи» — писатель говорит об одной «новейшей моде» на ткани «цвета подвязок Селадона».
В новом произведении Сорель значительно шире критикует многие пасторальные мотивы романа д’Юрфе, воздействующие на нравы, хотя не только «Астрея», в отличие от эпизода «мещанского романа» Фюретьера, станет объектом подражания героя «Сумасбродного пастуха». Авторские примечания раскрывают многообразные истоки нелепых представлений и сумасбродств героя — от античных до Депорта: это вычурные и сложные метафоры, нелепые вымыслы, несуразности, противоречащие разуму. Заглавие книги в первом издании не содержит в себе прямого указания на пародирование «Астреи», а название издания
Сам писатель во «Французской библиотеке» (1664) признавался, что это его произведение — «сатира против романов и некоторых поэтических произведений — настоящий антироман», главным объектом критики писателя было не одно какое-то конкретное произведение, как часто полагают, а поэтика романического жанра его эпохи. Модная пастораль с ее идиллическими буколическими декорациями, возвышенными героями, занятыми любовью и «беседами», ее миром нимф, наяд, друид, таинственных метаморфоз и приключений аккумулировала ненавистное писателю «эпическое», поэтому он ее избирает в качестве основного, о не единственного источника безумств героя — «сумасбродного пастуха», который цитирует и подражает не только пасторали, но и любовной лирике и роману. Опекун главного героя, рассказывающий историю своего подопечного, в его поведении не пастораль, а все романы. Своеобразие замысла «Сумасбродного пастуха», раскрытое в программных заглавиях его, в «Предисловии», в «Замечаниях» делает его не литературной сатирой на конкретное произведение, а сатирико-критическим обзором «романической» линии развития литературы от античности до современника Сореля Депорта, для которой характерен возвышенный вымысел, условность, необычное и даже чудесное, особая романическая действительность, непохожая на повседневную реальность. Модная пастораль, вобравшая в себя античные и ренессансные образцы, клише и трафареты, подчеркнуто отдаленная от реальной современности, естественно оказалась тем ближайшим эстетическим противником, на которого обрушился автор «Сумасбродного пастуха», противник «romanesques».
В «Предисловии» Сорель называет «Сумасбродного пастуха», как и «Франсиона», — «историей». Писатель постоянно думал о создании «комической» антиномии возвышенным жанрам, о параллелизме их систем. Это отражалось в теоретических рассуждениях «комической истории», противопоставленной «трагической», в дифференциации романа в специальных трактатах о литературе, в отдельных оценках писателей и произведений, в логике появления заглавия
В основе замысла «Сумасбродного пастуха» лежит не факт простого литературного воздействия — стремление написать французский вариант («contre partie») «Дон Кихота», не развитие мотива конца второй части сервантесовского романа (Дон Кихот намеревается стать пастухом), не просто «подражание» ему, как полагает большинство французских литературоведов от Морийо до Адана. Отмечая успех романа Сервантеса во Франции и возникновение подражаний ему, французская литературоведческая традиция благосклонно замечает, что сорелевское было лучшим среди них. Против такой трактовки восставал еще сам Сорель в «Remarques», подчеркивая, что его роман — это не подражание «Дон Кихоту». Писатель-либертин признавался, что он читал творение Сервантеса, был им вдохновлен, но не следовал испанскому роману, «не имел его под рукой» при написании «Сумасбродного пастуха».
Сорель разворачивает целую систему доказательств, призванных показать черты существенного отличия между «Дон Кихотом» и его произведением, начиная от характера приключений и вплоть до «манеры писать». Хотя он в полемическом пылу часто бывает несправедлив к Сервантесу, его доводы интересны и имеют основания, так как несомненно, что он не стремился повторять «Дон Кихота». Сорель, как и все в XVII в., считал творение Сервантеса прежде всего пародией на рыцарские романы. Однако в «Замечаниях» выражал недоумение, почему испанский писатель не всегда пользуется случаем для нападок на этот жанр, а сам ему многим обязан, подчеркивал, что он создает противоречивый облик Дон Кихота, соединяя безумие, благородство и мудрость. Не одобряя, Сорель отмечает однообразное построение «авантюр» Дон Кихота, их небольшое количество, обилие пословиц и поговорок.
Это наблюдение свидетельствует, что Сорель воспринимал «Дон Кихота» столь глубоко, сколь это было доступно в XVII в. Французский романист несомненно использует сервантесовский мотив опасного влияния романа, книжного безумия героя. Но воздействие этого мотива стало возможным потому, что накладывалось на современные Сорелю французские нравы, на повальное увлечение романами и моду подражать им. Буало, подводя итоги этому пагубному воздействию романа на нравы, в диалоге «Героя романов», который будет опубликован лишь в
Воздействие «Дон Кихота» и типологическая связь с великим испанским романом несомненно были. Они ощутимы не только в пародийной установке этих романов, но и в перерастании ее, и в изображении конфликта между подлинной действительностью и страстным желанием быть тем, чем быть нельзя, и в комизме, переходящем в трагикомизм. Вряд ли «Сумасбродный пастух» можно считать только «бурлескной пародией», как полагает Ф. Арма, противопоставляя его «моральной сатире» «Франсиона». Критика нравов, морали и в этом романе Сореля не менее важна как жанрообразующий момент, хотя в ней нет той широты и резкости, которые наблюдаются в «Комической истории Франсиона». С другой стороны, в «Антиромане» шире и сильнее проступают философско-эстетические вольнодумные идеи писателя. Бурлескное начало несомненно присутствует и в «Пире богов» (3 кн.), где гротескно смешано мифологическое и бытовое, и в сценах ожидания конца света деревенскими жителями (ч. I), и в портрете женщины, чей нос образует вместе с редкими зубами некое подобие сломанных часов (Сирано использует этот гротескный образ для описания фантастических жителей Луны), но не оно преобладает в романе, насыщенном разнообразными комическими и сатирическими приемами.
Писатель-либертин большое место уделяет прежде всего развенчанию основного жанрообразующего идейного комплекса пасторальной утопии. Древняя легенда о «золотом веке», развитая Овидием в «Метаморфозах», повторенная в овидиевском варианте почти дословно Ронсаром в «Рассуждении о богатстве», использованная Монтенем, нашла своеобразное развитие в пасторалях XVII в. Если для Скаррона, Буало, Рапена и др. пастораль представляла условное описание недостижимого «золотого века», воспринималась как утопия, то герой Сореля не отдает себе отчета в ее утопичности и вымышленности, хочет приспособить для собственного «домашнего употребления»; на вопрос судьи, почему он взял виноград у крестьянина, Луи отвечает: «А разве мы не в золотом веке... и разве плоды земли не общие?»
Тема «золотого века» у Сореля звучит более развернуто, чем у Сервантеса, французский писатель подвергает критике пасторальный вариант традиционной утопии, показывает общественную вредность созерцательного буколического существования. Пасторальную идиллию Лизис прежде всего понимает как отсутствие всякого труда: «земля будет нам отдавать свои плоды без всякой обработки; в копях будет полно жемчуга и драгоценных каменьев... через луга будут протекать реки из молока и вина... горы из свежего масла... падать зажаренные жаворонки». Писатель использует прямой и переносный смысл известной французской поговорки («attendre que les alouettes tombent toutes rôties» — «рассчитывать на готовое, не давать себе труда что-либо сделать»), чтобы раскрыть «потребительский» характер буколических представлений Лизиса. (Сирано ее обыграет в описании лунной действительности в романе «Государства и империи Луны».)
Используя мотивы популярных легенд об утопической стране обжорства и безделья, Сорель всем описанием пастушеской утопии безжалостно высмеивает примитивное, узкоутилитарное понимание идиллии у своего героя, подчеркивая социально-деморализующий характер пасторальных идей. Сорелевская критика созвучна размышлениям Декарта в «Рассуждениях о методе» (1637): великий философ предостерегает от того, чтобы смысл жизни сводился к «получению без всякого труда плодов земли». Сын купца понимает «золотой век» как право читать романы, ничего не делать, наслаждаться верной любовью пастушки, т. е. вести паразитическое существование, которое было привилегией знати.
Писатель пародирует набор буколических идей, дискредитирует литературный жанр, изображая психологию поведения своего героя. Лизис сводит поэтическую философскую условность пасторали, восходящую к античной буколичности, к практическим бытовым поступкам: приобретает пасторальный костюм, стадо, собаку, выбирает «пастушку», наперсника, удаляется от города. Этой бытовизацией Сорель создает бурлескный эффект развенчания комплекса идей пасторали. Если рассуждения Ансельма о преимуществах жизни вдали от города созвучны ронсаровским мечтаниям о независимой и чистой «vie champêtre» и жажде «сельского уединения» Дю Белле, популярным в XVII в., то купеческий сын руководствуется потребительской логикой, стремится достичь особой привилегированности. Лизис хочет создать свое «карманное издание» «золотого века», полагая, что одного желания, которым руководствуются пасторальные герои, вполне достаточно. Комическая вина главного героя заключается в том, что под влиянием «romanesque» он переоценил свои возможности преобразования реальной действительности, став посмешищем для других, воплощая собою гротескно-комический солипсизм.
Дискредитацию пасторальных утопических идей писатель осуществляет, вводя критерий проверки их реальной действительностью с помощью героя, не только влюбленного в них, но и желающего создать действительный пасторальный мир. Карикатурное подобие его, возникающее благодаря буквальному воплощению Лизисом в жизнь буколических идеалов, своеобразно дублируется его упрощением в ироническом описании пасторальной страны в начале второй книги романа.
Лизис — комический антипод Селадона, но не пародия на него: между ними отсутствует прямая связь комического соответствия, «передразнивания», которое является существенным свойством пародии. Главное в герое д’Юрфе, основа нарицательного смысла его имени — изысканная и почтительная влюбленность, «героический энтузиазм верности в любви». Основное в Лизисе, который создал себе обобщенный идеал Пастуха, и постоянно на него, а не на Селадона или других героев «Астреи» ссылается, — не столько завоевание возлюбленной, сколько попытка создать свой пасторальный мир, хотя, расхваливая «золотой век», Лизис подчеркивает, что «из всех страстей там останется лишь любовь: ... Какое наслаждение любить пастушек, отвечающих взаимностью...» Но его любовное объяснение с Харитою, как и «любовная экспедиция» (3 кн.), лишены поэтичности и построены по законам бурлескного осмеяния метафорических романных штампов, а не стиля д’Юрфе. Герои Сореля — обобщенная пародийная проекция на человека, захотевшего стать Пастухом из пасторали.
Не пренебрегает Сорель и пародийной стилизацией, сталкивая два основных речевых потока. Один — книжно-возвышенно-поэтический, стилизованный автором под пасторальный словарь и штампы любовной поэзии; им пользуется Луи-Лизис в ситуациях, резко контрастирующих с этой стилистикой, каждый раз вызывая одинаковую ответную реакцию других персонажей: «он же безумец!» (этим приемом воспользуется Буало в сатирическом диалоге «Герои из романа».). Второй — обычный, литературно-разговорный, представленный авторским повествованием и речью «разумных» персонажей. Правда, разыгрывая Лизиса, стараясь войти с ним в речевой контакт, понятный сумасбродному пастуху, такие персонажи, как Иркан, Ансельм или отшельник сознательно прибегают к пасторальным клише. Такова языковая ситуация мистификации Иркана, убедившего Луи, что он превращен в девушку пастушку, так как надел женское платье, в иву, так как аналогичное происходит с героями пасторальных романов, или стилизованная под романного мага речь Ансельма, убеждающего Лизиса, вообразившего себя деревом, огорченного тем, что его «срубили», повалили бурей (трое слуг дули в трубы), что он вновь стал человеком-пастухом. Сопряжение этих двух речевых потоков, передающих барочную антитезу двух ведущих стилей французского романа в 20-х годах XVII в. создает постоянный комический эффект.
Сорель в этом романе широко использует прием комической иллюзии, характерный для демократического барокко, обнажая иллюзорность пасторали не прямой пародией, а правдоподобными коллизиями истории сумасбродного героя. Комический эффект строится на расхождении между субъективным «видением» Лизисом реальности и ее объективной сущностью, данной в восприятии другими персонажами. Уже в первой сцене присутствуют как бы две системы координат: одна (субъективная) — буколическая, применяемая Лизисом, который видит жизнь через пасторальные очки, называя дворян и вельмож «gentils bergers», свой жалкий завтрак — banquet и т. д., другая — объективно-реальная, носителем которой выступают Ансельм, опекун, автор и читатель. Эти две системы координат проступают и в том, как Лизис воспринимает «пастушку», для него — Хариту, а для всех остальных Катерину, служанку Анжелики, и в том, что деревенские дома ему представляются замками, его наперсник — воплощением ума и верности, а в глазах других — деревенский дурачок («он был рожден, чтобы стать посмешищем»...) и т. д.
Комическая иллюзия в романе возникает и как нарочито созданный другими персонажами эффект заблуждения (мистификация в Бри). Жертва пасторального увлечения закрывает глаза на реальный слой жизни, он ослеплен пасторальным вымыслом и, как Дон Кихот, желаемое принимает за действительность. Смеховое развенчание героя строится на его способности воспринимать действительность иллюзорно, на подчеркивании несоответствия между истинным, которое открывает читателям авторский текст, и ложно-пасторальным восприятием сумасбродного пастуха. Тема заблуждения, культивируемая барокко и очень часто связанная с кризисом ренессансного представления о возможностях человеческого разума, у вольнодумного писателя звучит весьма своеобразно. Субъективная ограниченность человеческого сознания, о которой много размышляет Ренье в 5-ой и 9-ой сатирах, у Сореля тоже далека от трактовки лирронистов, предстает в связи с проблемой воздействия искусства на человека (пасторальные романы, любовные поэзии, спектакли).
В теме «Сумасбродного пастуха» дается иное, чем у философов-скептиков, объяснение заблуждения: оно проистекает не из иллюзии, порожденной мечтаниями (хотя последнее широко изображено в романе Сореля), как полагали противники Декарта. Сорель объясняет сумасбродное воображение Лизиса воздействием ложных романных идей, видит причину его не в самой природе человеческого разума, а в ее временном и преодолимом «искажении», порожденном вредным воздействием «романического». Сорелю важно подчеркнуть возможность преодоления иллюзии, заблуждения: и герои вставных новелл, и Луи-Лизис избавляются от романного наваждения. Писателю-либертину свойственна несомненно оптимистическая концепция в решении проблемы человеческого разума и заблуждений. Он противостоит Ларошфуко и Паскалю, которые в эпоху идейного кризиса 60-х годов XVII в. значительно более пессимистически решили эту проблему, перекликаясь с писателями начала века, выразившими кризис Ренессанса.
Сорель, сближаясь с Пьером Гассенди и Декартом, верит в большие познавательные возможности человеческого интеллекта, в его способность постичь истину, о чем он великолепно написал в одном из своих поздних трактатов.
Если Декарт снисходительно полагал, что «приятности небылиц пробуждают разум», то Сорель, как и Сервантес, видит в них опасный источник заблуждений. Вместе с тем автор «Сумасбродного пастуха» солидарен с Декартом в его критике «книжных знаний», показывая, как пагубно они влияли на неопытного Лизиса, исказив его представление о жизни.
Сорель, в отличие от писателей религиозного и светского барокко, вводит социальный мотив в объяснение временной неспособности сумасбродного пастуха объективно воспринять реальность: это плохие книги, неразумное образование и воспитание, поразившие «болезнью» его разум. Уроки, полученные Лизисом от дворян во главе с образованным и гуманным Ансельмом, которые ценят радости реальной жизни, помогают ему распознать обманчивую иллюзию пасторалей и увидеть подлинную реальность, обрести верный взгляд на мир. Избавлению способствовали жизненный опыт, практическое, а не книжное познание действительности: вольнодумный писатель на языке романной критики о Лизисе развивал идею, созвучную всему картезианскому пафосу «Рассуждений о методе». Но радости от своего выздоровления Луи не испытывает, так как подлинная реальность кажется ему прозаичной, скучной по сравнению с ярким, волшебным миром романов, хотя он и далек от трагичности прозрения Дон Кихота, сожалея о потерянной способности жить в воображаемом мире. Сорель не апологетизирует современную действительность, далекую от «романического» и от идеального «золотого века», но и не делает трагических выводов Сервантеса. Утверждение несоответствия между реальным миром и литературным романным образом служит в «Сумасбродном пастухе», как и в «Дон Кихоте», не только целям литературной полемики и пародии, но и критике современной действительности, далекой, однако, от социально-философского уровня и глубины испанского романа и менее развернутой, чем во «Франсионе».
Если в 10-ой кн. «Франсиона» нападки на пастораль ограничивались обычными традиционными для истории осмысления этого жанра доводами (автор грешит против истины, изображая пастухов, занятых не сельскими занятиями, а любовными страданиями и рассуждениями), то в «Сумасбродном пастухе» (предстает новая для всей европейской литературы стадия ее осмысления: аналитическое исследование всего комплекса социальных, этических, философских идей пасторали и ее поэтики). Оно сделано утомительно многословно, педантично, громоздко в сюжетном повествовании и в «Замечаниях», вариации, дублирующей авторскую критику I, но со знанием дела, на основе критериев «правды» и «правдоподобия». Сорель хочет доказать, убедить читателя всеми доступными ему средствами, и это отличает его от критики романа у Буало, которому важнее четко сформулировать мысль, чем ее развернуть и доказать, что порождает ту многословность, систему повторяющихся вариаций одной и той же мысли, которые являются стилистическими приметами барочного стиля «Сумасбродного пастуха» в его демократическом варианте. Исходная идейно-эстетическая позиция Сореля в «Сумасбродном пастухе» связана с его активным, воинственным неприятием культивируемых в светском и религиозном барокко идейных, тематических, лексических попыток отойти от действительности, ее эстетизировать, сосредоточить внимание читателя на изощренности формы, сделать ее самоцелью того, что польский исследователь Фалицкий называет автотелизмом.
Автор «Сумасбродного пастуха» откликается в связи с анализом пасторали на решение существенных этических и философских проблем, которые стали в центре внимания французского либертинажа 20-х — начала 30-х годов XVII в. проблема «свободы воли», природа субъективности человеческого сознания, роль чувственного познания, опыта, возможностей человека в его воздействии на действительность и др. Эти философско-этические проблемы, лежащие в основе «Сумасбродного пастуха», организуют жанр, расширяют, углубляют, трансформируют пародийный аспект в воинственную идейно-эстетическую полемичность. Философская основа романа не только отличает Сореля от светского барокко, где почти нет оригинальных идей и подлинной интеллектуальности (Гомбервиль, Ла Кальцренед), но и сближает с Сирано, прямым создателем философского научно-фантастического романа.
Сочетание нравоописательного и философского начал, неразрывно слитых, оригинальная сюжетно-повествовательная структура, независимый от пастушеского романа общий сюжетно-жанровый облик этой «комической пасторали» выводят творение Сореля при всей его пародийно-полемической направленности за рамки простой литературной пародии, делают значительным в истории французского романа.
Вольнодумный писатель боролся за приближение литературы к действительности, выражая (при всей полемической крайности своих суждений о «литературе вымысла») перспективные и демократические тенденции французского романа 1620-1630 гг., связанного с развитием вольномыслия.
Л-ра: Проблемы развития романа в зарубежной литературе XVII-XX веков. – Днепропетровск, 1978. – С. 24-48.
Произведения
Критика