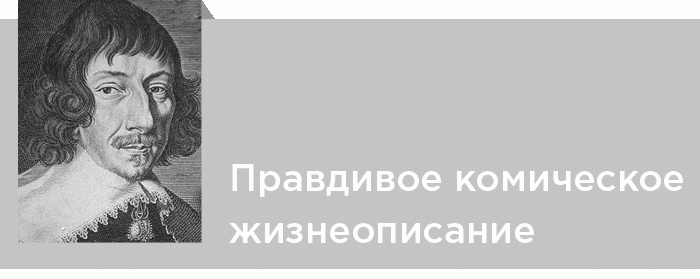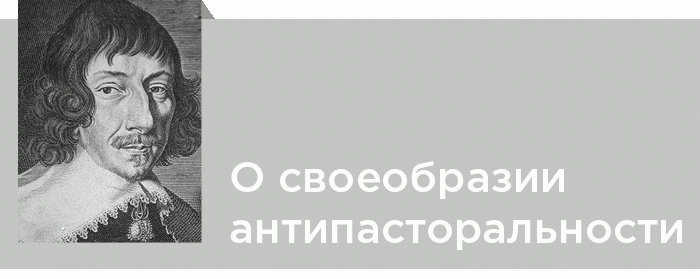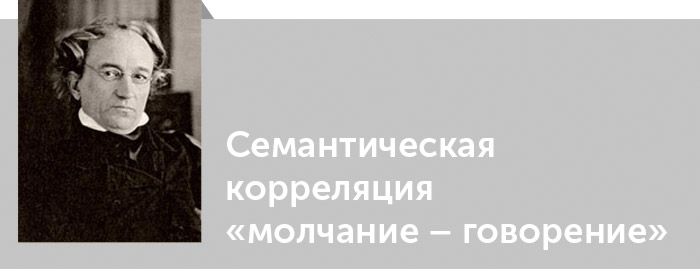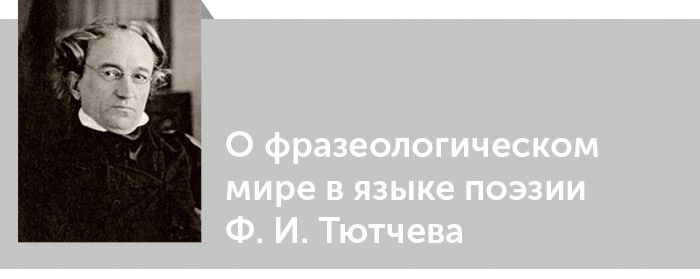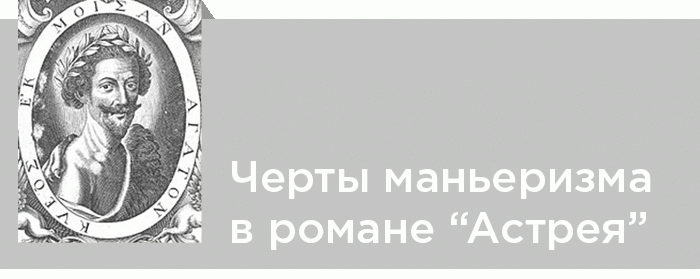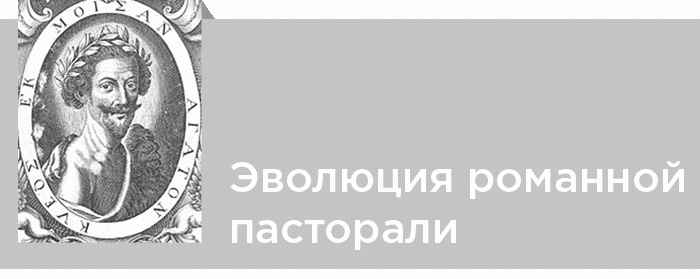Полемика о «романическом» в творчестве Ш. Сореля и П.К. Мариво

Л.Я. Потемкина, H.Т. Пахсарьян
В истории романа, по наблюдениям специалистов, возникают произведения, в которых присущая жанру саморефлексия принимает форму литературно-критического пародирования, полемического переосмысления или противостояния распространенному жанровому типу. Такие произведения появляются в переходные периоды истории романа, когда инерция клиширования захватывает поэтику жанра и формализует жанровое ядро. Как известно, произведение, стоящее у колыбели романов подобного типа, «Дон Кихот» Сервантеса содержит в своем исходном замысле стремление высмеять штампы рыцарского романа, противопоставляя ему художественно осваиваемую испанскую действительность, но перерастает первоначальный замысел литературной пародии и становится новаторским романом о жизни, открывая новую страницу в его истории.
На рубеже «двух эпох романа» (Гринцер), который во Франции приходится на XVII-XVIII вв., особенно активизируется противоборство традиционного книжно-литературного клишированного романического, присущего «первой эпохи» жанра, и нового романного мировосприятия, художественно постигающего современную жизненную реальность, порывающего с самим принципом конструирования условного мира из «готовых» фабульно-тематических схем, хотя и не отрицающего роли книжной традиции и литературных источников. Возникает некая жанровая линия, генетически и преемственно связанная не только литературно-критическим отношением к романическому, но и рядом общих примет пародийно-полемической поэтики жанра, восходящей к «Дон Кихоту».
Наиболее значительными произведениями такого рода во Франции XVII — начала XVIII в. представляются романы Ш. Сореля — «Сумасбродный пастух» (1627-1628) и «Фарсамон» (1712, опубл. 1737) П.К. Мариво, которые, опираясь на «Дон Кихота», своеобразно и более творчески, чем это принято думать, развивают традиции романа Сервантеса в контексте актуальных задач французской литературы переходной эпохи. Сопоставление двух названных романов, созданных на разных литературных этапах и развивающихся в русле разных художественных методов, но связанных преемственностью творческих задач романистов-новаторов, будет способствовать прояснению эволюции сервантесовской традиции во Франции в аспекте истории идейно-эстетической борьбы с традиционным романическим, преобладающим в романе «первой эпохи».
«Сумасбродный пастух» создан зрелым писателем-либертином, автором «Франсиона» (1623) одновременно с публикацией последних частей «Астреи» д’Юрфе и в разгар буколической моды во Франции, когда пасторальный литературный поток одновременно пропагандирует и отражает растущую популярность маскарадно-пастушеского развлечения дворянской элиты, захватывающего и другие социальные слои страны, которая «жаждала стать дворянской». Стремясь разоблачить абсурдность и вредность галантного пастушества, наставить молодых людей, читающих дурные романы-вымыслы, где пасторальность изображена как идеальный образ жизни, Сорель уже в заглавии романа подчеркивает идейно-эстетическую направленность своего произведения — «Сумасбродный пастух, где среди любовных фантазий мы видим несуразицы (impertinences) романов и поэзии». В примечаниях автор раскрывает и критически комментирует широкий круг пародируемых произведений. Заглавие станет еще более обобщающим в издании
Творчески используя магистральную сюжетную ситуацию «Дон Кихота» — разрыв между книжно-идеализирующим воображением героя и прозаической реальностью, — Сорель вносит в нее актуальный общественный и литературно-критический смысл, меняет объект полемики, усиливает нравоописательный аспект, предвосхищая мольеровскую тему «мещанина во дворянстве». Герой романа — сын богатого парижского купца, оставшись сиротой, отдается чтению романов. Восприняв буквально пасторальные рецепты, он решает стать галантным пастухом в обыденной жизни: покупает театральный пастушеский наряд и отправляется на берег реки пасти овец. Первоначальный экстравагантный, но еще вполне сознательный шаг Луи Лизиса открывает ролевую ситуацию, в которой герой, вступивший на путь сумасбродства и страстно, воплощающий свое пасторальное амплуа, перестает верно ориентироваться в действительности. Разрыв между субъективным сознанием героя и объективной реальностью трактуется французским писателем как комическая коллизия, далекая от глубины трагикомических обобщений Сервантеса. От Дон Кихота персонаж Сореля отличается и прагматическим эгоцентризмом — жаждой создать идеальное пасторальное существование только для себя, что, художественно претворяясь в мечтах Лизиса о сытно-бездеятельном существовании, отражает характерное для французской дворянской и подражающей ей буржуазной молодежи этой эпохи желание сделать карьеру, обогатиться, создав тем самым возможность для паразитического образа жизни.
Эволюция героя Сореля — от решения стать пастухом из пасторали, покупки костюма, овец, выбора наперсника (деревенского дурачка) и возлюбленной (деревенской служанки) до полного смешения иллюзий с реальностью, слепой веры в любые пасторальные нелепицы (превращение в девушку, иву) — принципиально иная, чем в произведениях Сервантеса. Она однозначно отвечает замыслу Сореля высмеять сумасбродных молодых людей, веривших в романные фантазии, а потому плохо подготовленных к реальной жизни.
И наконец, от Сервантеса Сореля отличает авторское насмешливо-снисходительное отношение к «юному безумцу». Сорель сознательно сужает идейно-воспитательную задачу своего романа в сравнении с «романом-энциклопедией» (Шкловский) Сервантеса, подчиняя изображаемое разоблачению романического, его дискредитации в глазах молодых людей, которые могут руководствоваться в жизни романами, для этого не пригодными. Соответственно в центре образной системы сорелевской книги — не имитация сервантесовской пары Дон Кихот — Санчо Панса, не Лизис и его наперсник, деревенский дурачок, функция которого бурлескно-развлекательная, а Лизис и его здравомыслящий благодетель и наставник вельможа Ансельм, решивший излечить героя из подлинно гуманных соображений. Негодному воспитанию, романическому книжному опыту молодого человека умный и образованный вельможа противопоставляет возможность практического познания жизни, столичной и деревенской, но подобной возможности герой не использует из-за овладевшей им мании (принимает спектакль в Бургундском отеле за реальные события; поддается поучающему розыгрышу на карнавале в Бри). Мистифицируя своего подопечного вместе с друзьями- дворянами, Ансельм не только развлекается, но и врачует безумца, помогает Лизису, дойдя до крайней степени сумасбродства, обрести затем верный взгляд на мир.
Структура романа Сореля определяется общим литературно-критическим и идейно-полемическим замыслом, не зависит всецело ни от «Дон Кихота», ни от «Астреи», которую считают объектом пародии в «Сумасбродном пастухе». Не Селадон, а идеал Пастуха вообще — объект комического подражания для Луи-Лизиса. Герой подражает пасторалям вообще, в том числе и «Астрее» как «хрестоматии галантной цивилизации», что дает возможность ввести отдельные пародийные мотивы (возвышенное мечтательное раздумье у реки — охрана грязного стада овец; поэтическая влюбленность в прекрасную пастушку — ухаживания за грубой служанкой; волшебное превращение в дерево — комическая иллюзия такого превращения).
Автор «Сумасбродного пастуха», объединяя теоретико-публицистические (в «Замечаниях») и беллетристические (в сюжете романа) разоблачения romanesque, несомненно утяжеляет произведение, делает его громоздким, в духе поэтики низового барокко насыщая повествование многочисленными вариантами исходной ситуации. «Калейдоскопическая игра» разными версиями рассказа (рассказы Лизиса, опекуна, повествователя, свидетелей) в сочетании с пространным комментированием истории Лизиса в «Замечаниях» ведется Сорелем всерьез, с осознанием литературно-критической значительности и общественной пользы борьбы с романическим. Форма этой борьбы двоякая: комическое снижение, окарикатуривание поэтики пасторальных романов (подражание незадачливого Лизиса пасторальному Пастуху) и реализация заложенных в высоком романическом метафор, столкновение буквального восприятия книжной ситуации с прозаической современной действительностью. Здесь Сорель совершает шаг к тому принципиально новому, что вносит в полемику с романическим Мариво.
С именем автора «Жизни Марианны» связан значительный период в истории французского романа, отмеченный чертами переходности. Не отвергая завоеваний предшествующего этапа и в постижении психологии, и в способе построения сюжета, Мариво стремился проложить новые пути в развитии романа и при этом неизбежно должен был отчетливо выявить свое отношение к романическому, которое к его времени претерпело изменения благодаря опыту романа второй половины XVII в.
За столетие, отделяющее «Сумасбродного пастуха» от «Фарсамона», историко-литературная жизнь Франции существенно меняется, сохраняя тем не менее некие доминанты, особенно важные для понимания эстетической преемственности писателей: это и стабильный интерес к «Дон Кихоту», и сохранившиеся читательские симпатии к «романическому роману», и попытки адаптировать его в новом вкусе. Органические и разнообразные связи литературы рубежа XVII — начала XVIII в. с искусством предшествующей эпохи зачастую приводят исследователей к убеждению, что литературный XVIII век начинается позже календарного, а роман нового типа появляется во Франции лишь в 1730-е годы. Ранние опыты Мариво-романиста в свете таких представлений выглядят как «школьный реализм, больше обязанный Сорелю, чем Лесажу» или как бурлеск, напоминающий Скаррона. Так игнорируются существенные расхождения, которые определяют отношение к романическому у Сореля и Мариво, стимулируют трансформацию пародийного замысла, еще играющего важную роль в «Сумасбродном пастухе», и поиск путей литературно-критической полемики на новой стадии развития жанра романа.
В отличие от Сореля, уже в заглавии своей книги провозглашающего пародийно-полемические намерения, Мариво, обыграв в первой части названия своего произведения имя главного героя Ла Кальпренеда, во второй лишь называет романическое в качестве предмета изображения: «Фарсамон, или Новые романические страсти». Представляя персонаж в начале романа, автор довольно расплывчато указывает на литературные источники его страстей и как будто повторяет «Дон Кихота»: «Старые романы, Амадисы Галльские, Ариосто и множество других книг». Уже здесь проступает отчетливое отличие намерений Мариво и его предшественника Сореля.
Злободневные выпады автора «Сумасбродного пастуха» в «Замечаниях», где в каждом конкретном случае названы источники той или иной ситуации основного повествования, демонстрируют четкую дидактическую установку писателя и его педантизм в борьбе с романическим. Мариво ближе к Сервантесу, чем к Сорелю, в своем свободном фантазировании на романические темы. Он выявляет связь между произведениями, заложившими наряду с античными источниками основы romanesque в жанре романа, и высокими романами XVII в., развивающими и переосмысливающими их традиции. Как устанавливает комментатор, основные эпизоды «Фарсамона» восходят не к «Амадису», а к романам Ла Кальпренеда, «Клелии» и «Великому Киру» Скюдери, «Астрее» д’Юрфе и к антироманическим источникам от «Дон Кихота» и «Сумасбродного пастуха» до пародий Дю Вердье. То, что выглядит на первый взгляд как непоследовательность, противоречие или неумение молодого романиста, представляется принципиальным для понимания замысла автора «Фарсамона»: романическое выступает у Мариво не как «рыцарское» у Сервантеса (при всей широте его гуманистического наполнения), не как «антипасторальное» у Сореля и не как один тип romanesque, а как книжность в самом общем виде. Но Мариво заимствует у Сореля мотив воздействия книг на психологию молодого человека, усиливая элемент анализа мировосприятия юноши.
Персонаж Мариво не конструирует для себя некий целостный образ «героя романа», как Лизис, который стремился походить на романного Пастуха, что привело его к созданию бурлескного, узко-прагматичного, но обобщенного идеала определенного «пасторального образа жизни», осмеиваемого Сорелем. Юный провинциальный дворянин-сирота Пьер, воспитанный на романах своим дядей, молодость которого приходилась на романическую эпоху, жаждет любить, как в романах типа «Амадиса». Все другие стороны рыцарского идеала его не интересуют, и это существенно отдаляет героя от сервантесовского подражателя «Амадису», приближая к героям позднего (50-60-х годов XVII в.) галантно-героического романа. Но здесь нет и пародии на галантно-героический роман, ибо вся сфера «героического» не снижается, а попросту изымается из произведения: содержание «Фарсамона» определяет не комическое соответствие высокому роману, а мера присутствия романического в жизни.
Воспринимая в едином потоке книги, в которых представлены разные типы любви (куртуазная, галантная, прециозная), герой Мариво создает в конечном счете некое обобщенно-приблизительное представление о высокой романической любви, основываясь на воспоминаниях о прочитанном, а не разыгрывая буквально романные ситуации подобно Лизису, смешивая «куртуазность» с «галантностью», понимая ту и другую как обходительность, предупредительность, изысканную вежливость по отношению к женщине, светское «служение» ей. На первый план выдвигается полемическое переосмысление романического, а не литературно-критическое пародирование его, как у Сореля, превращение romanesque из структурного элемента романа в «элемент» сознания персонажа. Освоение полемического опыта «Дон Кихота» у Мариво более глубокое и творческое, чем в «Сумасбродном пастухе»: если пародийно-критическое произведение Сореля, расчищая путь роману новой эпохи жанра, еще не является вполне романным, то у Мариво его полемика с романическим становится объектом подлинно романного социально-психологического анализа. Мариво в спорах с воображаемым критиком по поводу романического доказывает естественность, достоверность романических ситуаций (встречи героев в садах не как романическое клише, а как реалия провинциального поместного быта). Пьер меланхолически мечтает о трудном завоевании возлюбленной, о страдании в любви от неизвестности, ревности, разлуки, он хотел бы поэтических неожиданных встреч, приключений — того, чего современная французская провинция давно лишена, как признает в начале романа герой и как показывает не без сожаления писатель. Известная двойственность Мариво — ностальгия по романическому в жизни и ирония по поводу разрыва между жизнью и литературой — ощущается и в его наиболее значительном зрелом романе «Жизнь Марианны» (1731-1741), проступает в «Фарсамоне».
В отличие от автора «Сумасбродного пастуха», жаждущего высмеять своего героя, окарикатурить его, Мариво добродушно подтрунивает над юношей, который ориентирован на архаический «книжный» тип любви. С одной стороны, он привлекает своей чистотой, идеальностью, а с другой — смешит отказом от любовных наслаждений, тягой к страданию, к препятствиям, изобретаемым самими героями. Авторская характеристика Фарсамона отнюдь не настраивает на карикатурный или пародийный лад, но не следует и штампу «высокого» героя. В ней выделены качества «сердца и ума», столь популярные в литературе XVIII в., вынесенные позднее в заглавие романа Кребийона-сына («Заблуждения сердца и ума», 1736-1738): «Он был хорошо сложен, с живым взглядом, и его сердечные чувства и наклонности его ума прибавляли к миловидности его облика нечто благородное и серьезное».
Как и Лизис, Пьер-Фарсамон часто пытается буквально следовать романическим любовным предписаниям (вздыхать, погружаться в мечты, страдать отсутствием аппетита, искать одиночества и т. д.) и внешне ему удается это успешнее, чем сорелевскому «пастуху», заботящемуся о пасторальных атрибутах. Но персонаж Мариво в отличие от своего предшественника редко может «вжиться» в образ, погрузиться в мир, создаваемый воображением, отождествить себя до конца с романическим героем. «Ролевая» маска сумасбродного пастуха как бы прирастает к герою Сореля, тогда как у Мариво характеры Фарсамона, Сидализы, их слуг — персонажей, охваченных единым пристрастием к романическому, — не адекватны избранным ими маскам. Различие продиктовано не только особенностями творческих индивидуальностей писателей, но и процессом трансформации дилеммы «быть» — «казаться» от барокко к раннему рококо: у Мариво она теряет напряженность нравственной антиномии, доведенной Сорелем в «Сумасбродном пастухе» до своеобразной комической кульминации, но в компромиссности писателя XVIII в., в его иронической нравственной терпимости можно увидеть «зачатки человечности, более сердечной и чувствительной, более интимной и хрупкой, чем идеалы «великого века».
Романическая меланхолия Пьера противопоставлена трагикомической активности Дон Кихота или буффонности Лизиса. Случайная встреча с девушкой, увлеченной теми же романическими мечтами, становится толчком для поисков героем ее «замка», дуэли с соперником, ухода от дяди вместе со своим «оруженосцем»-слугой и т. д. Структура романа Мариво подчинена полемическому замыслу, а не имитации Сервантеса или Сореля. Соответственно пара Фарсамон — Клитон далека от амбивалентной пары Дон Кихота и Санчо Пансы: Клитон — комический вариант романического влюбленного, «кривое зеркало» своего хозяина (как Фатима — карикатурное подражание Сидализе), но ему еще менее, чем хозяину, удается играть свою роль — даже так, как сыграл «прециозного» маркиза мольеровский Маскариль.
Пародия становится как бы психологически невозможной в романе Мариво, романические клише служат не материалом для пародийных параллелей, а предметом ассоциаций начитавшегося романов Пьера. Так, встреча в лесу происходит не по схеме галантно-героического романа, герой лишь мечтает натолкнуться на «спящую красавицу», а встречает Сидализу, разговаривающую со служанкой о своих романических пристрастиях. Дуэль с поклонником провинциальной красавицы демонстрирует не бурлескное бессилие и трусость, а ловкость и отвагу героя, но для разоблачения «прелести» подобной романической ситуации Мариво прибегает к точному психологическому ходу: Фарсамон, усталый и израненный, заметно теряет (хотя и на время) свой любовный пыл; Сидализа же, воодушевленная поклонением, ревностью, соперничеством поклонников, еще более «загорается». Мания влюбленных постепенно овладевает героями, увлекает их: так, от предположения, что у Сидализы не может быть столь грубой нероманической матери, они приходят к абсолютному убеждению, что девушка — похищенная принцесса, и отправляются на поиски ее родных. Однако в теме «юных безумств», общей для многих французских романов XVII-XVIII вв., акцент сделан на специфических для Мариво психологических нюансах: героями движет стремление вызвать в себе высокое чувство соблюдением романического ритуала, но между формой и реальным ощущением постоянно существует то больший, то меньший разрыв, исчезающий лишь в моменты своеобразного «умопомрачения». В «страстях» Фарсамона (как и его подруги, слуг) вопреки его желанию оказывается гораздо больше здравого смысла, чем в мании Лизиса, в обрисовке которого Сорель более однозначен, чем Мариво, стремящийся раскрыть противоречивую двойственность проблемы романического.
Логике сорелевского бурлеска у Мариво противостоит психологическая достоверность: здоровый, умный восемнадцатилетний юноша с пылким сердцем, воображением, с тонким чувством поэзии, природы, получивший
книжное воспитание, ждущий чистой любви, «сходит с ума» от романов. Тогда как герой Сореля лишается рассудка, персонаж Мариво лишь грешит против здравого смысла и жизненного опыта, но обоих объединяет жажда юношеского идеала. Для обоих писателей романическое оказывается противоположным «здравомыслию»; при этом поэтичность romanesque, отталкивающая Сореля, привлекает Мариво. К тому же автор «Фарсамона», иронизируя над попытками романизировать современную французскую провинцию, во вставных историях, вводит романические элементы как экзотику, как возможное в иной действительности. Соответственно меняется тон полемики: Мариво не свойствен сатирический разоблачительный пафос либертина Сореля, его воинственное стремление — «вытеснить» жанр высокого романа, противопоставив ему «комическую историю».
Полемика Мариво направлена против крайностей чрезмерного воображения, книжности, неразумности молодых героев, но и против суровой прямолинейности воображаемого критика, которого Мариво поддразнивает, играя повествованием. Тяжеловесность полемических выпадов, тон страстного убеждения или резкой насмешки писателя низового барокко чужды автору «Фарсамона», он скорее «болтает» с воображаемым читателем о пустяках (см. рассуждение «Ни о чем»). Подчеркнутая, как бы нарочитая «легкость», «мелкость» предмета изображения и размышления — в русле становления поэтики рококо. Было бы несправедливо вслед за язвительным Вольтером отметить лишь манеру Мариво «взвешивать пустяки на весах из паутинки». Сдвиг, совершаемый Мариво в области полемики с романическим, весьма значителен: писатель утверждает современность в качестве главного предмета изображения в романе — и здесь он, безусловно, последователь традиции Сореля, но романическое у него рассмотрено не как жанровый элемент, структурное клише, а как клише сознания, психологии.
В единой линии «антиромана» XVII-XVIII вв., которую открывает «Дон Кихот» Сервантеса и венчает «Жак-фаталист» Дидро, «Сумасбродный пастух» Сореля фиксирует максимально острый кульминационный момент борьбы с романическим как конструктивным признаком романа, тогда как «Фарсамон» Мариво являет своеобразное «снятие» проблемы, когда романическое превращается прежде всего в определенный тип книжной человеческой психологии, переставая быть основным сюжетно-жанровым повествовательным приемом. Мариво предлагает не столько литературно-критический, сколько художественно-психологический анализ романического, ищет синтез житейски-правдоподобного и возвышенного, прокладывает путь более позднему роману воспитания и теме «утраты иллюзий».
В общей перспективе развития романного жанра Мариво связывает с Сорелем (при всей индивидуальности каждого в полемике с романическим) устремленность к преодолению в романе привычного, застывшего, превратившегося в штамп.
Л-ра: Филологические науки. – 1988. – № 4. – С. 29-35.
Произведения
Критика