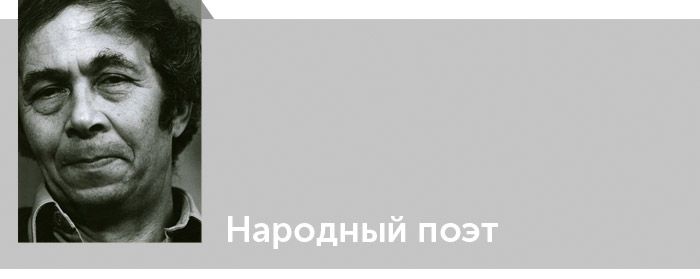О некоторых источниках романа Стендаля «Люсьен Левен»

Н. Г. Рудина
Наиболее документален его роман «Люсьен Левен». В черновой рукописи романа имеются заметки Стендаля с указанием «моделей». Они дают возможность проследить процесс творческого освоения действительности писателем.
Ж. Блэн пишет: «Стендаль не ввел в этот роман ни одного персонажа, даже эпизодического. ...Не указал прототипа, который ему для этого послужил». К сожалению, это утверждение французского ученого чересчур категорично: обстоятельный комментарий к роману, данный Стендалем, отнюдь не является исчерпывающим, а отдельные его заметки и поныне не расшифрованы.
К таким непрокомментированным местам романа принадлежит, в частности, история с двумя анонимными письмами, полученными Люсьеном вскоре после его прибытия в полк.
К первому из них на полях рукописи есть авторская пометка — «Modèle: Bagnolo». Дебре здесь же делает примечание: «А. Бейль, молодой корнет 6-го драгунского полка, был в Баньоло 7 ноября 1800 года. Письмо к Люсьену содержит, таким образом, личные воспоминания». Примечание Дебре не объясняет, однако, какие именно стендалевские воспоминания послужили «моделью», к тому же указанный Дебре срок пребывания Стендаля в Баньоло не точен.
Не вносит ясности и, видимо, является априорным и вывод Бардэша, утверждающего, что «анонимные письма, которые получал Люсьен Левен, были получены Стендалем в 1800 году в Баньоло».
Между тем, сохранившееся письмо писателя из Баньоло к сестре Полине дает, как нам кажется, возможность более точно объяснить стендалевскую «модель».
Бейль прибыл в Баньоло 22 ноября 1800 года, чтобы здесь в чине корнета вступить в драгунский полк. Вполне естественно, что, описывая приезд в полк своего героя — корнета Люсьена, Стендаль обратился к аналогичным моментам из собственной биографии.
В письме к Полине от 7 декабря 1800 года, говоря о трудном положении, сложившемся для французов в Баньоло, Бейль особенно жалуется на распаляемый священниками мрачный фанатизм итальянских крестьян. «Недавно главный викарий, который командует в этой округе, дал им наставление единственное в своем роде. Если бы я мог его достать, я бы тебе отправил его; ...оно содержит, кроме возможных сетований на безбожников-французов, уверения, — что коровы, от которых мы пьем молоко, сдохнут, виноградники, дающие нам вино, высохнут, а дома, в которых мы живем, испепелит молния. Можно было бы утешиться этим вздором, если бы им все исчерпывалось, но как только кто-нибудь из французов выходит за город, пули сыпются дождем».
Вероятно, вспоминая свое вступление в полк, Стендаль вспомнил и тот террор, которым угрожали реакционные итальянские священники «безбожникам-французам», несшим в их глазах заразу революции.
Для своих однополчан в Нанси Люсьен тоже был носителем опасных революционных веяний: ведь он попал в армию, будучи исключен из политехнической школы за участие в республиканских беспорядках.
В таинственном письме, адресованном «корнету-молокососу», Люсьена запугивают местью, обещают повсюду встречу с «Маркэном с дубинкой». Ему предрекают «всякие несчастья» и предлагают убраться подобру-поздорову.
Грубая прямолинейность этих угроз по отношению к республиканцу Люсьену, «гнусность и мерзость» письма заставляют вспомнить проклятья и угрозы фанатичных итальянцев, откровенная циничность которых так поразила юношу Бейля в Баньоло. Видимо, именно эти воспоминания и послужили моделью первого письма.
По поводу второго письма, одновременно полученного Люсьеном, мы не располагаем никакими комментариями. Ссылок на «модель» Стендаль не сделал. Между тем, некоторые материалы дают основание думать, что и у этого письма были свои «прецеденты».
Второе письмо резко отличается от первого. Оно полно веры в великий «день пробуждения» и готовности к самопожертвованию. Примечательна в письме подпись: «Марций, Публий, Юлий, Марк. За всех этих господ — Vindex, который убьет Маркэна».
Историк эпохи Реставрации во Франции В. Бутенко, ссылаясь на доклад префекта департамента Вьенн от 10 ноября 1822 года (Arch. Nat. F7 6720), сообщает о волнениях, происходивших в связи с процессом 4-х сержантов Ларошели и участников Сомюрского заговора. «Во время процесса генерала Бертона и других участников Сомюрского заговора в Пуатье на дверях публичных зданий непрерывно появлялись афиши, то приглашавшие во имя французской республики (sic!) преследовать нового Фукье-Тенвилля — прокурора Манжена, то обещавшие месть за Бертона и подписанные «Муций, Брут, Кассий...». ...Но дальше подобных угроз дело не шло, и после казни генерала Бертона местные революционеры могли выразить свое негодование лишь демонстративным ношением траура».
Параллели между воззваниями и письмом Люсьену настолько очевидны, что трудно считать это простым совпадением. Видимо, листовки, о которых доносит префект департамента Вьенн, были известны и Стендалю, внимательно следившему за карбонарским движением.
Сомюрский заговор генерала Бертона — одна из забытых героических страниц в истории французского революционного движения. Очень малочисленный по составу участников, опиравшийся лишь на их энтузиазм, недостаточно продуманный в деталях, заговор Бертона был заранее обречен на неудачу.
Современник этих событий и историк А. Волабель пишет, что участники революционных выступлений 1821-1822 гг. «отличались абсолютной преданностью благородным идеям, высоким идеалам, были чужды позорному расчету честолюбия или материальной выгоды. Факт, единственный, быть может, в истории долгих и многочисленных заговоров, характеризует силу морального чувства, которое объединяло членов этих обществ: общее число «карбонариев» и «рыцарей свободы», военных на службе и в отставке или гражданских лиц, не превышало 55-60 тысяч, всякий донос был бы оплачен самой высокой ценой, — правительство, за исключением четырех или пяти младших офицеров в армии, не нашло ни одного предателя».
Приговоренные к смерти четверо сержантов Ла Рошели, Бертон и его товарищи исключительно мужественно вели себя во время процесса. Бертон отказался от возможности спастись бегством за границу. На суде, выступив как обвинитель своих палачей, он кончил речь знаменитым изречением древних: «Dulce et décorum est pro patria mori».
Поистине героически вели себя приговоренные и во время самой казни. Бори, Рауль, Губен, Помье — четыре сержанта Ла Рошели крикнули, взойдя на плаху: «Да здравствует свобода!». Как античный герой, умер один из вождей Сомюрского заговора, вскрывший в себе вены накануне казни. Отказавшись от исповедников, с криком «Да здравствует Франция! Да здравствует свобода!» погиб Бертон.
Неслучайно анонимные воззвания сторонников Бертона были подписаны именами римских героев. Высокий строй мыслей и чувств, твердость характера, присущие заговорщикам, заставляли вспомнить о доблестных римлянах, на примере которых воспитывалось целое поколение французских революционеров.
По аналоги с карбонарскими листовками Стендаль тоже дает республиканцам из Нанси римские имена. Имя Маркэна, воплощающего у Стендаля крайнюю реакционность, видимо, образовано им по аналогии с именем Манжэна — палача Бертона (Mangin-Marquin). Манжэн, генеральный прокурор, а впоследствии при Полиньяке префект полиции, был в эпоху Реставрации живым олицетворением реакции, от жестокости которого пострадало немало попавших к нему людей. Подобные изменения имен, сохранявшие связь с моделью, часто встречаются у Стендаля: например, Corteys-Kortis и др.
Параллели между листовками сторонников Бертона и письмом к Люсьену, не только в именах, но и в обещании мести Манжэну-Маркэну. («Vindex, который убьет Маркэна»).
Революционеры 1821-1822 гг. с их бескорыстным и самоотверженным служением идеалам свободы, очевидно, и послужили в конечном счете прототипами для республиканцев из Нанси. Стендаль наделил их той же преданностью идее, тем же высоким строем чувств, тем же мужеством, которые были присущи героям эпохи Реставрации. Так же как у революционеров 1821-1822 гг., у них нет реальной опоры, конкретных перспектив. Писатель по-человечески очень уважает своих героев: «За исключением моих бедных, одержимых безумием республиканцев, я не вижу ничего такого на свете, к чему стоило бы относиться с уважением: все известные мне почтенные репутации в какой-то мере основаны на шарлатанстве, — размышляет Люсьен Левен. — Республиканцы, быть может, люди помешанные, но не подлецы». И в то же время Люсьен — Стендаль относится к этим «помешанным» снисходительно, считая себя гораздо дальновиднее их: «Публий, Vindex! Бедные друзья! Вы были бы правы, если бы вас было сто тысяч, но вас всего две тысячи человек, быть может, рассеянных по всей Франции, и Филото, Малеры, даже Девельруа прикажут на законном основании расстрелять вас, если вы сбросите с себя маску, и будут поддержаны подавляющим большинством».
Стендалевские республиканцы не только своим благородством и малочисленностью напоминают карбонариев 20-х годов: заговорщическая практика и приемы борьбы республиканцев из Нанси типично карбонарские. Верон в своих «Мемуарах парижского буржуа» пишет, что во время процесса четырех сержантов крепости Ла Рошель их сторонники «запугивали присяжных, широко распространяли в публичных местах, в Итальянском театре, посещаемом бароном Труве, председателем суда присяжных, маленькие листовки, на которых был напечатан список присяжных с угрозами, написанными от руки: «Кровь требует крови! Смерть! Кинжал!». Как это похоже по стилю на записочку, полученную Люсьеном от нансийских республиканцев и содержащую одно слово: «Ренегат!». «Вот как они устраивают свои дела: настоящие дети!» — думает по поводу этой записки Люсьен.
То, что Стендаль, описывая республиканцев 30-х годов, обращается к карбонарским выступлениям эпохи Реставрации, весьма характерно. Стендаль не делал различия между республиканцами 20-х и 30-х годов — эпохи. Борьба республиканцев представляется писателю, при всем его восхищении их героизмом, такой же бесплодной и заранее обреченной, как и борьба Бертона, 4-х сержантов Ла Рошели и их единомышленников. Для Стендаля республиканцы — люди, отличающиеся исключительной нравственной чистотой, и вместе с тем Дон-Кихоты, делу которых он не может довериться.
Интересно, что Стендаль отходит здесь от присущего ему безупречного историзма, перенося в 30-е годы некоторые явления общественной жизни предыдущей эпохи.
Обнаруженные аналогии между анонимными письмами в «Люсьене Левене» и документами эпохи Реставрации заполняют еще один из уже немногочисленных пробелов в представлении о конкретно-исторической основе романа. Они помогают глубже разобраться в одном из существенных моментов мировоззрения Стендаля.
Л-ра: Филологические науки. – 1963. – № 1. – С. 152-156.
Произведения
Критика