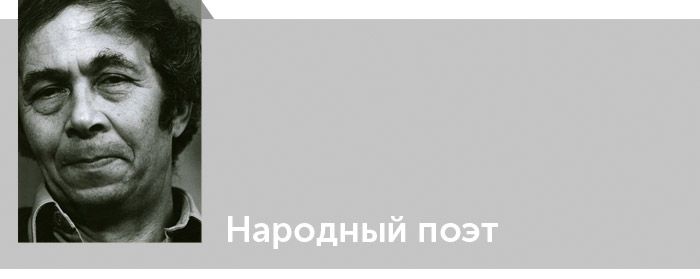Реминисценции из мольеровского «Мизантропа» в романе Стендаля «Арманс»

Н. П. Орлик
В разнообразии реминисценций, обнаруживаемых в романах Стендаля, заметное место занимают цитаты, реплики, интертекстовые отсылки к мольеровским комедиям. Они не столь многочисленны, как реминисценции из Шекспира, елизаветинцев или писателей XVIII в., но более репрезентативны и значимы. Если в «Красном и чёрном» реминисценции из «Тартюфа» включаются в произведение сознательно и целеустремлённо, то в незаконченной повести «Федер» (1839) ассоциация образа г-на Буассо - неотёсанного провинциального буржуа, кичащегося трёхмиллионным состоянием и должностью вице-президента коммерческого трибунала г. Бордо, с мольеровским Журденом возникает непроизвольно, как своего рода déjà vu, литературное припоминание. Навязанная реальными обстоятельствами необходимость обучиться лицемерию как единственному, в глазах героя, способу самоутвердиться в посленаполеоновскую эпоху ведёт Жюльена Сореля в «школу» образцового святоши - мольеровского Тартюфа, фрагмент из монолога которого он цитирует накануне свидания с Матильдой, слегка корректируя слова и метод «учителя». Маска литературного предшественника позволяет герою спрятать своё истинное лицо, хотя в этой игре сохраняется опасность рано или поздно идентифицироваться с маской. Стендаль показывает эту опасность интенциально; в эпизоде объяснения с маркизом де Ла Молем мольеровская реплика «Я не ангел...» приходит герою на память внезапно, возникает подсознательно, и это - знак срастания лица с маской. Предшествующий литературный текст входит в роман на правах чужого слова, но в общем контексте произведения, актуализируясь и обрастая новыми смысловыми и образными коннотациями, «чужое» трансформируется в «своё», не теряя при этом связи с культурной традицией, прежде всего словесно-образной.
Объектом исследования в данном статье станет выявление особенностей преломления мотива мизантропизма в романе Стендаля «Арманс». Этот мотив ассоциируется в сознании французского литератора прежде всего с героем высокой комедии Мольера, а не, скажем, с Тимоном Афинским как персонажем Плутарха или Шекспира, особенно если помнить о том, что Мольер принадлежал к вечным спутникам Стендаля.
Желанием писать комедии, как Мольер, Анри Бейль был одержим в течение довольно длительного периода. Он многократно перечитывал любимого из классиков и рецензировал «для себя» современные театральные интерпретации его произведений. Связывая свое будущее с комедиографией, Бейль стремился постичь законы комического, овладеть приемами сценического их претворения. Обнаружив, что Мольер не вызывает у современной публики смеха, Анри Бейль приходит к выводу об исторической изменчивости форм комического, не отказываясь вместе с тем от убеждения, что автор «Тартюфа» и «Мизантропа» - национальный гений. Лишь убедившись (или убедив себя), что комедией XIX в. станет роман, Стендаль утрачивает острый интерес к драматургии, но Мольер навсегда остается в литературной ментальности писателя, эксплицируясь в прямых и скрытых цитатах, мотивах и образах, вызывающих ассоциацию по сходству с персонажами комедий Мольера.
«Мизантроп», наряду с «Тартюфом» в 10-20-е гг. - объект долгих и интенсивных размышлений Стендаля - и в перспективе драматургических опытов и в перспективе самоизучения (Анри Бейль разрывался между стремлением к социальному общению и склонностью к мизантропии). Бейль трактовал «Мизантропа» как образец серьезной комедии, но смотрел на нее сквозь призму романтической драматургии Альфьери и критические суждения весьма почитаемого в молодые годы Руссо. Он находил в «Мизантропе» существенные изъяны и намечал способы «исправления» пьесы. Подобная креативная игра очень занимала Анри Бейля, и ее следы сохраняются до конца его жизни: он переведет на французский язык, во многом переиначивая, старинные итальянские хроники, заново перепишет роман м-м Жюль Готье «Лейтенант» (сначала предлагая автору лишь ряд исправлений) - из переделки родится оригинальное стендалевское сочинение - роман «Люсьен Левен». В юности он планировал создать своего «Гамлета» и своего «Отелло», свой «Потерянный рай» и свою поэму «Искусство любви» (История науки обольщения») - этот замысел осуществится в эссеистической книге «О любви». Стремление переделывать и исправлять выражено на многих страницах его «Дневника». Это формулируется как задача: «исправлять великих поэтов, делать записи о том, как их надо играть». Он находит в корнелевском «Сиде» много мест, нуждающихся в исправлении: «стансы в конце первого акта - не что иное, как суд разума человека над движениями его сердца, а это доказывает, что он захвачен не целиком. Химена слишком часто обращается к Сиду на «ты», что лишает пьесу восхитительного смешения «ты» и «вы». Исправить это». Анри Бейль собирается переделать на французский лад Гольдони, находя естественность его персонажей «восхитительной». Но если свой «Гамлет» или новый «Сид» так и не появились, то «исправленный» «Мизантроп» существует - и не только в дневниковой записи от 28 августа
Критическое отношение Стендаля к комедии «Мизантроп» порой зависело от неудачной сценической интерпретации. Так, в уже упоминавшейся дневниковой записи от 28 августа
Несмотря на многочисленные придирки к стилю комедии «Мизантроп», «чересчур образному», Стендаль не убирает ее из числа выдающихся произведений, называя «второй или третьей комедией в мире, если даже не первой», хотя и уподобит в «Дополнениях» к «Расину и Шекспиру», «великолепному сверкающему дворцу, сооруженному с огромными издержками». «Мне скучно в нем, и время в нем тянется медленно». В этом смысле более предпочитаемыми для Стендаля окажутся «Плутни Скапена» (какая выразительная историческая инверсия - Буало тоже противопоставлял эти две комедии, отдавая пальму первенства «Мизантропу» и упрекая Мольера в пристрастии к фарсу в «Скапене»). Стендаль сверкающему и скучному дворцу-«Мизантропу» противопоставляет «хорошенький загородный дом, очаровательный коттедж, где сердце мое радуется, где я не думаю ни о чем серьезном». Этот метафорический образ вызывают в нем «Плутни Скапена».
«Мизантроп» в стендалевской рефлексии предстает как произведение, которое можно и нужно усовершенствовать. В рецептах по улучшению комедии Стендаль, по существу, набрасывает план произведения другого жанра с осовремененным Альсестом. Частично этот план претворится в романе «Армане», где мотив мизантропии героя и ассоциация с литературным предшественником - один из ключей к пониманию образа Октава Маливера.
Жан-Жак Гамм, определяя роман «Армане» как палимпсест, как «текст во второй степени» (Женетт), имел в виду, что в его фабуле и в некоторой степени в образе протагониста видны следы первоисточника - скандального произведения м-м де Дюрас «Оливье». На ее фиктивного двойника Стендаль, склонный к мистификациям, ссылается в предисловии, где выдает себя за редактора романа, написанного великосветской дамой, которая «сочла бы, что состарилась на десять лет, если бы ее имя стало известно. К тому же подобный сюжет...» Отточие, недоговоренность в последней фразе - своего рода реклама, обещающая читателю произведение в духе м-м де Дюрас. Обставляя образ Октава де Маливера обилием тайн, разгадываемых или не поддающихся декодировке — экзистенциальных, как экзистенциальна смута страстей шатобриановского Рене или Лелии Жорж Санд, писатель идет по стопам романтиков, с которыми его объединяет общая борьба за новое искусство и интерес к герою-современнику, но от которых отталкивает то, что Стендаль называл пафосом и напыщенностью стиля. В палимпсесте романа «Армане» важен мольеровский слой, обогащенный романтическим опытом изображения неадаптивной личности.
Нельзя не заметить, что большая часть постоянных эпитетов, характеризующих нрав или настроение героя, принадлежит словарю романтиков. Акцент сделан на странности, исключительности, мрачности, загадочности, одиночестве, неистовости страстей. Более десяти раз повествователь называет Октава де Маливера мизантропом. Разность ситуаций, вызывающих мизантропизм героя, и разность интонаций повествующего о проявлениях мизантропизма создает широкий коннотативный фон для слова, интертекстуально отсылающего к мольеровской комедии.
Уже на первых страницах романа, рисуя портрет героя, повествователь завершает его констатацией: «Октав слишком рано стал мизантропом». Мотив мизантропизма далее появляется в форме семантической дешифровки его содержания: «человечество внушало ему отвращение». Упоминание о мизантропическом тоне Октава, «рассмешившем двух внучек герцогини де *», вносит иронический компонент в позицию героя, болезненно переживающего повышенное внимание к нему в свете после возвращения его семье богатства. В стилистике комического предстает и прямая ссылка на Альсеста в ситуации неадекватной реакции Октава на атаки дам, имеющих незамужних дочерей: «Октав становился мизантропом и брюзгой, подобно Альсесту, как только речь заходила о девушках на выданье. В этом контексте сказывается стендалевское критическое отношение к позиции и образу мольеровского героя. Лишенный, на взгляд романиста, внутреннего драматизма и сложных психологических коллизий, которыми в избытке будет наделен Октав. Альсест скорее брюзга, чем мятежник, скрывающийся за маской мизантропа. В отличие от непоколебимой приверженности Альсеста к недовольству и обличению, мизантропия Октава излечима: в минуты внутренней гармонии, которую он обретает в любви Армане, его «угрюмая мизантропия» - пусть не надолго - оказывается побежденной. Маркиза де Маливер считает, что отвращение к людям глубоко укоренилось в душе ее сына, но не знает причин этого душевного недуга.
Новую коннотацию в понятие «мизантропизм» внесла литература романтизма и прежде всего байронический герой, черты которого обнаруживают в Октаве многие персонажи романа. Пришедшие из литературы слова и образы выступают денотатами, когда нужно описать характер, выпадающий из общего ряда. Командор де Субиран видит в своем племяннике одновременно Мессию и Люцифера, а старые аристократы узнают в Октаве черты англичанина и называют его мизантропию «высокомерием и хандрой».
В самом конце романа Стендаль-повествователь вновь возвращается к мотиву мизантропии. После прочтения мнимого письма Армане разочарование героя в людях (именно такое наполнение слово «мизантропизм» приобрело у романтиков) достигает апогея: «люди стали казаться ему существами чужой породы, и уже ничто не трогало его».
В слоях литературной генетики образа Октава рядом с Альсестом можно обнаружить незримое присутствие шекспировского Гамлета, страдающего от раздвоенности на сломе эпох, Дон Кихота с его стремлением воплотить в жизнь идеалы истинного рыцарства и трагикомическими последствиями реализации рыцарской утопии. Такой же утопией благородства и призванности аристократии живет герой романа «Армане», никак не связывая пошлость жизни парижских салонов или утрату чести командором де Субираном с необратимыми изменениями, происшедшими с аристократией в постреволюционное время. Коллизия, перенесенная в сознание героя, порождена временем: в нем разрушительно столкнулись идеальное и обязывающее прошлое с его высокими понятиями долга, чести, благородства, и несовместимое с ним настоящее с его идеями равенства, неприятием привилегий, культом научного знания и рационалистической логики, философией либерализма и утилитаризма. Раздвоенность героя проявляется в контрасте его светской жизни и сомнительных ночных кутежей, изысканной воспитанности, внутренней культуры и благородства и внезапных приступов агрессии, безудержного буйства. Раздвоенность изображена и на уровне выразительной подробности, знаковой детали: Октав читает поочередно ультрароялистскую и либеральную газеты, тут же сжигая их. Эти жесты символичны, как и предполагаемое мужское бессилие Октава, прочитываемое как символ деградации, ухода аристократии с исторической сцены. Стендаль, который любит подсказывать или наталкивать читателя на определенный вывод, вкладывает в уста героини рассуждение на эту тему: «Очень грустно в нашем возрасте решиться до конца жизни быть с теми, кто обречен на поражение». Чуть дальше: «Мы не порываем с нашей партией лишь потому, что хотим разделить с нею её поражение».
Стендаль в предисловии к роману иронизирует над романами, «с ключом», предупреждая, что бессмысленно искать конкретного прототипа Октава де Маливера, и намекая на обобщенный характер образа. Ключом к разгадке странностей героя должно стать время, точно обозначенное - эпоха реставрации. Но в качестве ключей могут выступать и литературные герои, параллели с которыми возникают в тексте или угадываются между строк. Очень часто сходство уточняется по смежности. Г-жа де Маливер боится, что её сын, выпускник Политехнической школы, увлеченный научными занятиями, «закончит свою жизнь, как гетевский Фауст», но, оказывается, в лабораторию ученого Октава влечет не столько страсть к познанию, сколько возможность «отгородиться, подобно Ньютону, от мирской жизни», замкнуться в её стенах, как в келье. Влечение к монашескому затворничеству наталкивается на преграды родового долга и религиозного вольнодумства, сформировавшегося под влиянием «вредных» книг философов-безбожников XVIII в. (Октав читает сочинения Вольтера, в частности, цитирует «Магомета», Гельвеция, Бентама, Бейля).
Референция к романтическим образам, уже вошедшим в культурный фонд образованных людей, идентификация и самоидентификация с ними заметна в тех характеристиках, которые дают Октаву разные персонажи, включая рассказчика, она присутствует и в самоопределениях героя. Не менее важна для Стендаля референция к классическим мотивам и образам, в том числе мольеровским.
В романе «Армане» реминисценции из комедии Мольера «Мизантроп», эксплицируемые лапидарно, но настойчиво и многократно, включают не только художественное содержание понятия «мизантропия», вложенное Мольером, но развивают его, дополняя образно-семантическими обертонами романтической эпохи. В образе Октава, при всей социально-исторической датированности характера героя и высокой степени его индивидуализации, «различимы» мольеровский Альсест, герои байроновых поэм и сам Байрон. Таким образом, художественная семантика образа мизантропа в романе Стендаля оказывается прирастающей, создавая перспективу новых смыслопорождений.
Л-ра: Від бароко до постмодернізму. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 8. – С. 195-200.
Произведения
Критика