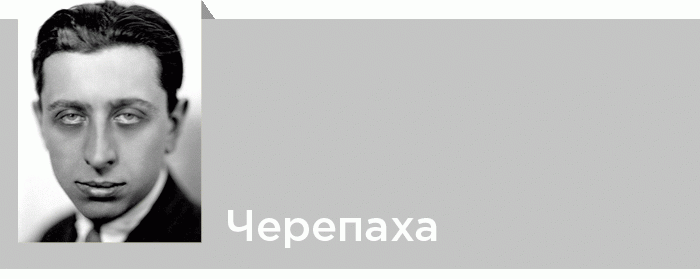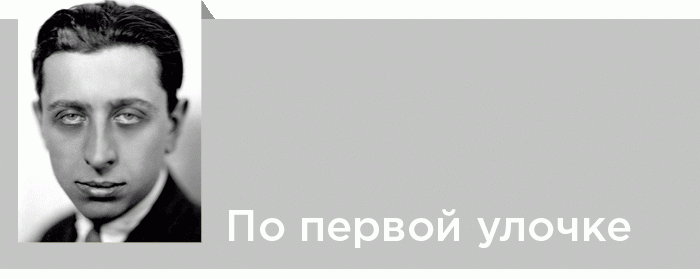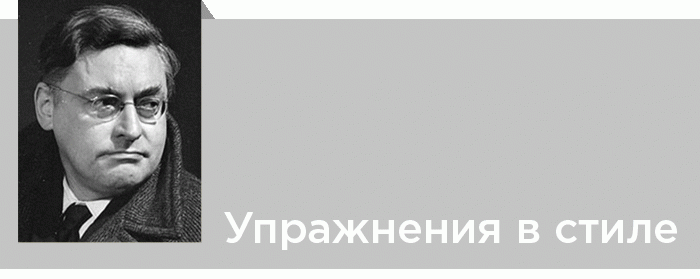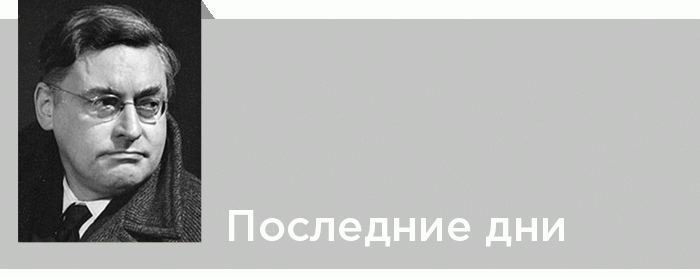Рэмон Кено и теории «нового языка»
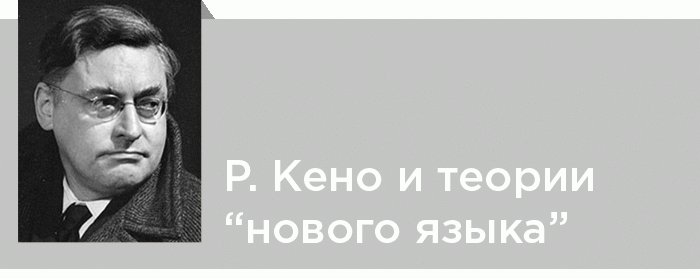
Т. В. Балашова
Рэмон Кено, как и Жак Превер, — поэт, виртуозно играющий со словом. Их блистательные находки — это обретения реалистической поэзии, владеющей всеми богатствами игровой техники. Но где-то, совсем близко пролегала грань, за которой техника могла стать самоцелью. Выказывая пренебрежение к содержательности образа, инициаторы многих формалистических групп требовали сосредоточить внимание только на слове (или букве), на элементах языка. Здесь таилось опасное для искусства противоречие: слово как элемент языка само содержательно; внимание к нему не означает еще отказа от целостности поэтической мысли. Если слово противопоставлено мысли, подразумевается, как правило, слово обессмысленное. Из-за неясного представления, какое именно слово имеется в виду, на эстетические споры опускалась пелена тумана. В нем теряли порой свой путь и художники достаточно искушенные. Творчество Рэмона Кено — характерный пример движения по самой границе двух сфер.
Ноябрь
Инициатором создания группы УЛИПО был малоизвестный поэт Франсуа Ле Лионэ, но знаменем ее сразу же стало имя Рэмона Кено (Raymond Quéneau, 1903-1976). Причин для этого было достаточно. Во-первых, Кено активно поддержал поставленные группой задачи, предложив для публикации и ряд своих произведений. Во-вторых, имя Кено давно ассоциировалось с реформой литературного языка. Кено заявил о необходимости коренного пересмотра всей системы литературной речи еще в конце 30-х годов («Написано в
Из поэтов XX в. Р. Кено с наибольшей теоретической основательностью занялся проблемами поэтического языка. Он сделал в этой области не меньше, чем для своею времени, например, Франсуа Малерб, хотя цели здесь были почти противоположными. Реформа Малерба предлагала искать «максимально точное изложение мысли» основу классической поэтики. «Проводившаяся Малербом работа по разграничению синонимов, утверждение им необходимости изыскивать так называемые «mots ргор res» в известной мере способствовали осуществлению этой задачи. Но одновременно отказ от употребления переносных значений, от расширения смыслового спектра слова вел к оскудению образности, давал перевес рассудочному началу над эмоциональным». Совершенно в новых исторических условиях, в нашу эпоху, Р. Кено поставил перед французским языком задачи иного свойства: расширить смысловой спектр, сталкивая и сопоставляя синонимы, омонимы, максимально усиливая насыщенность переносных значений: он продолжил дело более близких своих предшественников — поэтов конца XIX в. и отчасти сюрреалистов, но, будучи не только писателем, но и литературоведом, много сил отдал осмыслению, теоретической аргументации процесса обогащения поэтического языка.
Слава Кено — реформатора языка — достигла вершины как раз к моменту рождения УЛИПО: в
Вступление Р. Кено в группу УЛИПО нельзя, таким образом, считать случайностью. Но заключить, будто творчество Кено — это и есть высшее воплощение формалистических целей УЛИПО — более чем опрометчиво.
Манифест УЛИПО хорошо вписался в контекст атмосферы 60-х годов, когда формалистические группировки пленяли многих универсальными обещаниями.
Вопрос о взаимоотношениях Рэмона Кено с авангардистским экспериментом — один из аспектов вопроса более общего: какими путями шло новаторство в искусстве XX в.
Первые публикации Рэмона Кено появились на страницах «Революсьон сюрреалист». Кено не увлекался ни составлением теоретических манифестов, как Бретон или Супо, ни практикой автоматических сновидений, как Деснос. Связи Р. Кено с группой были не очень прочными.
Сам Кено объяснял свою, несколько стороннюю, позицию застенчивостью характера: на сюрреалистских раундах она не ценилась. «Второй манифест сюрреализма» Кено уже не подписал, и с той поры его имя под общими декларациями больше не появлялось (как не было его, кстати, и под нашумевшим манифестом против Анатоля Франса — «Труп», 1924).
Рэмону Кено импонировало в сюрреализме лишь напряженное внимание к языку, расположенность к игре аллитерациями, омонимами, скрещениями понятий. Причем увлекала его не столько сложная ассоциативность (основное в художественной программе сюрреализма), сколько звукопись, рождающая мгновенный — без опосредованных ассоциаций — эффект.
Характерно стихотворение «Les ziaux», где образ сверкающих вод (les eaux) и образ смотрящих в их зеркало глаз (les yeux) сливаются в общую для них звуковую субстанцию (les ziaux). Когда появляются озера глаз и глаза воды, когда разбушевавшиеся волны моря вредят дневным заботам (nuitent le jour) и звучат таинственным заклинанием в ночи (jurent la nuit), поэтическая картина возникает благодаря необычному звуковому оформлению обычных по сути своей метафор (les eaux—les yeux; le jour—jurent; la nuit—nuitent).
Птицы, взрезающие ножницами стремительных крыльев полотно небосвода (oiseaux—ciseaux); дерево, несущее в протянутых к небу руках яркую зелень листьев и золото плодов (arbre, се bras); крестьянская ферма, где
Корова разродилась пушистым
теленком,
бык пьет у водопоя, курица клюет, кот прячется на чердаке сарая, лошадь, впрягшись в телегу, тащит мешки...
le fermier fume.
Фермер курит.
«Forme de la ferme»
Сквозь эти сочетания, позволяющие каждому живому существу вести свою мелодию, постепенно проявляется — как на опущенной в химический состав пленке — природная гармония, радость общения с дружественной вселенной.
Это отчетливо и в первой стихотворной книге Кено «Дуб и пес» (Le Chêne et le chien, 1937), и в сборнике «Вода-глаза» (Les Ziaux, 1943), и в издании, ставшем своеобразным избранным, — «Если ты думаешь...» (Si tu t’imagine, 1951), и в поэтических циклах с характерными для Кено названиями «Прогулки по городу» (Courir les rues, 1967), «Деревенские прогулки» (Battre la campagne, 1968). Доверчивое, «открытое» отношение к миру, естественный демократизм побудили Кено, несколько неожиданно для такого эрудита, теоретика языка, литературоведа, написать в
Если ты думаешь, если ты думаешь, если, девчонка, думаешь ты, что так, что так будет вечно — бездумно, беспечно, когда бесконечно улыбки вокруг, и весна, и цветы, то знай, девчонка, поверь, девчонка, девчонка, пойми: ошибаешься ты...
Перевод М. Кудинова
Р. Кено и не подумал отнестись к такому успеху свысока. Наоборот, он им гордился. Словно напоминая о своей причастности к этой популярной песне, он так и назвал два года спустя книгу своих избранных стихов — «Если ты думаешь» (1951).
Так появляется очень французский, словно давно бытующий в языке глагол pleurir (смеяться сквозь слезы), так переосмысляются иностранные слова, побуждая набережную (au quai) звучать радостным приветствием (о’кэй), а деловое рукопожатие (shake-hand) оценить по количеству получаемых купюр (chéquandèrent); так рождаются образы с двойным и тройным подтекстом. Например, в стихотворении «Идет дождь» la parapluie — не только зонт, но и сильный дождь (в параллель к стоящим рядом неологизмам paragouttes, paraverse — паракапли, параливень); в результате каждый элемент стиха как бы излучает два-три различных значения. Но значения эти соединены не случайной, «абсурдной» связью, как положено в сюрреализме; они, напротив, составляют единую систему, укрепляя целостность произведения.
Виртуозность техники экспонирует здесь не самое себя, а своеобразное эстетическое освоение мира. В этом русле и шло, как правило, новаторство Кено, хотя бросающаяся в глаза виртуозность давала критикам повод приравнивать эксперимент Кено к эксперименту формалистическому.
Если воспроизводимое поэтом полнозвучие вселенной уже побуждает обособить звукопись Кено от простых упражнений со словом, то еще определеннее содержательность игрового образа Кено в стихотворениях, социально заостренных.
В поэме «Дуб и пес» звукописью явно усилена идея взаимозависимости человека и общества. Автор, начиная этот автобиографический «роман в стихах» (так определен жанр), задает себе вопрос — почему именно оставшееся позади, почти забытое кажется ему теперь ключом для понимания настоящего.
Pourquoi donc ce retour, Но почему же так тянет назад?
et pourquoi cette persistance toujours? Зачем постоянно в детство возврат,
pourquoi cette perséverence и эта настойчивость, и колебания,
et pourquoi cette pestilence? и раздраженье, и весь этот яд?
Перевод М. Кудинова
В оригинале нет ни «колебаний», ни «раздражения». Есть, напротив, упорство, граничащее с фанатизмом. Благодаря близости слов — persistance, persévérence, pestilence (настойчивость, упорство, наваждение) — энергия памяти предстает неумолимой. Задавая вопрос, поэт одновременно и отвечает; отвечает самой формой вопроса: он возвращается к событиям своей жизни, к опыту пережитого, потому что хочет подвести итоги, оценить совершенное.
«Дуб и пес» (1937) — первая поэтическая книга Р. Кено. Может быть, следует считать закономерным, что автор не включил в нее ни одного из своих ранних «автоматических» опытов в духе сюрреализма.
Форма «романа в стихах» близка «Зоне» Аполлинера: перо Кено движется здесь как бы в русле поиска нового эпико-лирического жанра, когда поэту уже тесно в рамках субъективного самовыражения и он начинает отдельными штрихами, фрагментарно набрасывать картины окружающего, постепенно поднимаясь по ступеням обобщения.
Уличные сценки, диалоги, мгновенные впечатления, бытовые детали, а сквозь них — чуть приглушенный голос истории: школа, превращенная в госпиталь, солдат-бельгиец, держащий вместо ружья длинный батон-бутерброд, легковесно-воинственный клич «На Берлин!» (à Berlin en berline!), заученные слова пренебрежения к «евреям и демократам» и первый опыт оценки «общественного мнения»:
Ainsi j’appris à suspecter Я научился относиться подозрительно
la véracité des gazettes, К правдивости прессы,
à calmement envisager И совсем спокойно
une vraisemblable defaite. К возможному поражению в войне.
Здесь снова вступает в действие излюбленная Кено звуковая игра: предыдущие строфы воссоздавали агрессивность газетной пропаганда, раздувавшей националистические настроения. И хотя слово voracité (буквально — «ненасытность») так ни разу и не появилось, оно просвечивает сквозь véracité; шовинистическую озлобленность кое-кому выгодно выдать за единственно верную реакцию на войну — таков смысл этого раздвоения — véracité/voracité. Способ двойного прочтения слов рождает своеобразный лаконизм стиля Кено.
Это свойство ценил Кено и в современной живописи. Он много раз говорил, что не видит «никакой границы меж поэзией и живописью», сам любил рисовать и сопровождал рисунки строчками стихов. Кено охотно объяснял значение цвета в картинах Вламинка, расшифровывал самые трудные полотна Хуана Миро, замечая, что сначала надо научиться такому языку — le miro, а потом уже «читать» картины. Интерпретации Кено часто кажутся весьма субъективными, но нам важнее сейчас почувствовать, что именно заставляло Кено раскрывать тайны живописного языка. Кено хочет от любой детали протянуть нить к определенному понятию, настроению (он увлеченно поясняет, откуда шесть глаз на лице, что означает веко в форме следа от лапки птицы, как соотносятся между собой линии воздетых к небу рук и очертания лунного серпа, и т.п.). Поэт уверен: «картины Миро изображают» окружающее. Эта уверенность побуждает Кено выводить Миро за рамки сюрреализма: «Миро никогда не был сюрреалистом, хотя и использовал «методы» сюрреализма... Живопись Миро далека от сюрреалистической, потому что обычно его сюжеты реалистичны, а техника живописна... У Миро нет ни часов из мяса, ни фантастических пейзажей, ни швейных машинок, спешащих на велосипедах вдоль авеню Опера...
Нет. Картины Миро изображают (représentent) то собаку, лающую на луну, то руку, протянутую, чтобы поймать птицу»
Попытка противопоставить структуру картин Миро структуре сюрреалистических полотен не убедительна, но весьма характерно само стремление Кено видеть в каждой из картин «совершенную пластичную конструкцию, поддающуюся объяснению» (construction parfaitement plastique et explicable). Способность произведения изображать мир и быть понятным вовсе не является для Кено анахронизмом; напротив, эти качества оценены высоко. Так же, впрочем, как и соотнесенность книги или картины с конкретной исторической ситуацией. Не случайно, например, одно из произведений Вламинка Кено датирует следующим образом: «через пять месяцев после шестого февраля, через полтора года после захвата власти Гитлером, за год до войны в Абиссинии и за два года до войны в Испании».
Путь, которым идет Кено в расшифровке картин своих современников, помогает лучше понять специфику его собственного творчества. Многоаспектно звучащее слово, столь характерное для Кено, является как бы ключом для открытия целостного смысла стихотворения. Причем Кено не расположен искать особый, «метафизический» смысл, он гораздо охотнее воскрешает различные аспекты его каждодневного преломления, позволяя почувствовать значительность обычного восприятия.
Напоминая, что мир должен быть передан в движении, Кено имеет в виду прежде всего внутренний мир, вернее, «внутренние миры» очень разных индивидуумов — «пленника, страшащегося дубинки конвоира... рабочего у конвеера, римского папы на троне... продавца скобяных товаров, укротителя диких зверей, акробата, дворника, художника».
Разгадка — над чем смеется, почему негодует автор? — дана, как правило, языком звукописи. Ответ тоже не прямой, он должен быть «услышан» при необычном соположении элементов звукового ряда.
Неоднократно высказывалось мнение, что у Р. Кено есть только одно «ангажированное» стихотворение — «К другим» (1933, сб. «Роковое мгновение» — Instant fatal, 1946). Однако чтение уже первой его поэмы открывает, как мы видим, поэта, достаточно ясно определившего свою позицию по отношению к тому, что волновало его современников. Оценка критикой стихотворения «К другим» — случай, весьма характерный для понимания критериев, по которым отделяют порой строки «ангажированные» от «аполитичных».
Приводим это знаменитое стихотворение Кено:
Поскольку оправдать согласны вы удары дубинок и плетей, и полумрак тюрьмы, и цепи узников, и раны, и кошмары, — все то, что отрицаем мы;
поскольку по душе вам бедность и богатство, злодейство и добро, подачка и кулак, и троны королей, и храм, и святотатство, — что нам не по душе никак;
раз можете терпеть, чтоб добрый был в несчастье, безропотный — в тюрьме, а за стеной тюрьмы и горе вечное, и глупости всевластье, — все то, чего не терпим мы;
раз говорите «да» страданьям человека, зачем свой хлеб тогда макать в похлебку нашу, и к нашему вину зачем припали вы?
Перевод М. Кудинова
Здесь нет привычной для пера Р. Кено звуковой игры, нет полутонов, которые обычно создают у него целостную картину бытия. Здесь мир, напротив, расколот на две половины; похоже, что именно их непримиримость мешает поэту «услышать» созвучия, «увидеть» соцветия. Меж этими мирами созвучия нет. Напряженностью контраста обусловлен особый поэтический регистр. Но опасно было бы считать, будто при ином регистре определенность социальной идеи исчезает сама собой. Здесь-то и важно увидеть, что критерий «гражданственности», «ангажированности » не может быть соотнесен только с рисунком стиха. Если априорно считать, что в социально-значимой поэзии допустима только простота без виртуозности, тогда, конечно, критерии водораздела будут чисто формальными. На самом деле общественное звучание поэзии различимо при самых разных голосах — громком и тихом, суховато-сдержанном и виртуозно-метафоричном. Поэтому, обособленность стихотворения «К другим» — только в форме выражения того эмоционального настроения, которое характерно и для многих других произведений Кено.
Действительно, Кено ни разу в дальнейшем не повторит этого противопоставления «мы—вы», ни разу не вернется к такой прямой непримиримо-бичующей интонации. Но он постоянно будет ощущать себя все-таки среди тех, кто объединен здесь словом «мы». Знаменательно, пожалуй, что и военное время воспринято Р. Кено как бы изнутри того множества, которое голодало, мерзло, терпело всяческие лишения («Несчастные, «Старость» — сб. «Роковое мгновение»). Лирический герой его стихов военной поры страдает, видя, как по саду Тюильри, площади Конкорд и набережным Сены разгуливают самодовольные оккупанты. Рефрен:
Morte est
Mort est Paris. Мертв Париж.
— придает стихотворению «Горе мое — сад Тюильри» (сб. «Роковое мгновение») интонацию неизбывной грусти. Поскольку ритмика этого стихотворения воскрешает «Мост Мирабо» Аполлинера, легко проявляется и подтекст: мертв Париж, воспетый Аполлинером, попрана французская культура, под угрозой само существование нации. Бездействовать в этих условиях Кено не захотел: он стал членом Национального комитета писателей. В статьях
Многим это казалось парадоксальным: поэт, являющийся одним из лидеров формалистической группы, и вдруг привязан к героям, поставленным буржуазным правопорядком у подножия социальной лестницы, героям, далеким от книг и, конечно уж, от споров о форме слова. Некоторые французские и швейцарские критики мотивировали такую «несообразность» по своему: Кено болен абсурдом, все в мире кажется ему бессмысленным и несерьезным, отсюда, мол, и «чуждые» автору герои, и постоянный накал иронии. Но если судить объективно, то ирония Кено гораздо ближе спокойной крестьянской мудрости, чем разъедающему скепсису.
Печать природной грации лежит на движениях негра, подметающего улицу («Вдали от тропиков», цикл «Прогулки по городу») и рабочих, занятых ремонтом мостовой («За работой»). Равнодушно пережидают рабочие суетливый поток «господ в серых костюмах» и, «перекусив прямо на асфальте» (cassent la croûte sur l’asphalte), принимаются снова резать асфальт отбойным молотком (cassant la croûte d’asphalte). Стержневым образом размеренной, основательной работы взята идиома (casser la croûte — перекусывать, есть всухомятку), каждый член которой в ином контексте сохраняет самостоятельное значение (casser — ломать; croûte — корка, т. е. корка хлеба или верхний слой асфальта).
Р. Кено дорожит ощущением красоты физического труда. Его негр с Мартиники артистичен в своем искусстве подметать (les artistes municipaux; un art de balayer): изящно и ловко вальсируя среди машин, сгоняет он мусор в ручейки и потоки. А в глазах «артиста» застыла грусть, воспоминание об африканских реках. Этой грустью овеян каждый его жест — «с метлой с утра до вечера».
Гармония труда нарушена его подневольным ритмом. Поэт сталкивает обе интонации в ироническом стихотворении «Все время приходится рано вставать» (сб. «Пес с мандолиной» — Le chien à la mandoline, 1958), где ряды прозаических деталей, воссоздающих многолетнюю усталость, неожиданно оборваны финальной строкой:
Труд — единственная радость живущих на земле.
От зари до зари, год за годом приходится, не останавливаясь, «бежать за урожаем» («Написано 14 июля»), драить палубы («Прибытие») или отправляться по утру в цеха заводов Шнейдера и Ситроен («Дуб и пес»). Вопиющую несправедливость чувствует Кено и в факте существования резерваций для чернокожих (Гарлеми названа им улица Амели, где живут иностранные рабочие), и в запрете пользоваться общественной уборной высшей категории тем, кто беден («Бедняки»), и в отупляющей безысходности работы, которая не приносит ничто, кроме усталости.
Cet homme a mal aux pieds — misère et la fatigue ligote ses épaules.
Cet homme danse chaque de ses pas long comme des nuits d’hivers.
Человек этот чувствует боль в ногах,
И усталость навалялась ему на плечи,
И каждый шаг его, и руки взмах
Кажутся длинными, как зимний вечер.
Перевод М. Кудинова
Так описано возвращение домой водителя трамвая, который каждый раз «вдоль набережной ночью отмеривает километры износом своих подошв» («Человек трамвая»).
Везде видит Кено этих вечных тружеников: даже тени на луне рисуют ему — как в народной песне — фигуру крестьянина, согнувшегося под тяжестью вязанки дров («Луна», «Деревенские прогулки»). Те, что трудятся, вынуждены всю жизнь довольствоваться малым:
Поле в один ар, один литр вина, один кубометр дров, одна полоска пшеницы, лампочка в один ватт, дом — один квадратный метр, один сантим в кармане, а жить надо долго.
«Бедняки»
Закономерно рождается ироническое обобщение — о правах человека в буржуазном обществе — «право носить лохмотья... право ходить в сабо... право надеть саван при встрече с загробной ночью» («Все права»). Мечтая о времени, когда человек сможет наконец получить иные права, Кено направляет беспощадный луч света на тех, кто об этих проблемах сегодня и думать забыл, для кого единственная цель — отдохнуть от всяких проблем.
Одно из его стихотворений названо «Ресторация» (Restauration); в одном слове опять мы слышим сразу два: ресторан и реставрация. Общество потребления, цинично отвернувшееся от идеалов свободы, равенства и братства, действительно, сродни контрреволюции — реставрации, которая пыталась повернуть вспять колесо истории.
Вот здесь и надо искать критерии для дифференциации — эксперимент или экспериментаторство? Путь Кено к высотам мастерства лежал именно через эти поиски взрывчатого слова, которое бы мгновенно давало оценку жизненному явлению.
Бурю восторгов вызвал роман Кено «Зази в метро» (Zazie dans le métro, 1959), до сей поры ведут от него родословную новинок, виртуозных по стилю, необычных по языку. Но хором восторженных голосов был совсем заглушен голос самого романа; осталось невыясненным, что же действительно нового принесла книга в литературу. Ценность романа не просто в свободном владении народным говором, легко допускающим аббревиатуры (from вместо fromage — сыр, ltrain вместо le train — поезд, arvoir вместо au revoir — до свиданья, l’orama вместо le panorama — панорама), синтаксическую фрагментарность, перестановку членов предложения, запрещенную грамматикой и т. п., но в умении автора выразить народный юмор, душевное здоровье. Череда арготических аббревиатур и пословиц приближает к нам мир социальных контрастов, «где слабые всем надоедают», где много грязи, подлости, но простые люди помнят: «она чистая, жизнь-то», не разрешая себе опускаться до цинизма. Двенадцатилетняя девчонка-сорванец, приехавшая в Париж с мечтой покататься в метро, объясняет, чем были для нее два столичных дня: «Я постарела» — она почувствовала, как жизнь сложна. Все, кого удалось ей встретить, — это и есть нижний социальный этаж общества, который в ином — лирическом — плане постоянно ощутим и в поэзии Кено.
Романом резко выявлено своеобразие Кено — поэта, высоко интеллектуального, который одновременно «уличен, фольклорен по самому складу ума и дарования».
Однако в качестве знака новаторства французская критика гораздо чаще выбирала строки Кено иного плана, отодвигая в сторону и «Деревенские прогулки», и «Прогулки по городу». Холодная, бесстрастная, возвращающая нас к «Магнитным полям», «Маленькая портативная космогония» (Petite cosmogonie portative, 1950) Р. Кено с легкой руки одного из почитателей была окрещена «Портативной Кеногонией». В изящной игре слов — признание вроде бы характерности этого произведения для творческой индивидуальности Кено. На самом деле и замысел (описать семь дней сотворения мира), и его реализация (утомительный рассказ о процессе образования земной коры, Луны, планет, астероидов и т. п.) противоречат сути искрометного таланта Кено. Книга, названная «портативной», — самое тяжеловесное творение поэта. Здесь тоже используются ассонансы, аллитерации, переосмысляются отдельные слова-атомы. Но звуковые аккорды не задевают чувства, не волнуют ум: они призваны лишь достоверно, почти натуралистически описать биологические процессы.
Долгое время «Портативная космогония» расхваливалась критикой как совершеннейший пример новаторства. Но вот в
Король пампы выворачивает свою рубашку Возможно это были близнецы Он наклоняется и вдруг ему на удивление Кожа и эпидерма — в брожении Удивляет всех эта серая равнина Человек с вульгарным вкусом требует хороших стихов Мы продрогли так словно стоим голышом на льдине Римляне и Греки тщетно ищут свои слова Волк любит петухов и курочек акулу засолили и прокоптили с луком полковник утирает пот не выпуская из рук герба Южная Америка соблазняет экивоками Извините но нет у нас китов и тюленей млекопитающие — короли а мы их кузены.
Таков один из сонетов этой книги. «Поэзию должны творить все», — повторил Кено слова Лотреамона и предложил читателю образец «создающей поэзии» (оппозиция créations crées — créations créantes), экспериментальное произведение, где каждая из четырнадцати строк сонета напечатана на узкой, свободно листаемой полоске страницы. Разрезанных страниц — десять. Читатель, самостоятельно «сочиняя», может к первой строке первого сонета приложить третью строку второго, пятую — третьего, седьмую — четвертого, и т. п. Автор по-своему виртуозен: при любом варианте сохранена близкая ритмика, рифмуются окончания и нет разнобоя в согласовании рода и числа.
Например, двенадцатая строка первого сонета: L'Amêrique du Sud séduit des équivoques (Южная Америка искушает экивоками) — допускает следующие замены: sa sculpture est illustre et dans le fond des coqs (знаменита его скульптура, но по существу петухи...) или: enfin on vend le tout homards et salicoques (наконец продают все — омаров и криветок). Все они по ритмике соответствуют другой строке того же сонета и десяти ее вариантам — exalte l’espagnol les oreilles baroques (испанский язык возбуждающе действует на барочный слух). Такова же закономерность при иных заменах. Что касается того, что здесь лишь условно можно назвать «содержанием», оно оформлено по принципу сюрреалистических перечислительных рядов: любой штрих, любое наблюдение, обобщение (и законченные фразы типа «Человек с вульгарным вкусом требует хороших стихов», и обрывки предложений вроде «Он наклоняется и вдруг ему на удивление...») имеет право стоять рядом с другим. Ассоциация должна родиться якобы от одного их соседства. Каков характер таких ассоциаций — от строки к строке — можно видеть по сонету, приведенному выше. Впрочем, содержательность образа здесь Кено и не волнует: его увлекла чисто формальная возможность запрограммировать по 10й легко читаемых и музыкально звучащих сонетов.
Эксперимент по взаимозаменяемости строк продолжен Р. Кено в книге «Первоначальная мораль» (Morale Elémentaire, 1975), где части стиха даны в три столбика и вступают в причудливые комбинации. В «Первоначальной морали» игра ограничена более строгими рамками и чаще выводит к стихотворным вариантам, которые можно рассматривать в русле поэзии, а не азартно осваиваемой техники.
После «Ста тысяч» написаны живые, искрящиеся житейским юмором «Прогулки по городу», «Деревенские прогулки» — Кено не ощущал здесь особого противоречия.
Противоречия открываются уже в той эстетической программе, которая предложена Кено. Начиная борьбу за реформу французского языка, поэт ставил цель: приблизить литературный язык к разговорной речи, предоставить свободу тому «третьему» (по сравнению со старофранцузским и современным литературным) языку, который позволил бы наконец французам «писать так, как они говорят, а значит — как чувствуют». Это должно помочь поэзии «быть услышанной». Новый французский, воссоздавая «живую настоящую жизнь», помогает основному населению страны выразить себя, свой внутренний мир. Иначе оно почти немо. Безъязыкие — это матросы, крестьяне, чернорабочие, чьи портреты рисует Кено-поэт; они живут словно на другой планете, далекой от книг, научных гипотез, литературных споров. Но споры начаты для них для того, чтобы они почувствовали себя хозяевами в новом доме «третьего французского». Аргументируя необходимость такого новаторства, Кено хочет отграничить себя от формалистической игры сюрреализма, с одной стороны, от массовой культуры, грешащей дешевым популизмом,— с другой. Ему вовсе не кажется столь уж естественным считать «поэтическими только сочетания редчайших слов, необычные формы выразительности», он упрекает сюрреализм за стремление «видеть в образе — даже лишенном смысла — главный принцип поэзии». Восхищение поэтической темнотой высмеивает он и в стихотворении, названном почти вызывающе: «Не следует упускать из виду, что символистская поэзия — знаменитейшее создание французов». Но и вполне понятное «народное» слово, выхваченное из водоворота разговорного языка, — еще не гарант новаторства, предпринятого ради тех «безъязыких». Кено прозорливо напоминает, что арго привлекало к себе часто и «отпетых реакционеров», а «попюлистская или околопролетарская литература почти никогда не бывает левой», потому что примитивна сама и примитивны герои, которыми она занята. Чтобы создать язык, в котором соединился бы высокий интеллектуализм с природной мудростью, художнику требуется истинный такт.
При выборе точном, на точном месте
Слова отдельные, взятые вместе,
Поэзией станут.
Перевод М. Кудинова
Поэтические манифесты Кено (программных стихов такого рода у него много) почти всегда подводят нас к идее содержательного новаторства, к идее взаимопроникновения поэзии и жизни. В одном из фрагментов книги «Первоначальная мораль» он вспоминает о рыбаке, вернувшемся с реки, о домохозяйке, вернувшейся с рынка, об архитекторе, вернувшемся со строительства, о пахаре, отошедшем от плуга, и, наконец, о писателе, который ниоткуда не возвращался, но так глубоко постиг суть вещей, что в картинах, рожденных его воображением, узнал себя и рыбак, и архитектор, и пахарь. В «Деревенских прогулках» самым естественным образом возникает фигура поэта, бороздящего действительность «плугом словаря».
Пока словарь с его тайнами воспринимается поэтом как «плуг», вспахивающий целину реального, его поэзия обращена к человеку; ради него — вся искушенность богатой лексики. Но временами автор увлечен лишь механизмом «плуга», забывая о его назначении. Тогда и Кено-теоретик начинает противоречить сам себе, и вместо «волн слов», несомых к нам «морем истории», он заворожен уже возможностями чисто технического — бессодержательного — совершенства.
Сам Кено рассказывал, что его работа над «Ста тысячью миллиардов стихотворений» грозила зайти в тупик, он уже начал терять к ней интерес, как вдруг к нему обратились энтузиасты только что возникшей группы УЛИПО; это подстегнуло идею, от которой он совсем было решил отказаться. Теоретические выступления Кено в поддержку УЛИПО и предложенные им для публикации тексты вполне соответствовали формалистическим целям группы, растворились среди других ее манифестов. Сложилась ситуация, при которой «встреча» поэта с литературной группой принесла обеим сторонам вред. Кено она увлекла к берегам «чистого» экспериментаторства; в участниках движения посеяла иллюзию, будто такое экспериментаторство перспективно. На самом деле здесь начиналась эквилибристика, далекая от искусства.
«Мы не касаемся вопроса об эстетической ценности», — пояснял Кено; если удастся установить рекорд в построении крайне трудоемких структур — этого вполне достаточно, чтобы оправдать появление текста; «Эмоция, возбужденная смыслом, содержанием, конечно, будет заслугой автора... но ее значение вторично», — продолжал Франсуа Ле Лионнэ.
Конструировался своеобразный «литературный протез», который якобы позволит любому пишущему, не ожидая прихода «капризного вдохновения», создавать шедевры. Нет, этого мало, уточнил Жан Лескюр, тоже плененный новизной УЛИПО, — «наша цель сразу и скромнее и универсальнее: ...УЛИПО хочет подняться на столь же высокий уровень творческой деятельности, но по иному пути — через научное освоение элементов языковых структур». Одинаково легко будут рождаться при этом и chefs-d'oeuvres и pieds-d’oeuvres, т. е. шедевры и ремесленные поделки (антитеза chef—pied — голова/нога), но они должны восприниматься как равноценные, поскольку будут находиться на одном уровне поэтической техники. Какие же задания надо выполнить, чтобы окончить школу УЛИПО и стать вполне самостоятельным поэтом, свободным от кризисов «вдохновения»? Предложено несколько рецептов.
Методом «изовокальной» обработки преобразуется сонет С. Малларме:
Le vierge, le vivace et le bol aujourd’hui
Ya-t-il nous déchirer avec un coup d’aile ivre...
Могучий, девственный, в красе извивных линий,
Безумием крыла ужель не разорвет...
«Лебедь». Перевод М. Волошина
После замены всех слов (кроме рифмующихся) на другие, имеющие такое же количество слогов и тот же характер гласных (изовокализм) новый сонет получает следующее обличив:
Le liège, la titane et le sel aujourd’hui
Vont-ils nous repiquer avec un bout d’aine ivre.
Смогут ли сегодня пробковое дерево колба и соль
пересадить нас на другую почву с помощью края пьяного паха.
Еще больше полюбилась членам группы УЛИПО тренировка со словарем. Если при методе изовокализма, изоконсантизма, изосинтаксизма требуется все-таки усилие памяти и воображения, то метод п+7 (или п+2, п+9 и т. д.) позволяет составлять текст, абсолютно не напрягая ума. Каждое существительное, прилагательное, глагол базового текста подменяется такой же частью речи, которая окажется в словарях по порядку седьмой (второй, девятой и т.д.). Внимательно скользите глазом по колонке словаря, и вот уже рождается вместо лафонтеновских «Стрекозы и муравья» «
La cimaise ayant chaponnée tout l’éternueur
se tuba fort dépurative quand la bisaxée fut verdie.
Карниз кастрировав всех читающих
Сам себя очистил зондом когда зазеленела двойная ось...
И такие вот «наборы» слов всерьез рассматриваются как нечто имеющее отношение к поэзии!
Число подобных «приемов» можно множить до бесконечности: подобрать все существительные на п, прилагательные на а, глаголы на V, поменять прилагательные и наречия на антонимы; изменить все слова, начинающиеся с с, словами, начинающимися с d переставить в стихотворной строке первое существительное на место третьего, второе на место четвертого, и т. п. В любом случае получается текст, весьма близкий сюрреалистскому, с той только существенной разницей, что по рецептам сюрреализма подобный текст должен был «присниться», оформиться в подсознании, УЛИПО такую же заумь конструирует чисто механически. Сюрреалисты, вынужденные «придумывать», произносили порой афоризмы весьма глубокие; опыты УЛИПО от такой случайности избавлены.
Творческие взаимоотношения Рэмона Кено с группой УЛИПО показывают, как велика бывает доверчивость художника формалистическим программам и как охотно использует буржуазная наука его имя для оправдания того тупика, которого сам он то и дело сторонился, побуждаемый внутренней потребностью к созданию содержательных образов, где за любой шуткой, по словам самого же Кено, «кусок трепещущего сердца».
Преобразование речи способом п+7 или любым другим из описанных выше не имеет ничего общего с преобразованием, действительно осуществлявшимся Кено в лучших стихах разных лет. Перед нами — глубочайшее противоречие, в котором сам поэт не отдавал себе полного отчета. Критики, пытающиеся объединить такие явления общим словом «эксперимент», «новаторстве», забывают о содержательной функции искусства. Невозможно говорить о художественном мастерстве, если виртуозность бессодержательна. Техническое мастерство и мастерство художественное отнюдь не идентичны. Контраст между ними разителен, и творчество Рэмона Кено, пытавшегося идти то по одному, то по другому пути, подтверждает это.
«Случай» Рэмона Кено — характерный, весьма показательный феномен поэзии XX в. в целом. Вникнув в его суть, легче понять противоречивость общего литературного процесса, в котором одна и та же фигура может быть «представительна» сразу для нескольких, подчас взаимонепримиримых тенденций. Это вовсе не означает, как мы могли убедиться, что творчество поэта способно их примирить. Напротив, такое соседство обнаруживает еще ярче, что поэт по-настоящему находит себя только на пути новаторства содержательного.
Стремление авангардистской эстетики игнорировать этот контраст, выдав серьезное новаторство за побочный продукт формалистического трюкачества, искажает реальную картину движения французской поэзии.
Л-ра: Балашова Т. В. Французская поэзия ХХ века. – Москва, 1982. – С. 270-291.
Произведения
Критика