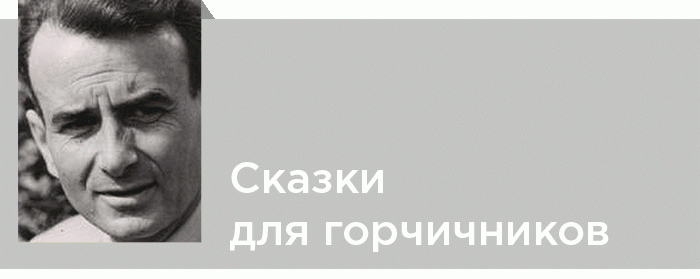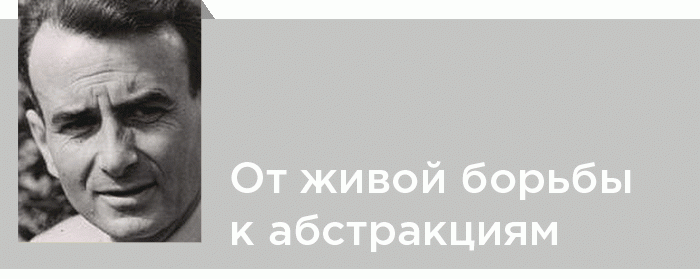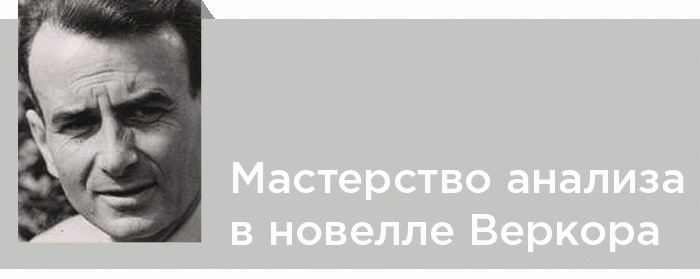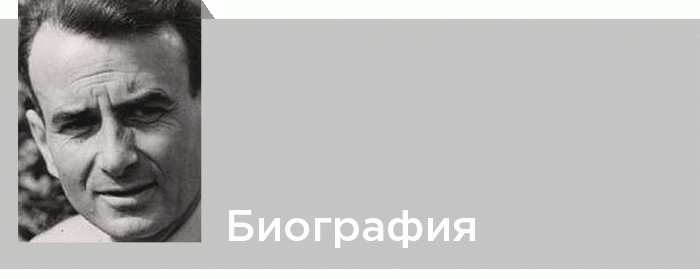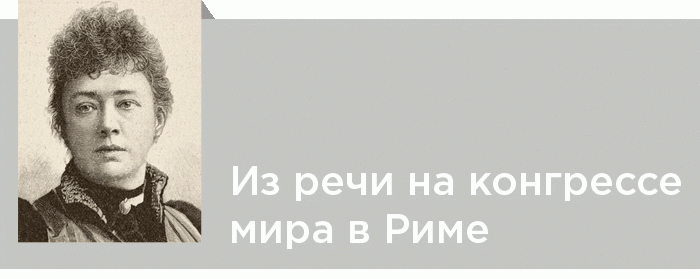Философская аллегория у Веркора
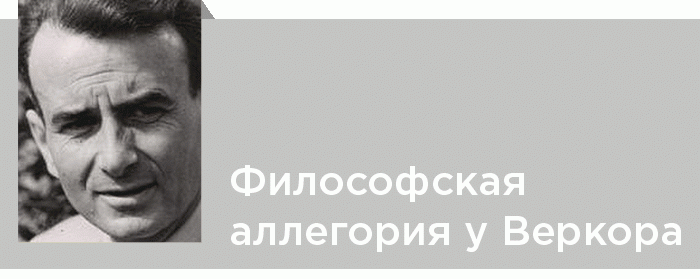
Т. В. Балашова
Перу Веркора (Vercors — псевдоним Жана Брюлера, род. в
Французские критики горячо спорят о том, можно ли называть реалистическим художественный метод Веркора. Мнение, будто слово «реализм» приложимо лишь к произведениям, похожим на «Кузину Бетту», «Пармскую обитель», «Мадам Бовари» или «Карьеру Ругонов» незримо присутствует во многих оценках.
А реализм Веркора берет исток не в XIX, а в XVIII веке, в философских повестях Вольтера. Именно на этой традиции прорастает его, веркоровское, новаторство.
Многое поразит современного читателя в произведениях Веркора.
Писатель стремится, по его собственному определению, «пробить брешь в умонастроениях, привычных с детства, и сквозь нее повести читателя к новому видению вещей»
Философскую повесть XVIII в. роман Веркора напоминает и рационалистической строгостью повествования, и «равнодушием» к глубинам психики, а главное, конечно, сочетанием фантастического сюжета с общефилософскими проблемами. Герои Веркора постигают возможности и пределы человеческого разума, как Сириус и Сатурн из «Микромегаса», спорят о злой или доброй природе вселенной подобно Кандиду; подвергают философскому сомнению блага прогресса, чтобы оптимистически заключить вместе с Простодушным: и все-таки «я... из животного превратился в человека».
Однако Веркору, конечно, не удалось бы «пробить брешь в умонастроениях, привычных с детства», если бы он только повторил великие открытия Вольтера. «Вечные» проблемы Веркора усложнены трагедиями современности: фашизмом, толкнувшим человека обратно к инстинктам зверя; расовыми теориями, указавшими «низшие» и «высшие» породы людей; вопиющей при блистательном прогрессе науки нищетой, которая «мешает людям быть людьми», низводит их до «положения самокормящей машины», как говорит с горечью профессор Мирамбо, герой «Гневных».
У Веркора гораздо больше горечи и меньше юмора, чем у гениального его учителя — Вольтера.
Не только конкретное наполнение «мировых» проблем, но и форма философского романа Веркора очень современна.
Повествование — строже, драматичнее. Субъективный — от первого лица и воскрешающий многие биографические черты автора — характер изложения продиктован активностью авторского «я» и доверием к собеседнику-читателю, который легко угадывает за простым перечислением причин, поступков, следствий мощный трагико-патетический философский подтекст, взывающий к его человеческой сущности.
Эльза Триоле рисует схватку между завтрашним и вчерашним днем, Веркор идет вглубь, к истокам, к исследованию существ, стоящих на рубеже животной и человеческой истории. Из множества проблем, обрушивающихся сегодня на художника, Веркор «заболел», по существу, одной: где начинается человек? Чем отличается от зверя?
Так родились фантастические повести «Люди или животные» (1952) и «Сильва» (1961) — о человекоподобных обезьянах-тропи, и о девушке-лисе, проходящей «воспитание чувств» от инстинкта к проблескам разума. Невероятность ситуаций, волшебство превращений здесь «пробивают брешь», пожалуй, большую, чем того хотел автор: читатель видит в них скорее сказку, чем аллегорию, тревожные авторские вопросы о смысле бытия приглушены экстравагантной занимательностью событий.
Роман «Гневные» (1956) — манифест активного участия интеллигенции в битвах современности — воплотил индивидуалистическую изоляцию поэта Эгмонта в картинах патологического, насильственного умерщвления сознания; «Кругосветное путешествие» воспроизвело политический казус, который трудно отыскать в действительности: Лепретр, человек, яростно сражавшийся в
В «Господине Прусте» (втором томе цикла «На этом берегу») изображено чудовище, объятое эротической страстью: чтобы чувствовать себя здоровым, ему нужно время от времени прокалывать золотой булавкой обнаженную женскую грудь. Герой «Декабрьской свободы» — Гектор Гранваль — существо по сравнению с господином Прустом банальное, но он отнюдь не «банален» с простой, человеческой точки зрения: деля ложе попеременно с женой, матерью жены и падчерицей, он доводит женщин до безумия и самоубийства, а сам тем временем готовит себе кресло члена Французской Академии.
В «Людях или животных», «Сильве» (и в пьесе по мотивам романа «Люди или животные» — «Зоо», поставленной Национальным Французским театром осенью
В романах цикла «На этом берегу» животных в обычном понимании слова — нет. Лепретр (герой «Кругосветного путешествия»), господин Пруст, Гектор Гранваль — согласно данным анатомии — люди. Но, — говорит Веркор, — «человеческая анатомия ничего не значит. Сущность человека проявляется в сфере, далекой от анатомии».
Название третьего тома цикла — «Декабрьская свобода» символично: Гектор Гранваль создает научное описание найденной при раскопках фрески: «мрамор запечатлел римлян-рабов во время декабрьских сатурналий, когда им предоставлялась полная свобода делать, что заблагорассудится».
Веркор, защитник человеческой индивидуальности от политического и расового гнета — активно выступает против той «свободы», что попирает законы людского братства, унижает окружающих.
Герой первой части цикла Лепретр (буквально Проповедник) в известном смысле антипод экзистенциалистским героям «свободной воли». «Свободно» выбирая то один, то другой политический лагерь, Лепретр перестает быть человеком, превращается в машину, вычисляющую «эффективность» той или иной избранной позиции. Он спокойно рассуждает о том, что стихи его друга (рассказчика) прекрасны, но как еврей он должен быть уничтожен; он пытается сохранить противоестественную ситуацию: по вечерам друзья встречаются, беседуют об искусстве, а днем сражаются по разные стороны баррикады. Решение товарища положить дружбе конец удивляет Лепретра: зачем выдумывать картонный мирок, если в реальном мире любовь неотделима от смерти? Но его политическому противнику такая диалектика кажется кощунственной: человеку ведь трудно убить того, кого любишь и трудно любить того, кто с твоей точки зрения заслуживает смерти.
«Если я жил в картонном мирке, то Лепретр — в мире животной дикости, где то предаются любви, то дерутся, в зависимости от часа и времени года».
Вот с этими пережитками законов джунглей в людском общежитии и требует покончить Веркор. Его протест гневен и патетичен, он обретает особую силу благодаря классицистической чистоте повествования, намеренно освобожденного от описаний, развернутых характеристик, даже эпитетов. Форма «Кругосветного путешествия» почти математически точна, хронологическая канва отчетлива и последовательна, деление на главы аккуратно соответствует изменению ситуаций. Автор, по существу, показывает лишь внешнюю сторону поступков, поясняя их лаконичными репликами героев.
И эта манера повествования имеет свое оправдание.
Так же, как Арману Лану нужен сложно-ассоциативный сюжет, чтобы воссоздать мучительное выздоровление героя, — так и Веркору здесь нужна эта математическая точность, чтобы выделить из общества чудовищ вроде Лепретра или господина Пруста.
Но есть в этом гневном авторском протесте против законов джунглей одна фальшивая нота. Он пытается объяснить появление монстров чисто биологически. В противовес расовой теории о «высших» и «низших» вдруг возникает теория других рас — «праведников» и «тиранов».
«Неужели, — восклицает автор, — на нашей земле существуют две расы, только две, но всегда и везде: люди требовательного и непокорного разума с их жаждой справедливости, и животные с врожденным инстинктом джунглей и вкусом власти?
Неужели даже в рядах Сопротивления, в концентрационных лагерях, даже среди поборников справедливости сосуществуют эти две расы? — Неужели они будут продолжаться — везде и во все времена?
Удастся ли когда-нибудь от этого отдохнуть?»
Согласно такой концепции даже Лепретра, монстра политического отступничества, автор пытается объяснить биологически: с детства он любит терзать и обманывать; финальная сцена, где Лепретр лично участвует в пытках своего друга тоже восходит скорее к биологической аномалии, нежели к политическому изуверству.
В последней повести цикла, сопровождающей «Декабрьскую свободу», повести «Клементина» автор отходит от биологического объяснения добра и зла. Темная неграмотная Клементина Трубер выросла в нищенской, доведенной до дикости крестьянской семье.
Проституцию она принимает как нечто естественное. Раз это дает возможность не умереть с голоду — чего же еще искать? Только в оккупированном немцами Париже, когда свободного времени у Клементины оставалось больше и мозг вынужден был занять досуг нехитрыми размышлениями, Клементине вдруг стало не по себе — то ли тоска, то ли скука, в общем хотелось какого-то счастья. А что это такое, Клементина даже не представляла.
На этот раз история как будто совсем обычная, но автор снова берет крайний, самый резкий ее вариант. Клементина почувствовала себя счастливой... в концентрационном лагере. Да, загнанная во время очередной облавы в тюрьму, Клементина находит то, чего она никогда не имела — подруг. По темпераменту уравновешенная и жизнерадостная, привычная к любым невзгодам, Клементина оказывается вдруг очень нужной остальным пленницам. Вместе с «политической» Клод Клементина незаметно для себя скоро уже верховодит среди женщин, подбадривает отчаявшихся, подкармливает ослабевших, осаживает крепким словцом нахальных. Клод погибает в газовой камере. Клементине повезло: она дождалась освобождения и после войны года два еще живет «по-лагерному»: работает в организации помощи бывшим узницам. Но постепенно ею начинают тяготиться: темная, неграмотная женщина, да еще с таким прошлым.
Все попытки Клементины найти работу терпят крах.
Она опять начинает заниматься проституцией. В итоге — полиция, суд, тупое отчаяние.
Автор заключает: «Обществу, которое не умеет, не может, не хочет принять лучших существ своих, таких как Клементина, обществу, которое вышвыривает их на задворки — самому место в помойной яме...
Когда я говорю себе, что в лагере смерти Клементина была счастливее, чем среди нас — озноб продирает по коже».
Решение, предлагаемое Веркором, очень несовершенно, но человечно по самой сути своей. «Взаимопомощь». Так называлась организация, где работала два года Клементина; так называется первый шаг к гуманным, человеческим отношениям.
«Она смотрела на все эти окна, равнодушные к ней. А ведь за этими стенами, в этих домах, бесконечных, как море, женщины опять страдают — как и в лагере: от болезней, от тоски; от того, что нет любимого, от того, что умирает в горячке ребенок; от рака, грызущего грудь, от старости, грызущей как рак, от смерти, настигающей рано или поздно — всё, всё, как в лагере.
И ни одна из них не знала, почему так. Но они ревностно запирали двери и бились — каждая в одиночку. А когда выходили на улицу, даже не глядели друг на друга».
Разбить стены, за которыми каждый думает лишь о себе, соединить руки, познавшие горе и труд, вместе восстать против общества и злоключений судьбы, — таков итог повести.
Впрочем, это скорее даже не повесть, а очерк. Автор предельно лаконичен. Каждая ситуация намечена двумя-тремя штрихами, каждое душевное состояние героини лишь обозначено. Идея — на поверхности. Финал равносилен призыву, он прямо обращен к читателю.
Как и в «Кругосветном путешествии» Веркор в «Клементине» художественно строг и открыто пристрастен, только здесь нет внезапно проступающей теории рас. Виновник назван: общество.
Крутыми, каменистыми тропами идет веркоровский реализм. Подлинная философская глубина соседствует с «биологическим» мелководьем, классицистически строгий рисунок сюжета — с фантастическими перипетиями волшебных превращений.
Реалист Веркор терпит неудачу, когда пытается наложить на социальные отношения натуралистическую схему или объяснить «воспитание чувств» современного человека эволюцией животных видов. Но его реализм снова и снова торжествует — прежде всего потому, что Веркора ведет в его поисках стремление проникнуть в сущность человека, желание «помочь человеку понять себя». Как ни горьки бывают подчас выводы писателя, взгляд его охватывает такие широкие горизонты человеческой истории, что отчаяние отступает.
Собеседнику, который саркастически кричит: «Будь проклят разум, если он позволяет осознать зло, но не может уменьшить его!» — Веркор возражает: «Даже подлость, даже падение служат доказательству человеческой чести, потому что против них — добродетель, та битва, которая неведома наивному животному».
Показать человеку силу его разума, помочь ему найти путь к другим людям — такова заветная цель Веркора. И ему непонятно, как может художник исходить из цели иной, чем человек; как может художник терзаться проблемами формы, отодвигая на второй план человека, к которому только и обращена по-существу та или иная художественная форма.
Вникая в манифесты авангардистских школ, Веркор не пытается скрыть искреннего сожаления, что он не находит в этих манифестах пищи для своей страсти. «В этих концепциях много научности, рассудительности, много знаний, мудрости, искренности, много высокомерия по отношению к другим идеям, господствовавшим ранее. Но я не нашел здесь того, чего искал. Встретил блистательные, порой даже проницательные, суждения об искусстве нового романа, но не встретил мысли о том, что же такое в действительности искусство — какой глубокой потребности человеческой души оно отвечает» Для Веркора искусство — как бы ни были причудливы, необычны или, наоборот, обнаженно просты его формы — прежде всего обращение к человеку, которого он достаточно уважает, чтобы говорить с ним на серьезном языке гуманистических философских аллегорий.
Л-ра: Балашова Т. В. Французский роман 60-х годов. – Москва, 1965. – С. 60-68.
Произведения
Критика