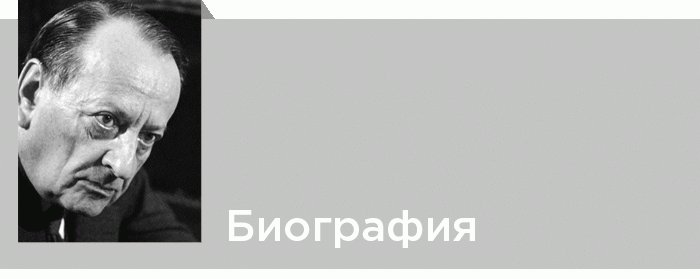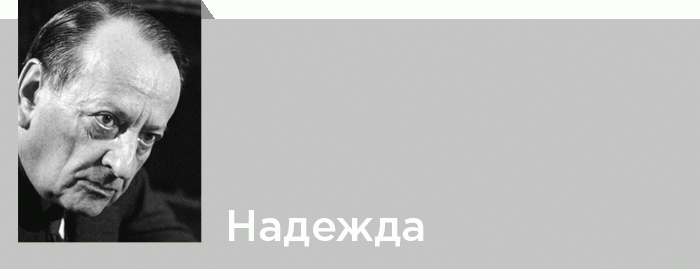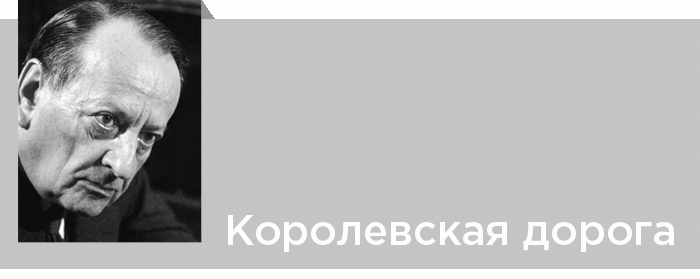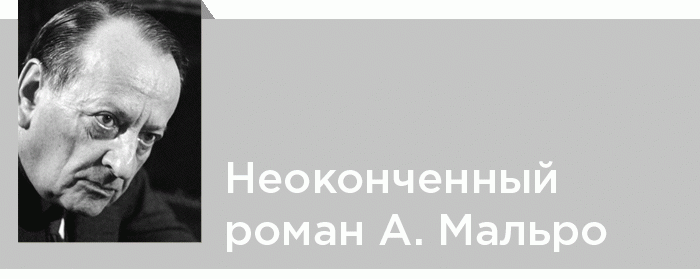Проект «антисудьбы» в позднем творчестве А. Мальро
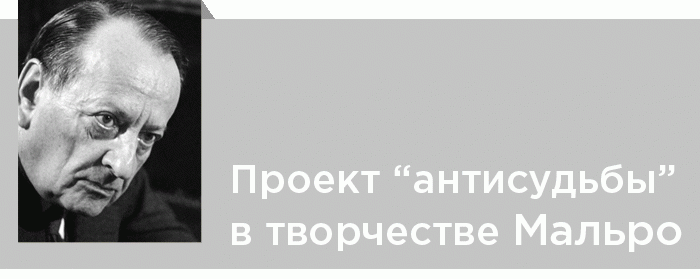
В. В. Шервашидзе
Герой Сопротивления, командир эскадрильи «Испания», командир бригады «Эльзас-Лотарингия» в годы Первой мировой войны, министр культуры в президентство де Голля - А. Мальро еще при жизни стал «живой легендой».
Зияющая бездна абсурда, в которой маячит призрак смерти, преодолевается в романах Мальро ницшеанским культом действия и проектом «антисудьбы» в его эссе об искусстве. «Судьба - это не смерть. Она состоит из всего того, что внушает человеку осознание бренности и одиночества. Иными словами, судьба - это вневременной смысл жизни, осознание человеком собственного существования.
Мальро, как и Ницше, не только фиксировал кризисность сознания, но и пытался найти средства преодоления нигилизма, «основать величие человека на самой зависимости от рока». За вымышленными персонажами и историческими персоналиями скрывается сам Мальро,«не прекращающий говорить о себе». Мальро, по его собственному признанию, «не писал романов». Он размышлял, мыслил притчами, творя новый миф «трагического гуманизма».
Последний роман А. Мальро - «Орешники Альтенбурга» (1943), написанный в период оккупации, - представляет видоизмененную романтическую модель «мифологии истории» как формы экзистенциального постижения противоречий жизни: костров из книг, лагерей смерти, геноцида, расовой ненависти, великих достижений науки и искусства. События в романе, охватывающие период от Первой мировой войны до капитуляции Франции, являются лишь испытательным полем проекта «антисудьбы» как извечного сопротивления человека злу и насилию.
Повествование состоит из разрозненных эпизодов, сплетающихся в причудливой мозаике пережитых писателем будней войны, плена, бегства из плена - с художественным вымыслом - историей семьи Берже, дискуссий Альтенбургского коллоквиума, безумия Ницше. Единство фрагментов вызревает в экзистенциальном прозрении конструктивных сил жизни, отвоевывающих жизненное пространство для утверждения «качества человека», «способного себя превзойти в сопротивлении судьбе»; «существует ли какая-нибудь величина, на которой может быть основано понятие человека?».
Мозаика фрагмента отражает, как в бесконечных зеркалах, возникающий в сознании образ мира, пораженного проказой смыслоутраты. Повествование от первого лица объединяет экзистенциальные размышления Мальро 20-х и 40-х годов в форму «сократовских диалогов». Рассказчик, Вальтер Берже, как и сам писатель, воевал в
События жизни отца, Винсента Берже, рассказанные его сыном, являются художественной трансформацией опыта Мальро 20-х годов: азиатская одиссея, увлечение идеями пантуранизма (идея объединения всех тюркских народов от Средиземноморья до Центральной Азии).
Воплощая пережитое в представителях двух поколений, Мальро подводит итоги экзистенциальным размышлениям на протяжении двух десятилетий.
В позиции Винсента и Вальтера Берже, представляющих проекцию личности писателя 20-х и 40-х годов, сталкиваются два варианта «антисудьбы» - культ ницшеанского действия и творческий акт художника. Экзистенциальное «прозрение» смыслоутраты приоткрывается Винсенту Берже, как позже и его сыну, в «пограничной» ситуации, в свидании со смертью:
«Мы знаем, что мы не выбираем своего рождения и своей смерти. Мы не выбираем родителей. Между каждым из нас и миром — пропасть. Когда я говорю, что каждый отрицает присутствие судьбы, я имею в виду трагическое осознание независимости мира».
Метафорой судьбы в романе является тюрьма: это и солдаты, застрявшие в противотанковом рву, это и сравнение человеческого существования с тюрьмой, вызывающее аллюзии с «Мыслями» Паскаля:
«В тюрьме, о которой говорит Паскаль, люди смогли найти ответ, исходя из собственного существования. Самая большая тайна не в том, что мы случайно брошены в это изобилие материи и звезд, а в том, что в нашей тюрьме мы смогли опровергнуть наше ничтожество».
«Открытие» смыслоутраты определяет выбор Винсента Берже. Он, как и «завоеватели» первых романов Мальро, предпочитает культ ницшеанского действия «у роковой черты». Азиатская одиссея Винсента Берже, активное сотрудничество с Энверпашой, увлечение идеями пантуранизма продиктованы стремлением бросить вызов судьбе, «оставить след на карте».
Но этот проект «антисудьбы», опробованный Мальро в романах 20-х годов, отвергается писателем. Внезапное заболевание Винсента Берже - символическое воплощение бесперспективности индивидуального действия, не имеющего преемственности.
Свидание с историей излечило Мальро от политической эйфории 30-х годов. Роль «антисудьбы» в 40-е годы стало играть искусство. Вальтер Берже, чудом спасшийся из плена, открывает мир как бы заново, «вырывая тайну у жизни». Это - извечность устремлений человека к творческому преображению мира. Искусство, в романе Мальро, приобретает мифологическое измерение, обусловленное законом метаморфозы:
«Говорят, что в искусстве время не существует. Меня интересует метаморфоза произведений искусства. Всякое произведение имеет тенденцию стать мифом... Мир искусства - это мир, освобожденный от времени».
Среди многообразия форм искусства Мальро обнаруживает скрытое единство - архетип «божественной» сущности человека, преобразующей мир, создающей бессмертные творения человеческого духа. «Божественное в человеке - это его светлая, конструктивная часть, отказ от судьбы. Покорность судьбе - это демоническое начало в человеке».
Романтическая идея «божественной» функции художника в ее экзистенциальном переосмыслении определяет архетип искусства как «антисудьбы». «Искусство рождается из решимости вырвать формы у мира, где человек - страдательное существо и включить его в мир, в котором он сам повелевает. Мифологемой «антисудьбы» в мировой литературе для Мальро являются три великих романа: «Робинзон Крузо», «Дон Кихот», «Идиот». «Что из себя представляют эти три произведения? Очную ставку каждого с жизнью, рассказ о борьбе против одиночества. Первый борется трудом, второй - мечтой, третий - святостью». Вставной эпизод о больном Ницше, поющим свой последний гимн Венеции, является символическим воплощением триумфа творческого порыва над безумием.
Глубинная связь искусства разных исторических эпох основывается в эстетизме Мальро на романтическом законе тождеств и соответствий, вырабатывающих универсальный язык и устанавливающих эстафету преемственности между поколениями.
«Прошлое кажется утаивает спрятанные сокровища нашего основания быть».
Полемика с философией Шпенглера и его идеей «Заката Европы» воплощена в жарких дискуссиях Альтенбургского коллоквиума, разворачивающимися между двумя оппонентами - Мельбергом и Вальтером Берже.
Шпенглер, как и Мальро, исходил из романтической идеи искусства как «образа души, осознающей свою смертность и стремящейся увековечить себя, создав формы, которые пережили бы ее, сохранив для вечности хотя бы частичку». Многообразие судеб романтической традиции в XX в. определило различие типологически однородных понятий «антисудьбы». В отличие от Мальро, опиравшегося на романтический закон тождеств, Шпенглер строил свои рассуждения на романтической идее гениоцентризма, порождающего различные «миры поэзии». Форма, воссоздающая «образ души», в философии Шпенглера, определяется уникальностью творческого гения каждой эпохи. «Непостижимость», «неуловимость», «вечная изменчивость» формы определяет взаимную непроницаемость исторически существовавших культур, непроходимую пропасть между «переводом» и «языком» оригинала. Рассматривая каждую из существующих культур как «уникальный прафеномен», подчиняющийся биологическому ритму рождения и смерти, Шпенглер утверждает закон бесконечной смены цивилизаций, которые исчезают безвозвратно.
Мельберг - рупор шпенглеровских идей, считает, что современный человек не способен постичь душу египтянина или древнего грека, понять доисторические цивилизации, которым было неизвестно современное понятие рождения и смерти, времени и пространства. Человек, в бесконечной смене культур, определяется Мельбергом как «случайность, миг», а история - как «забвение».
Опровергая позицию своего оппонента, Вальтер Берже утверждает идею универсального языка искусства, определяемого «вечным биением» конструктивных сил жизни, преодолевающих законы земного притяжения - времени, пространства, смерти. В «сократовских диалогах» Мельберга и Вальтера Берже вызревает основная идея романа: представления о перспективах человечества, намеченные венским философом, ведут к хаосу, к отрицанию созидательных, творческих сил жизни.
Роман «Орешники Альтенбурга», полемически направленный против апокалиптической идеи «заката Европы», имея широкий общественный резонанс и воспринимался в мрачные годы гитлеровской оккупации как символ веры в человека, проносящего сквозь все испытания вечное стремление к самообновлению, к воскрешению из пепла. Французский философ Э. Берль, критикуя идеи Шпенглера в монографии «Культура в опасности», непосредственно ссылался на Мальро: «Благодаря вашему роману я предъявил счет Шпенглеру».
«Орешники Альтенбурга» завершают творчество Мальро-романиста. Столь короткая творческая биография, охватывающая эпоху между двумя войнами, обусловлена убеждением писателя, что романное время слишком коротко, чтобы осуществить в пределах одной жизни проект «антисудьбы».
В послевоенном творчестве А. Мальро центральное место занимают эссе об искусстве и «Зеркало лимба», подводящее итоги размышлениям и воспоминаниям писателя о ключевых поворотах Истории. «Зеркало лимба» состоит из двух томов: первый том - «Антимемуары» (1967), второй - «Веревка и мыши» (1976) - представляет переиздание целой серии произведений: «Поверженный дуб» (1976), «Лазарь» (1974), «Статуэтки из обсидиана» (1975).
Название - «Зеркало лимба» - порождает аллюзии с «Божественной комедией» Данте. Лимб - «круг первый», расположен «у края». С лимба начинается движение по загробному миру Данте, приобщение к миру теней, в котором собрались носители бессмертной мысли, создатели бессмертных творений искусства: Аристотель, Сократ, Платон, Гомер, Гораций, Вергилий. Олицетворяя символ вечности, отвоеванный у смерти разумом и искусством, лимб приобретает у Мальро значение «антисудьбы».
Заглавие первого тома - «Антимемуары» - определяет новый жанр воспоминаний, «в которых проявляется не столько индивидуальный характер, сколько своеобразие отношений с миром». «Я называю эту книгу «Антимемуары», потому что она отвечает на вопрос, которого не задают мемуары и не отвечает на вопросы, которые они задают».
История бурного, противоречивого столетия воссоздается ее свидетелем и участником с позиций человека, «размышляющего о жизни перед лицом смерти». Эссеистичность, фрагментарность повествования создают образ мира, в котором через изменчивые лики истории проступает некое единство. «Ни человека верующего, ни атеиста не может полностью удовлетворить видимая сторона вещей».
Идея единства мира представляет видоизмененную модель учения Ницше о вечном возвращении. Рассказывая о танковой атаке, о пылающем Дюнкерке, о кровопролитных сражениях за свободу Франции, Мальро слышит «гул столетий» Истории с «вечным чередованием крови, возрождения и смерти». Исторические события приобретают мифологическое измерение, в котором сближаются эпохи и цивилизации. Ночное небо со «смеющейся луной» одно и то же, что и «над полями Фландрии, над Сталинградом, Верденом, над садами Вавичона, в готические времена и в грозные годы Великой французской революции»... «Перед лицом единства мира... перед убежденностью... пленная майя в своих извечных циклах приводила на землю все тех же людей, те же сны и тех же богов».
Мысль Мальро движется от конкретного к абстрактному, от фактов истории к их экзистенциальному осмыслению. Сопротивление обретает значение стержня человеческой истории, олицетворяя извечное противостояние насилию и злу. Фашизм оценивается Мальро как тупик цивилизации, как угрожающий знак ее гибели. В бесконечной череде форм насилия и зла лагеря смерти, с точки зрения писателя, представляют беспрецедентное, изощренное в своей жестокости варварство: «Чего раньше не существовало так это такой вот организации унижения». Гитлеровцы сделали своим девизом слова, ставшие «слоганом» лагерей смерти: «Обращайтесь с людьми, как с грязью, и тогда они действительно станут грязью». В человеке вытравлялось чувство собственного достоинства:
«Разлитый суп... брошенные в собачью рвотную массу окурки, медицинские «опыты» и стерилизация»,
Обыденностью лагеря становится кафкианский кошмар, где невозможное становится возможным. Декорацией этого «организованного» хаоса и безумия - песня, несшаяся из громкоговорителей - «Schôn ist das Leben» (Жизнь прекрасна).
Пророком эпохи, в которой зло приобрело столь изощренную форму кошмара, Мальро считает Достоевского, романы которого были для него откровением, его «пятым евангелием». «Как все писатели моего поколения я был поражен фразой из «Братьев Карамазовых», где Иван говорит: «Если божья воля допускает, чтобы злодей мучал невинного ребенка, то я свой билет возвращаю.
Именно Достоевскому, считает Мальро, удалось противопоставить бедам и страданиям человечества неумирающий, бессмертный мифологический архетип Лазаря. «Достоевский - пророк: любая жизнь становится таинством, когда ее вопрошает страдание. Не тоска, а Лазарь, против которого бессильны несчастье и смерть, Лазарь, превратившийся в неопровержимый ответ Антигоны или Жанны д’Арк перед судами земли: «Я пришла в мир не для того, чтобы разделять ненависть, а для того, чтобы разделить любовь».
Понятие «антисудьбы» определяет беспредельную силу этого мифологического архетипа, вновь и вновь порождаемого жизнью и устанавливающего эстафету преемственности от древних времен до лагерей смерти, от макизаров к Жанне д’Арк и героям Эллады.
Мифологизация истории приобретает в «Зеркале лимба» романтический облик «антисудьбы».
«Человеческий удел - это удел существа столь же неразрывно связанного с судьбой человека, как смертельная болезнь связана с судьбой индивида. Разрушить этот удел означает разрушить жизнь: убить. Однако лагеря смерти, где пытались превратить человека в животное, позволили почувствовать, что человеческая сущность определяется не только жизнью».
Проект «антисудьбы» определяет не только воссоздание прошлого в зеркалах настоящего, но и облик реальных личностей: де Голля и Пикассо, Неру и Мао Цзэдуна. Мальро интересуют в собеседниках не столько их индивидуальные особенности, сколько «тип человека, ускользающего от судьбы». «Де Голль одержим Францией, как Ленин, был одержим пролетариатом, Мао - Китаем, Неру - Индией».
«Зеркало лимба» представляет еще один вариант экзистенциальных размышлений Мальро перед лицом Истории. «Встреча Мальро с Историей стала Историей Мальро».
Закономерным, логическим завершением литературного творчества Мальро становятся его работы по искусству: «Психология искусства» («Воображаемый музей», 1947; «Художественное творчество», 1948; «Цена абсолюта», 1950), «Воображаемый Музей мировой скульптуры» («Скульптура», 1952; «От барельефов к священным гротам», 1954; «Христианский мир», 1954), «Метаморфоза богов», 1957, «Бренный человек и литература», 1977.
Исходя из определения искусства как «антисудьбы», Мальро противопоставляет символическое искусство фактографическому, копирующему мир, воспроизводящему формы самой жизни (apparence). Фактографическое получает в концепции Мальро определение «продукции», а постигающее универсалии бытия - «творения». «Искусство - это то, благодаря чему формы становятся стилем».
Стиль - это модель романтической формы самовыражения, определяемая субъективным произволом художника, полетом фантазии и воображения.
«С появлением «Олимпии» искусство приобрело первую особенность современного искусства - не рассказывать. Чтобы родилось современное искусство должен исчезнуть сюжет, так как возникает новый сюжет - господствующее в произведении присутствие самого художника».
Определяя искусство как область замкнутую, «наделенную таинственными полномочиями, таинственной властью», Мальро опирался на романтическую идею противопоставления искусства и жизни, утверждения приоритетов символического искусства, черпающего свою многозначность в мифе.
«Любое великое искусство ведомо тем, смысл чего ускользает от него и гибнет, когда теряет фермент неизвестного. Христианство с его загробной жизнью и мечтами, постоянно возрождаемыми надеждами питает диалог создателя образов с богом, которому он хочет служить и с которым он хотел бы соединиться, подобно диалогу Сезанна и Ван-Гога с тем, что они именуют живописью».
Романтическая идея многозначности искусства, таящая в себе множество смыслов, прочитываемых каждой эпохой по-новому, устанавливает, в концепции Мальро, эстафету преемственности, озвучивая «голоса молчания»:
«...весь воображаемый музей говорит о смерти цивилизации и в то же время о воскресении того, что этой цивилизацией было создано».
Закон метаморфозы разрушает идею детерминированности произведений искусства, их зависимости от времени, истории, судьбы. «Метаморфоза - это закон жизни и произведения искусства».
Романтическая идея избранности художника, преломленная через эстетизм Ницше, приобретает экзистенциальное измерение — «значение порядка, навязанного хаосу». «Искусство отвергает мир, который нами владеет и суть которого мы не знаем». Преображение мира творческим актом художника рассматривается как «ценность, как движение вперед, как завоевание, как история».
Эстетизм Мальро, сосредоточенный на моменте «сверхжизни» в искусстве, утверждает возможность диалога между разными национальными культурами и различными историческими эпохами. Идея объединяющего ритма Истории, ее извечных циклов смерти и возрождения дала возможность писателю уловить основные тенденции и закономерности сложной и противоречивой эпохи XX столетия. Недаром, Мальро вошел в историю французской культуры как «властитель дум», «истолкователь страстей, мифов, роковых сил XX века».
Л-ра: Литература XX века. Итоги и перспективы изучения. Вторые Андреевские чтения. – Москва, 2004. – С. 127-133.
Произведения
Критика