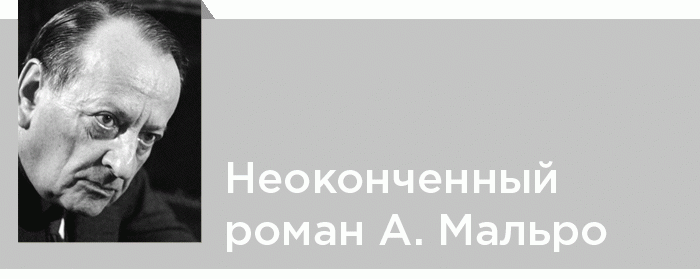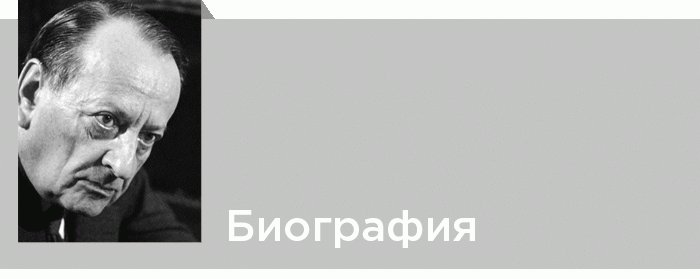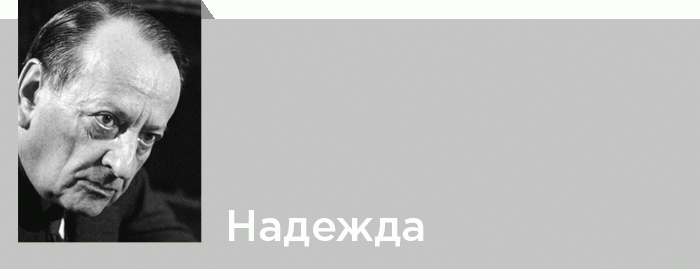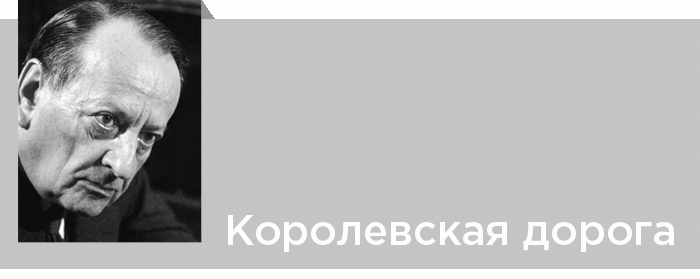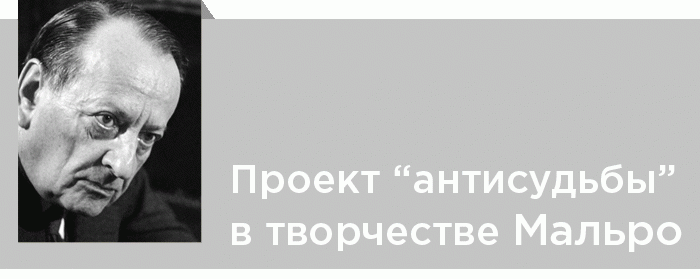Андре Мальро. Проблемы изучения

Е. П. Кушкин
Около пятидесяти лет имя Мальро было тесно связано с культурной и политической жизнью Франции XX в. Мальро умер в 1976 г., и сегодня, конечно, еще трудно сказать, что именно из обширного наследия этого писателя сохранит будущее: будут ли читать его романы конца 20-х — начала 40-х годов или послевоенные книги размышлений об искусстве, страстную публицистику 30-х годов или мемуары министра культуры 60-х годов. Вопрос этот принадлежит к области «непредсказуемого», как и многое, по мнению Мальро, в современной цивилизации. Вместе с тем еще при жизни названный классиком Мальро пока продолжает живо волновать читателей. Его книги и общественно-политическая деятельность в целом остаются актуальными для духовной жизни современного Запада.
После смерти писателя, подводя итоги его «жизни в гуще века», критики вспомнили о многих фактах его биографии и его книгах, всегда, связанных с ними. В самом начале 1920-х годов Мальро — блестящий эрудит, хотя и самоучка, страстный любитель искусства, европейского и восточного, автор весьма причудливых текстов, принесших ему известность в литературных кафе Парижа. В
Критика была единодушна в оценке личности Мальро — удивительного сплава художника и человека действия, между словом и действием которого не оказывается привычного — и двусмысленного — зазора. «Шум и ярость» XX в. вылились на страницы его романов, в которых, как это ни парадоксально на первый взгляд, признали «свое наследие» и французские коммунисты. Так Р. Андрие отметил в «Юманите» огромное влияние Мальро на французскую молодежь, на его собственное решение вступить в компартию: «В конце концов останется то, что в самые трудные периоды истории мы боролись вместе». Это мнение подтвердил и А. Вюрмсер: «Сколько товарищей я могу насчитать во всей Франции, которые сказали мне 20, 10 лет, 10 дней тому назад: „Я стал коммунистом не без влияния Мальро”. Хотя сам Мальро…» Не менее интересен и отклик Арагона: «Несмотря на политические и иные разногласия, бывшие между нами, Мальро — это человек, которого из всех знакомых мне людей я уважаю больше всего. Мы не всегда и не во всем были согласны, но я видел в нем великого писателя. В его книгах есть страницы, говорящие о многом, намного превосходящие все, Что писали в наше время». В этих оценках нет безраздельного единства с Мальро в отношении политических идей, но есть прочное чувство идейной близости, даже и вопреки определенным несогласиям.
Менее единодушной в оценке Мальро всегда была католическая критика. Так, если А. Бланше в
И здесь, по-видимому, уместно вспомнить, что на протяжении полувека жизнь и творчество Мальро вызывали ожесточенные споры философско-эстетического, литературного и политического характера. Отношение к писателю эволюционировало вместе с эволюцией самого писателя, причем всякий раз критики искали и находили в нем то, что им было нужно для создания «своего» образа Мальро. Именно с этим обстоятельством связано и бытование многочисленных легенд о нем, которые сам писатель, кстати сказать, не торопился развеять, словно подбирая себе наиболее подходящую роль на сцене жизни. В Мальро видели Гюго или Шатобриана, великого авантюриста XX в. или самого революционного писателя 1930-х годов, художника с автоматом или философа «вечного человека». Так постепенно складывались два отношения к нему — как к «капитальному современнику» и как к «современнику вневременного».
Уже сегодня литература о Мальро труднообозрима. Ему посвящены сотни статей, десятки монографий и диссертаций, написанных как во Франции, так и далеко за ее пределами. В
Действительно, сегодня в критике еще преобладает представление о «нескольких» Мальро — «авантюристе», «революционере», «министре», и акцент ставится преимущественно на его «метаморфозах», разрывах его творческого пути, связь между которыми будто бы не усматривается. Внешняя периодизация его творчества становится чересчур самодовлеющей, соответствующей на деле всего лишь той модели, которую выстраивают исследователи. Так, например, многие из них воспринимают «Орешники Альтенбурга» как глубокий разрыв в творчестве Мальро, и этап его переориентации на размышления об искусстве относят к послевоенному периоду. На самом деле уже в раннем творчестве, в «Королевской дороге», в выступлениях на 1-м съезде советских писателей и международных антифашистских конгрессах в защиту культуры, а также в публикациях первых текстов об искусстве, которые будут включены в его послевоенные книги, Мальро четко ставит проблемы, заданные ему искусством разных времен, народов и цивилизаций. Те же проблемы в 1920-30-е годы задавала и его эпоха, переживавшая, как известно, кризис «традиционного» гуманизма. Это были проблемы Человека. Что такое человек? Ради чего он живет? Куда ведут его поиски смысла жизни? Каковы неотвратимые предпосылки, определяющие человеческий удел — condition humaine? Каковы реальные возможности человека, что он может и должен делать?
Эти вопросы, как справедливо отмечает П. Гайяр, заложены уже в самой основе романов Мальро. Сугубое их противопоставление последующим книгам писателя дает надуманные результаты. Сами названия романов Мальро говорят об основных константах его творчества — «тревоге» и «надежде», определяющих «удел человеческий», который выпадает его персонажам в конкретных условиях истории. Лучше поэтому изучать эволюцию Мальро в ее связи со временем и традициями, определить развивающееся единство его философско-эстетической мысли. Это единство не исключает противоречий, присущих всякому живому мировоззрению, возможных заблуждений в отношении тех или иных явлений общественной жизни, но оно в конечном счете помогает понять постоянство его гуманистической озабоченности.
Все книги Мальро, как и его жизнь, подчинены одному требованию — возвыситься над «судьбой», обосновывая величие и надежду человека, живущего вне религии, над тем, что может быть противопоставлено небытию, на возможности прорвать кольцо человеческого удела с помощью средств, доступных человеку. Уже в истоках своего творчества, объясняя трагизм человеческого удела, Мальро видит в нем не только его метафизическую заданность (разрыв между человеком и миром — мотив Паскаля), но и социальный порядок, порождающий чувство абсурда. И судьба человека, «приговоренного» к смерти, и уклад жизни, лишенный верховного смысла, вызывают ощущение абсурда у героев Мальро. Но с самого начала, наряду с судьбой, для самого Мальро и его персонажей есть и реальный мир, в котором они ищут такое действие, которое могло бы придать смысл человеческому существованию.
Персонажей своих первых романов, никогда не идентифицируясь с ними, Мальро подверг искусу нигилистического бунта и привел к поражению. В «Уделе человеческом» и «Годах презрения» его герои обретают в реальной борьбе против реального зла те ценности «мужского братства» (fraternité virile), которые не разрушаются ни пытками, ни смертью. «Надежда» знаменует собой призыв к эффективности коллективного действия против наступающего фашизма и убежденность в том, что будущее, хотя и не может быть установлено заранее и раз навсегда, тем не менее зависит от самих людей, от их конкретного действия. «Орешники Альтенбурга» в новой исторической обстановке выразили попытку по-новому взглянуть на человека и его удел, в метафизическом и социально значимом аспекте, и утвердить веру автора в гуманизм, не исключающий ни тревоги, ни надежды,
«Искусство — есть антисудьба», — скажет после войны автор «Голосов безмолвия». Для позднего Мальро искусство — самая высокая из человеческих, возможностей — та, что позволяет человеку, обеспечившему необходимые условия для своего достоинства, превзойти самого себя, придти без насилия над человеческой природой, зато в неустанном творчестве, к единению с людьми. Но трагизму человеческой участи все творчество Мальро противопоставляет и героизм действия, и напряжение ищущей мысли, и разгадки великих тайн бытия. «Гуманизм, — напишет он, — это означает сказать сами себе: мы отказались от того, чего хотело в нас животное, и хотим обрести человека повсюду, где нашли то, что его подавляет».
Проблема единства творчества Мальро требует своего решения и в отечественном литературоведении, проявившем в последние годы обоснованный интерес к наследию писателя. Новейшая отечественная критика правильно оценила творческое наследие Мальро как для формирования литературы французского экзистенциализма, так и для опровержения этого направления. С. Великовский наиболее полно рассматривает основные вехи эволюции Мальро как автора, который впервые во французской литературе XX в. «отчетливо нащупал узловые сопряжения трагического гуманизма». Работа С. Великовского — первая и давшая немало положительных результатов попытка объяснить единство творчества писателя, исходя из его философских предпосылок.
Методологически правильно оценивая проблему, исследователь, однако, приходит к спорной, на наш взгляд, философской модели в соответствии с которой им рассматривается эволюция писателя. Определяя как стержень философии Мальро идею «удела человеческого», С. Великовский видит в творческой тревоге писателя главным образом богоискательство. Так, например, в 1930-е годы, считает он, «навстречу революции Мальро толкала среди прочего прежде всего и сильнее всего нужда нравственно оправдать все существование, потребность выбраться из морально-философских затруднений „смыслоутраты”, вызванной „смертью бога”». Но тогда позволительно задаться вопросом, почему такие его современники-писатели, как Селин или Дрие Лярошель, если взять наиболее крупных, из тех же тупиков пришли в противоположный революционному лагерь литературы и политики? По-видимому, сами эти затруднения рождались той конкретной действительностью, которая складывалась в Европе в 1920-30-е годы. К революции многих французских писателей приводила прежде всего, пожалуй, внутренняя и международная обстановка — рост демократического движения на Западе, революционные выступления китайского народа и народов балканских стран, Народный фронт во Франции и гражданская война в Испании. Существовала реальная борьба с социальным насилием, возможность действовать ради утверждения величия и достоинства человека. Основные слагаемые творчества Мальро — «тревога» и «надежда» были объединены писателем в те годы под знаком поисков возможного.
Иной предстает эволюция Мальро-романиста в трактовке С. Великовского. «Метафизическая озабоченность» определяет, по его мнению, содержание «Завоевателей» и «Королевской дороги»; «Удел человеческий» открывается ее тревожным присутствием и завершается ее снятием; в «Годах презрения» «метафизическая озабоченность» почти отсутствует, в «Надежде» открывается ее разрешением и завершается возвратом к ней снова, после «Надежды» — решительный откат к уже пройденным рубежам. В итоге, считает исследователь, заведомо неизбежна путаница, «ежели про запас держать еще и переиначенную на светский лад религиозную мерку и подходить к этой всепроникающей историчности с „богоискательским запросом”». Подобная трактовка единства творчества Мальро-романиста никак не проясняет тех фактов, например, что во время Сопротивления подпольная газета «Летр франсез», призывая партизан к эффективности боевых операций, вдохновлялась «Надеждой» Мальро, а в «Орешниках Альтенбурга» Жан Лескюр видел основание жить и бороться с оружием в руках против гитлеризма.
Рассуждение С. Великовского о ложности богоискательских запросов в подходе к истории, может быть, справедливо вообще, но не может полностью объяснить «случай Мальро». На это обстоятельство, полемизируя с С. Великовским, обратил внимание и Ю. Давыдов. Выступив против навязывания Мальро исключительно богоискательского запроса, он возразил против трактовки движения автора от «нигилизма к гуманизму» как «попятного движения, возрождающего религиозные элементы гуманизма»: «Да и вообще, можно ли говорить о „попятном” движении, коль скоро речь идет о преодолении нигилизма, т. е. об отходе от абсолютного нуля?» И это — справедливое возражение, хотя и раннее творчество Мальро отнюдь не сводится к «абсолютному нулю». Продолжая, однако, спор с С. Великовским о причинах молчания Мальро в литературе Сопротивления, что не совсем верно фактически, Ю. Давыдов считает, что этот «разрыв» в эволюции Мальро — результат осознания им неправды экзистенциалистского метода художественного творчества. Исследователь полагает, что Мальро наложил «нечто вроде епитимьи» на свою художественную практику и замолчал — не как литератор, а как экзистенциальный романист после того, как, подобно Пьеру Безухову, Мальро — полковник Берже пережил минуты ожидания казни. «Не говорит ли этот факт о своеобразном „покаянии” художника, убедившегося, что способ, каким создавались прежние его романы, не подходит для выражения реально, на деле, а не в „творческой фантазии” пережитого им?» — задается вопросом Ю. Давыдов.
Соглашаясь с Ю. Давыдовым относительно воздействия исторического опыта на творчество Мальро и его нравственное содержание, мы не можем, однако, согласиться с тем, что писатель вышел из «магического круга ницшеански-экзистенциалистских посылок» лишь в годы Сопротивления. Это значило бы оставить, как это делает Ю. Давыдов, следуя сомнительной модели Мальро — «раскаявшегося Раскольникова», за пределами внимания такие его романы, как «Удел человеческий», «Годы презрения», «Надежда» и «Орешники Альтенбурга», где писатель утверждает ценности, противопоставленные нравственному релятивизму философии существования. Вот почему речь может идти, вероятно, не о глубоком разрыве, а об эволюции в творчестве Мальро. Отвлекаясь от кризисов, сопутствующих всякому крупному дарованию, следует признать, что если в творчестве некоторых писателей (великие примеры — Гоголь и Толстой) действительно имел место глубокий перелом, даже разрыв, то у Мальро не было склонности сжигать то, чему он поклонялся. Он не отрекался от своих романов 1930-х годов, как не отрекался от своих соратников, с которыми сражался в Испании.
Что касается «молчания» Мальро и его отхода (отнюдь не абсолютного) от жанра романа, то более плодотворной нам представляется гипотеза, выдвинутая Л. Зониной, которая связывает потерю интереса у Мальро к роману с его отходом от революции. «Не потому ли, — пишет она, — что роман был для него местом „преображения” человека, изменяющего мир? И коль скоро померкла надежда на „прямые”, зримые результаты в пределах одной жизни, само романное время, возможно, представилось писателю слишком „коротким”, чтобы вместить и выразить потенцию „антисудьбы”, заключенную в человеке». И в послевоенный период, справедливо отмечает Л. Зонина, история остается для Мальро возможным полем сражения с судьбой, но писатель переходит на иные единицы измерения — не на десятилетия, даже не на столетия, а на целые цивилизации.
Действительно, бренной человеческой участи поздний Мальро противопоставляет надежду на творческий потенциал человека. Само понятие «человек» не остается у Мальро неизменным. Но сущность его, а именно вызов всему, что унижает, людей в вечнореальных условиях жизни, — вот что составляет природу «человека творящего» и находится в центре внимания и Мальро-романиста, и Мальро-эссеиста, и Мальро-мемуариста. Вероятно, такой подход к проблеме единства его творчества и позволит выявить то, что было в наследии писателя исключительным и что было характерным для его эпохи, где он хотел преобразовать «судьбу претерпеваемую в судьбу покоренную».
Л-ра: Вестник ЛГУ. Серия 2. – 1985. – Вып. 2. – № 9. – С. 52-59.
Произведения
Критика