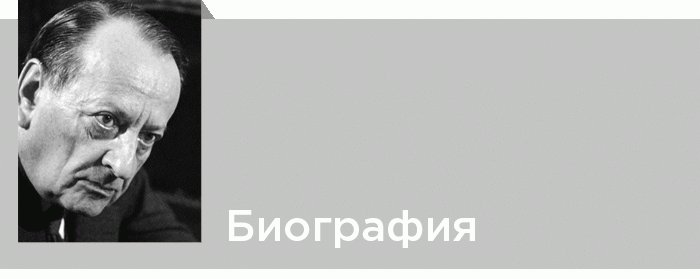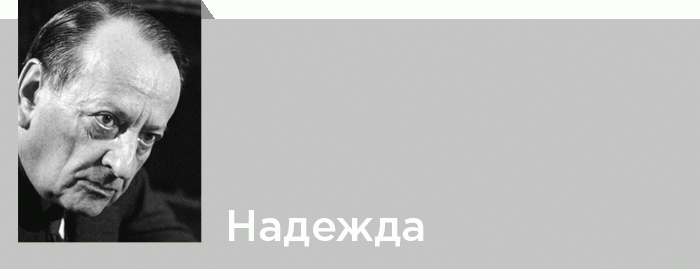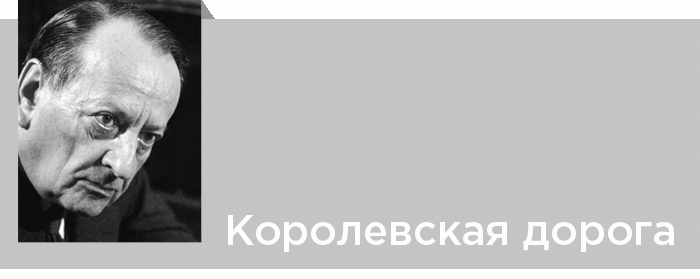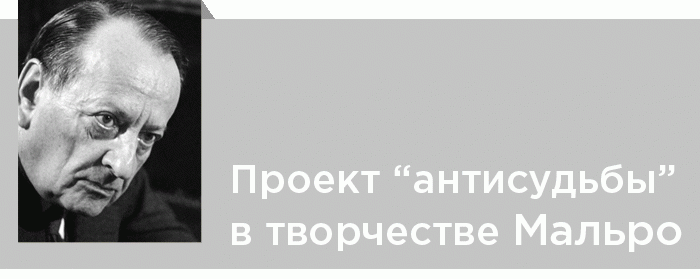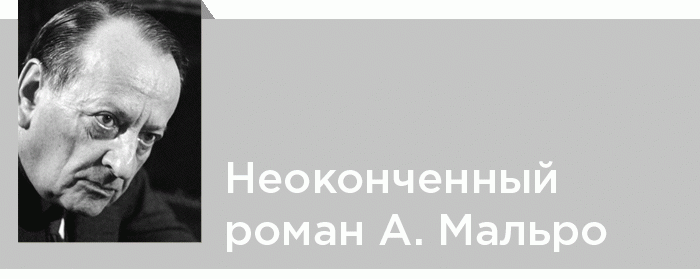Андре Мальро. Завоеватели

(Отрывок)
Памяти моего друга Рене Латуша
ЧАСТЬ 1. СБЛИЖЕНИЯ
25 июня
«В Кантоне объявлена всеобщая забастовка».
Эта радиограмма, подчёркнутая красной чертой, висит со вчерашнего дня. До самого горизонта — Индийский океан, неподвижный, блестящий и застывший — без единого гребня. Плотно закрытое облаками небо давит на нас и обволакивает влажным парным воздухом. Пассажиры размеренно вышагивают по палубе, стараясь не отходить далеко от белого окошечка, в котором скоро вывесят радиограммы, полученные сегодня ночью. Каждый день приносит новости о начинающейся драме; она набирает силу, превращаясь уже в прямую угрозу, и мысли о ней неотступно преследуют пассажиров парохода. До настоящего момента враждебные намерения правительства в Кантоне выражались только в словах: внезапно телеграммы запестрели сообщениями о действиях. Люди поражены не столько беспорядками, забастовками и уличными стычками, сколько этой неожиданной, столь же твёрдой, как у англичан, волей к действию, желанием уйти от пустых слов и нанести удар по тому, что Англия ценит превыше всего: по её богатствам и престижу. В провинциях, подчинённых кантонскому правительству, запрещено торговать любыми английскими товарами, даже если продавец — китаец; на рынках устанавливается строжайший контроль; гонконгские рабочие отказываются работать на английских станках; наконец, объявляется всеобщая забастовка, которая одним ударом парализует всю торговлю острова, а иностранные корреспонденты отмечают необыкновенное оживление в военных училищах Кантона. Всё это возвещает пассажирам о начале войны совершенно нового рода: это война разрозненных сил Южного Китая (при участии советников, о которых почти ничего не известно) против самого воплощения британского владычества в Азии — скалы, на которой укрепилась империя, откуда она следит за своими подданными. Война против Гонконга.
Гонконг. Вот он на карте — остров с чёрными чёткими контурами, закупоривающий, как пробкой, Жемчужную реку, на которой расползается серое пятно Кантона с его неотчётливыми пригородами, отмеченными пунктиром, на расстоянии всего лишь нескольких километров от английских пушек. Каждый день пассажиры вглядываются в эту чёрную точечку, как будто ждут от неё совета, — сначала с беспокойством, потом со страхом и тревогой, стремясь угадать, как будет защищаться эта твердыня, самый богатый утёс мира, от которого зависит их существование.
Если ему будет нанесён удар, если он превратится — раньше или позже — в заштатный порт, потерявший своё могущество, то это значит, что Китаю удалось найти людей, так недостававших ему раньше, людей, способных бороться с белыми, и господству европейцев придёт конец. Торговцы хлопком и вермишелью, с которыми я плыву, понимают это лучше, чем кто бы то ни было: занятно видеть, как отражается на их встревоженных лицах (что же будет с фирмой?) великая схватка между империей хаоса, вдруг обретшей организованность, и народом, воплощающим, как никакой другой, силу, волю, упорство.
На палубе всеобщее оживление. Пассажиры спешат, толкаются, теснясь у окошечка: появился листок с радиограммами.
Швейцария, Германия, Чехословакия, Австрия. Дальше, дальше… Россия. Посмотрим. Нет, ничего интересного. Вот оно! Китай! Китай!
Мукден: Чан Сёлинь…
Дальше!
Кантон.
Пассажиры, стоящие сзади всех, рвутся вперёд, наваливаясь на нас и прижимая к перегородке.
"Кадеты военного училища Вампоа, замыкавшие огромную демонстрацию студентов и рабочих под руководством русских офицеров, обстреляли Шамянь. Европейские матросы, охранявшие мосты, открыли огонь из пулемётов. Кадеты, подстрекаемые русскими офицерами, много раз бросались на приступ мостов, но вынуждены были отступить, понеся большие потери.
Жёны и дети служащих-европейцев Шамяни будут при первой возможности эвакуированы в Гонконг на американских кораблях. Уход английских войск неизбежен".
Внезапно наступает тишина.
Пассажиры в полном удручении расходятся в разные стороны. Только справа от окошечка подходят друг к другу два француза: «Право, сударь, не перестаёшь удивляться, когда же власти решатся наконец действовать энергично, чтобы…»; они направляются к бару, и конец фразы теряется в глухом урчании двигателей.
В Гонконге мы будем не раньше чем через десять дней.
5 часов
Шамянь. — «Электричество отключено. Вся концессия без света. Мосты были наспех укреплены и перегорожены рядами колючей проволоки. Они освещаются прожекторами с канонерок».
29 июня
Сайгон
Пустынный печальный провинциальный город с длинными проспектами и прямыми бульварами. Под раскидистыми тропическими деревьями растёт трава… С моего рикши пот льёт ручьями: дорога долгая. Наконец мы добираемся до китайского квартала, всюду небольшие банки, торговые агентства всевозможных фирм с позолоченными табличками и красивыми чёрными иероглифами. Прямо передо мной на широком, заросшем травой проспекте резво бежит трамвайчик. 37, 35, 33… стоп! Мы останавливаемся перед домом, который не отличить от любого другого на этой улице, — ячейка в «улье». Агентство по продаже неизвестно чего. На дверях таблички с названиями малоизвестных кантонских фирм. Внутри за пропыленными и перекосившимися перегородками дремлют двое служащих-китайцев: у одного, одетого в белый костюм, лицо как у покойника, у другого, тучного, обнажённого до пояса, кожа цвета обожжённой глины. На стене шанхайские олеографии: девушки с застенчивыми чёлками до самых глаз, пейзажи, чудовища. Передо мной три соединённых колёсами велосипеда. Я в доме у руководителя кохинхинского отделения гоминьдана. Спрашиваю на кантонском диалекте:
— Хозяин дома?
— Ещё не вернулся, господин. Вы можете его подождать наверху.
Я поднимаюсь на второй этаж по небольшой лесенке. Никого нет. Усаживаюсь и от нечего делать осматриваюсь: европейский шкаф, мраморный столик в стиле Луи-Филиппа, китайский диванчик чёрного дерева и великолепные американские кресла, ощетинившиеся своими подлокотниками и заклёпками. Прямо надо мной большой портрет Сунь Ятсена под стеклом и фотография поменьше — хозяина дома. Через окно доносится позвякивание кастрюлек торговца супом. Сильный запах жжёного масла…
Стук деревянных башмаков.
Входят хозяин, два других китайца и француз по имени Жерар, ради которого я здесь. Знакомство. Мне наливают зелёного чаю и поручают сообщить Центральному комитету, что «все секции французского Индокитая непоколебимо верны принципам демократии» и т. п.
Наконец мы с Жераром выходим. Он, специальный уполномоченный гоминьдана в Индокитае, приехал всего на несколько дней. Этот невысокий человек с седеющими усами и бородой похож на царя Николая II: такой же мутный, невыразительный взгляд при внешней доброжелательности. В нём есть что-то от провинциального доктора и близорукого профессора. Волоча ноги, он идёт рядом, а перед ним горит кончик зажжённой сигареты в тонком мундштуке.
Его машина ожидает нас на углу. Мы садимся и медленно выезжаем из города. Нас обдувает ветерок, и мускулы, одновременно обмякшие и напрягшиеся, расправляются…
— Что нового?
— То, что вы сами могли прочесть в газетах. Очевидно, что призыв рабочих комитетов к забастовке был услышан. Англичанам пока ничего не удаётся: они пытаются набрать добровольцев, но это ерунда — хорошее средство против уличных стычек, но не против забастовки. Запретили экспортировать рис, так что продовольствия в Гонконге ещё на какое-то время хватит. Но мы и не собирались уморить остров голодом, зачем это нам? А для богатых китайцев, которые поддерживают контрреволюционные организации, этот запрет — как удар дубиной по голове…
— А вчерашние сообщения?
— Ничего нет.
— Может быть, правительство Кохинхины заблокировало радиограммы?
— Нет. Служащие телеграфа — почти поголовно члены организации «Юный Аннам»; нас предупредили бы. Это сам Гонконг ничего не передаёт.
Пауза.
— А что сообщают китайцы?
— Китайцы передают сплошную пропаганду! Якобы все торговые ассоциации потребовали объявить Англии войну, а кантонцы захватили в плен английских солдат, охранявших Шамянь. Готовятся-де громаднейшие демонстрации… Россказни! А совершенно точно и чрезвычайно важно вот что: впервые англичане Гонконга почувствовали, что сокровище уплывает у них из рук. Бойкот был хорош, но забастовка лучше. Что последует за забастовкой? Жаль, что мы ничего не знаем… Мне вот-вот должны принести сведения. Да, вот ещё что: уже два дня ни один корабль не отправляется в Гонконг. Все они там, на реке.
— А что здесь?
— Совсем неплохо, вы получите по меньшей мере шесть тысяч долларов. Надеюсь, что будет ещё сотен шесть, но это не наверняка. А я только четыре дня здесь.
— Если судить по результатам, они тут весьма воодушевились?
— Вне всякого сомнения. Энтузиазм у китайцев — вещь почти немыслимая, но на этот раз они дошли до энтузиазма. И не забудьте, что эти шесть тысяч долларов были собраны бедняками: грузчики, докеры, ремесленники…
— Хм! Им есть на что надеяться… Все эти гонконгские успехи, нападение на Шамянь…
— Конечно, их пьянит сознание, что можно, оказывается, воевать с Англией — с Англией! — и она ничего не может сделать. Но во всём этом так мало китайского…
— Вы полагаете?
Он молчит, устроившись у окна машины, полузакрыв глаза, то ли размышляя, то ли подставляя себя под свежий ветерок, который бодрит, как хорошая ванна. В мутной вечерней голубизне мелькают рисовые поля — большие серые зеркала, размытые, как акварельные рисунки, с чёткими контурами пагод и кустов. Над ними всюду возвышаются телеграфные столбы. Втянув в себя губы и покусывая усы, он отвечает:
— Вы знаете о заговоре «Монады», который только что раскрыт англичанами в Гонконге?
— Я ничего не знаю; я только что приехал.
— Хорошо. Тайное общество «Монада» обнаруживает, что между Гонконгом и Кантоном курсирует теперь только один маленький пароходик «Оман». В Гонконге его охраняют несколько английских матросов во главе с офицером. Лазутчики общества выясняют, что на пароходике англичане доставляют оружие контрреволюционерам, и весьма здраво решают, что в их интересах не допустить выхода корабля из Гонконга.
— Наших на пароходе нет?
— Нет. А ружья бросают в лодки, стоящие где-нибудь в отдалении на Жемчужной реке. Прямо как контрабанда наркотиками на Суэцком канале. Но вернёмся к заговору. Шесть лазутчиков, прекрасно понимающих, что они рискуют головой, проникают на корабль, убивают офицера и матросов, хозяйничают там четыре часа и попадаются на заре английскому патрулю в тот момент, когда уносят — догадываетесь что? — шестиметровый деревянный блок с нарисованным глазом.
— Я не совсем понимаю…
— На носу китайских лодок нарисованы глаза, это они направляют судно. Если корабль окривеет, то потерпит крушение.
— О-о!
— Вы удивлены? Чёрт возьми, я тоже. Но, в сущности… вдумайтесь, вы считаете какую-то организацию весьма серьёзной, вы уверены, что можете на неё положиться, — и вот в нужный момент она готова бросить всё, чтобы отправиться за деревяшкой с нарисованным глазом. — И, видя мою улыбку, добавил: — Вы думаете, что я преувеличиваю и напрасно обобщаю. Вот увидите, сами увидите. Бородин и Гарин расскажут вам о сотнях подобных случаев…
— Вы хорошо знаете Гарина?
— Ах, Боже мой, работали вместе… Что я могу сказать? Вам известно, что он сумел сделать как руководитель комиссариата пропаганды?
— Очень мало.
— О! Это… нет, объяснить почти невозможно. Вы знаете, что в Китае раньше не было идей, нацеленных на действие, а теперь они захватывают страну так же, как идея равенства захватывала французов 89-го года, — без всякого сопротивления. Возможно, так происходит со всей жёлтой Азией; в Японии, когда немецкие лекторы начали проповедовать идеи Ницше, студенты-фанатики бросались со скал. В Кантоне всё это не так явно, но, может быть, ещё ужаснее. Никто не ожидал появления даже самого примитивного индивидуализма. Грузчики внезапно осознали, что они существуют, — существуют, и всё тут… Есть народная идеология — точно так же, как есть народное искусство, но это не вульгаризация, а просто нечто другое… Бородин сказал рабочим и крестьянам: «Нет никого лучше вас, потому что вы рабочие, потому что вы крестьяне — и вы принадлежите к двум величайшим силам государства». Эта пропаганда не нашла отклика. Они не поверили, что к величайшим силам относятся те, кто получает пинки и умирает с голоду. Они слишком привыкли к тому, что их презирают именно как крестьян. И они боялись, что с окончанием революции вновь вернутся в презираемое сословие, из которого надеялись вырваться. Националистическая пропаганда Гарина была совсем в ином духе и подействовала на них чрезвычайно сильно и глубоко, хоть это влияние и было неожиданным и достаточно неопределённым. Благодаря этой пропаганде они уверовали в своё достоинство, в свою, если хотите, значимость. Надо видеть, как эти сборщики риса с их исхудалыми лицами, в лохмотьях и соломенных шляпах отрабатывают ружейные приёмы в окружении почтительной толпы. Вот когда можно понять, чего мы добились. Французская и русская революции были сильны тем, что дали каждому свой кусок земли; а эта революция дарит каждому собственную жизнь. Никакая западная мощь не может противостоять этому… Хотят объяснить всё это ненавистью, одной лишь ненавистью! Как просто! Наши добровольцы превратились в фанатиков по многим причинам, но прежде всего потому, что они мечтают теперь о такой жизни… такой, что им плевать на прежнюю, вот как! Возможно, Бородин этого не понял…
— Наши бонзы хорошо ладят?
— Бородин и Гарин?
Сначала мне показалось, что он не хочет отвечать; но нет, он просто думает, и лицо у него такое тонкое.
Всё больше вечереет. За шумом мотора не слышно больше ничего, кроме ровного стрекотания цикад. По-прежнему с двух сторон проносятся рисовые поля, а на горизонте медленно движется арековая пальма.
— Не могу сказать, — говорит он, — что они ладят хорошо. Они ладят, вот и всё. Дополняют друг друга. Бородин — человек действия, а Гарин…
— А Гарин?
— Способен к действию. Когда понадобится. Видите ли, в Кантоне вы обнаружите два типа людей. Одни приехали во времена Суня, в 1921-1922 годах, чтобы рискнуть, поставив на кон жизнь; их можно назвать авантюристами: для них то, что происходит в Китае, — это спектакль, к которому они тоже более или менее причастны. Это люди, которые влюбляются в революцию, как легионеры влюблялись в армию, люди, отвергающие социальный порядок и много требующие от жизни. Они хотели бы придать смысл собственному существованию; теперь, сбросив с себя всё это, они служат революции. Другие же, пришедшие с Бородиным, — это профессиональные революционеры, для них Китай — это ценное сырьё для обработки. Первых вы обнаружите в комиссариате пропаганды; вторых — почти всех — в стачечных комитетах и в армии. Гарин представляет первых — и руководит ими… Они не так сильны, но много умнее.
— Вы были в Кантоне до приезда Бородина?
— Да, — отвечает он, улыбаясь, — но, поверьте, я вполне объективен…
— А до того?
Он молчит. Наверняка скажет, что это не моё дело, и будет не так уж не прав… Но нет, он вновь улыбается и говорит, слегка коснувшись рукой моего колена:
— До того я был преподавателем в ханойском лицее.
Он улыбается шире, ещё ироничнее, надавливает мне на колено.
— Но я, видите ли, предпочёл другое…
И тут же возвращается к прерванному разговору, как бы желая помешать мне задать ещё один вопрос.
— Бородин — великий человек дела. Колоссальная работоспособность, храбрость, а если нужно — дерзость; в обращении очень прост, и все помыслы его — только о своей цели…
— Великий человек дела?
— Человек, который постоянно задаётся вопросом: «Может ли это принести мне пользу и каким образом?» В этом весь Бородин. На всех большевиках его поколения лежит печать борьбы с анархистами; все они думают, что во главе угла должна стоять реальность, что нужно прежде всего добиваться нормального функционирования власти. В нём, кроме того, осталось что-то от еврейского подростка, который читал Маркса в маленьком литовском городке — окружённый всеобщим презрением и имея в перспективе Сибирь…
Цикады, цикады.
— Когда вам доставят сведения, о которых вы только что говорили?
— Через несколько минут: мы будет ужинать у председателя шолонского отделения. У него такой же ресторан-курильня, как и этот.
Мы в самом деле проезжаем мимо украшенных огромными иероглифами и зеркалами ресторанов, где, кажется, нет ничего, кроме света и шума; огромное количество светильников, зеркал, сверкающих шаров, ламп, стук костяшек маджонга, музыка фонографов, голоса певиц, стоны флейт, удары цимбал и гонгов…
Световые полосы уже почти смыкаются. Шофёр сбрасывает скорость и, нервничая, безостановочно жмёт на клаксон, чтобы пробиться сквозь толпы людей в белых полотняных костюмах; толпа гораздо плотнее, чем на наших бульварах; рабочие, бедные китайцы-ремесленники шатаются здесь, поедая сладости и фрукты, неохотно расступаются перед ревущими и сигналящими машинами; шофёры-вьетнамцы выкрикивают ругательства. Здесь уже нет ничего французского.
Машина останавливается перед рестораном-курильней — без тех грубых железных балконов, что мы только что видели, и не такого колониального вида; само здание походит скорее на маленький частный особняк. У входа, над которым водружены два чёрных на золотом фоне иероглифа, как это принято, — сплошные зеркала: слева, справа, в глубине и даже на лестничных пролетах. В кассе тучный китаец, голый по пояс, перекидывает костяшки счетов: он почти полностью загораживает собой длинную комнату, где в полутьме видны оранжевые тела и руки, снующие над огромным блюдом с перламутровыми лангустами и над грудой пустых, лёгких пунцовых панцирей.
На втором этаже нас встречает китаец с бульдожьей мордой, на вид около сорока лет (знакомимся); он тут же ведёт нас в отдельный кабинет, где нас ожидают трое его соотечественников. Безупречно белые костюмы, военные воротники. На кушетке чёрного дерева колониальные каски. Знакомство. (Естественно, ни одного имени разобрать нельзя.) Столик без скатерти заставлен тарелками, чашечками с соусом; плетёные кресла. Свет электрических лампочек, во множестве привешенных к потолку, дробит черноту ночи. Комната заполняется шумом голосов, но его перекрывают разрывы петард, стук костяшек домино, удары гонга и завывания однострунной скрипки. Вентиляторы тщётно пытаются разогнать горячий воздух.
Бульдог — хозяин ресторана, выполняющий роль переводчика, — говорит мне полушёпотом, с сильным акцентом:
— На этой неделе сюда приходил ужинать господин директор французской больницы…
Он, кажется, очень гордится этим, но самый пожилой из его друзей прерывает:
— Скажи им, что…
Жерар тут же сообщает, что я знаю кантонский диалект; заметно, что они проникаются ко мне симпатией. Начинается разговор — демократическая болтовня, «права народа» и т. п. У меня складывается очень чёткое ощущение, что единственная сила этих людей — это смутное желание перемен; единственное, что они действительно осознают, — это пережитые ими страдания. Я думаю о провинциальных комитетах во времена Конвента — но эти китайцы так изысканно вежливы, и это так странно контрастирует с их привычкой шмыгать носом. Как все они верят в силу слова! И вероятно, они не готовы к чёткой и к упорной деятельности технических комитетов, которым посылают свои доллары!
Вот в беспорядке всё, что они узнали сегодня:
Во всех городах Китая англичане поспешно укрываются на территории иностранных концессий.
Крупные объединения грузчиков приняли решение, что каждый из их членов будет вносить пять центов в день в фонд помощи забастовщикам Гонконга.
В Шанхае и Пекине готовятся грандиозные демонстрации протеста против жестокостей, совершённых иностранными империалистами, и во славу свободы Китая.
В южных провинциях идёт массовая запись добровольцев.
В кантонскую армию только что доставлено из России большое количество оружия и боеприпасов.
И ещё тщательно выписанное большими иероглифами:
В Гонконге обязательно будет отключено электричество.
Вчера было совершено пять террористических актов. Серьёзно ранен начальник полиции.
Видимо, город находится на грани нехватки воды.
И наконец, новости о внутренней политике; почти все они имеют отношение к человеку, которого зовут Чень Дай.
Отужинав, мы с Жераром спускаемся вниз, где летают в низких поклонах белые рукава; решаем немного прогуляться. Свежо; сирены кораблей, стоящих вблизи, на реке, своим протяжным рёвом, далеко разносящимся во влажном воздухе, заглушают время от времени гам китайских ресторанов.
Жерар, чем-то явно взволнованный, идёт справа. Сегодня он много выпил…
— Вам нехорошо?
— Нет.
— Вы чем-то встревожены?
— Да.
Едва ответив, он осознаёт грубость своего тона и тут же добавляет:
— Есть отчего…
— Но они, кажется, были в восторге?
— Что с них взять!
— И новости хороши.
— Какие?
— Да те, что они нам сообщили, чёрт возьми! Остановка Центральной электростанции, водо…
— Так вы не слышали, что говорил мой сосед?
— Я вынужден был слушать своего, он рассказывал о своём отце и о революции…
— Он говорил, что Чень Дай, без сомнения, вскоре открыто выступит против нас.
— Ну и что?
— Как это — ну и что? Вам этого мало?
— Может быть, и не мало, если бы я…
— Говоря коротко, он самый влиятельный человек в Кантоне.
— В чём это проявляется?
— Не могу объяснить. Впрочем, вы ещё много о нём услышите; будьте спокойны, это духовный вождь всех правых в партии. Друзья называют его китайским Ганди. Они, правда, ошибаются.
— Если конкретно, чего он хочет?
— Конкретно! Сразу видно, как вы молоды… Я ничего об этом не знаю. Он сам, возможно, тоже.
— Но чем он вам мешает?
— У нас были довольно напряжённые отношения. Теперь же, как кажется, он готовится обвинить нас перед лицом Комитета семи и в глазах общественного мнения.
— В чем обвинить?
— Разве я знаю? Эх! Увидели превосходные радиограммы и решили, что всё хорошо! Внутреннее положение столь же сложно, как и внешнее, поверьте мне… Не только в Гонконге, а в самом Кантоне нужно обезвреживать эти военные заговоры; англичане их организуют без конца и возлагают на них большие надежды… Я узнал сегодня только одну по-настоящему хорошую новость — начальник английской безопасности ранен. У Гона больше способностей, чем я думал. Гон — это глава террористов, как раз о нём нам время от времени сообщается в радиограммах: «Вчера в Гонконге было совершено два покушения… Три покушения… Пять покушений…» — и так далее. Гарин очень ему доверял. Гон был его секретарём, когда работал с нами. Впрочем, что за дурацкая выдумка — делать секретаря из этого мальчишки. Гон привязался к нему с юношеской пылкостью. Ничего, это пройдёт. Но надо признать, что он большой чудак. В первый раз я его увидел в Гонконге, это было в прошлом году. Мне сказали, что он решил застрелить губернатора, из браунинга — это он-то, который не мог попасть в дверь с десяти шагов. Приходит он ко мне в гостиницу, руки болтаются, громадные, как коромысла. Совсем пацан! «Вы в курсе моего пла-на?» Очень сильный акцент, такое впечатление, что он разрубает слова на слоги своими челюстями. Я говорю, что «его план», как он это именует, довольно-таки глуп; он меня слушает, очень раздосадованный, в течение четверти часа. Затем: «Да. Но э-то всё равно. Тем хуже. Потому что я дал клят-ву». Разумеется, теперь ему ничего не оставалось, как разрушить абсолютно всё! Он поклялся кровью своего пальца, уж не знаю где, в какой-нибудь пагоде новейшего типа… Он был очень, очень раздосадован. А у меня он всё же вызывал симпатию: китайцев такого типа не часто встретишь. Наконец, уже перед уходом, он передёрнул плечами, как будто у него были блохи, и, пожимая мне руку, очень медленно произнёс: «Ког-да ме-ня при-го-во-рят к смертной каз-ни, надо будет приказать юно-шам сле-до-вать моему при-ме-ру». Я много лет не слышал таких слов — «смертная казнь». Книжек начитался… Но сказано было с полным хладнокровием, как будто он говорил: «Когда я умру, пусть моё тело кремируют».
— А что с губернатором?
— Он собирался его прикончить через день, во время какой-то церемонии. Я хорошо помню, как я сидел на кровати нагишом, с всклокоченной головой — дьявольски жарко, хотя и десяти ещё не было, — сидел и прислушивался к шуму клаксонов, рожков и к воплям людей, спрашивая себя, означает ли это окончание церемонии или конец губернатора… Но Гона как подозрительного элемента выслали из города ещё утром. Во всём этом ужасном гаме я ясно различал, как он разрубает челюстями слова, и особенно чётко слышал его голос, говоривший:
— Ког-да ме-ня при-го-во-рят к смертной каз-ни…
Я, впрочем, и посейчас его слышу… И он вовсе не пускал пыль в глаза. Он в самом деле думал и выражал на своём удивительном языке, что его приговорят к смертной казни. Так оно и будет. Пацан…
— Откуда он родом?
— Из нищеты. Я думаю, он никогда не знал своих родителей. Но он сумел обратить это себе на пользу, заменив их одним типом, который продаёт теперь в Сайгоне сувениры, всякие забавные штучки и тому подобное… Вот что! Хотите выпить настоящего перно?
— Не отказался бы.
— Кто же отказывается от такого. Завтра зайдём к нему… И вы увидите одного из тех людей, которые «воспитали» террористов. Таких, как он, уже мало осталось… Вы ещё не хотите спать?
— Не то чтобы очень.
Он подзывает шофёра, тот подходит к нам.
— К Тхи Сяо.
Мы едем. Пригород с редкими фонарями, длинные ряды почерневших домов, каналы, в которых дрожат уже бледнеющие звёзды, непроглядная темень, где иногда мелькают квадратные точки света: вьетнамские лавчонки, в которых неподвижные торговцы дремлют между грудами голубых чашек… Действительно ли Жерар преподавал в лицее? Его поведение, его манера говорить меняются по мере того, как он устаёт. Хотелось бы мне знать… Мы едем очень быстро, и теперь становится почти холодно. Забившись в свой угол и скрестив для тепла руки на груди, я по-прежнему слышу всю ту демократическую болтовню за ужином, все те смехотворные лозунги, уже немыслимые в Европе и подобранные здесь, как ржавые, непригодные корабли; я по-прежнему вижу, какой восторг они вызывают у людей отнюдь не юношеского возраста, почти стариков… И за всем этим медленно вырастает комиссариат в Кантоне: это он стоит за радиограммами, которых не может скрыть Гонконг, — они появляются одна за другой, как открытые раны.
1 июля
Гонконг. — Китайские санитары в больницах объявили забастовку.
Корабли Навигационной компании Индокитая не могут выйти из порта.
Вчера были совершены новые террористические акты.
Нет никаких известий о том, что происходит в концессии Шамянь.
Хандра, тоска, досада… Я не знаю, чем заняться в этом городе, где вынужден ожидать отправления парохода, — а я так стремлюсь в Кантон. Жерар приходит ко мне в гостиницу, и мы садимся завтракать; ещё очень рано, и в зале, кроме нас, почти никого нет. Он рассказывает мне, на сей раз не так туманно, о Гоне, который занят теперь истреблением — одного за другим — начальников английских спецслужб, и о человеке, к которому мы отправимся во второй половине дня, человеке, который волей случая стал, по выражению Жерара, «повивальной бабкой Гона». Его зовут Ребеччи; он из Генуи и китайскую революцию переживает со спокойствием лунатика. Много лет назад он приехал в Китай и открыл магазин в Шамяни; однако богатые европейцы внушали ему такое отвращение, что он забросил своё дело и переселился прямо в Кантон. Там в 1920 году с ним познакомились Жерар и Гарин. Он продавал китайцам всякий дешёвый европейский хлам, и особенным успехом пользовались игровые автоматы: поющие птички, танцующие балерины, коты в сапогах, начинавшие прыгать, если в прорезь опускалась монетка. На это он жил. Он бегло говорил по-кантонски и женился на китаянке, тогда довольно красивой, а теперь растолстевшей. В году примерно 1895-м он был активистом партии анархистов, но говорить об этом периоде своей жизни не любил, хотя всегда вспоминал о нём с горделивой грустью. Он сожалел о нём тем больше, чем яснее осознавал, насколько стал слаб: «Чито вы хотите, взе прошло…»
Иногда Жерар с Гариным заходили к нему около семи часов; в это время начинала светиться его большая вывеска; мальчишки с косичками разглядывали её, рассевшись кружком на земле. Лучи заходящего солнца цеплялись за блестки на шёлковых платьях кукол. С кухни доносился звон кастрюль. Ребеччи, полулежа в шезлонге из ивовых прутьев посреди своего узенького магазинчика, мечтал о том, как он будет разъезжать по провинции с новыми игровыми автоматами. Китайцы будут выстраиваться у входа в его палатку, он вернётся богатым и сможет купить большой магазин, где будут продаваться электрические ружья, негры в штанишках из красного бархата, подвесные груши, качели, дешёвая утварь и, может быть, инвентарь для боулинга… Когда приходил Гарин, Ребеччи выныривал из своих грёз, как из ванны, встряхиваясь, протягивал ему руку и начинал рассказывать о магии. Это был его конёк. Не то чтобы он был суеверным в прямом смысле слова, но это его интересовало. Не было доказательств существования демонов на земле вообще и в Кантоне в частности, однако ничто не доказывало и обратного. А потому следовало их вызвать. И он вызывал их много раз, соблюдая все положенные обряды: вызывал тех, чьи имена он нашёл в разрозненном «Большом Альбере», а также тех, чьи имена очень хорошо знали нищие и служанки. Демонов оказывалось не так уж много, но зато он получал множество ценных указаний и пользовался ими, чтобы поразить своих клиентов или лечить их при случае от не очень опасных недугов. Слегка баловался он и опиумом, а в послеполуденные часы бесцельно бродил, его светлый силуэт узнавали издалека: плоская каска, узкая фигура, широкие штаны, пришпиленные снизу и ставшие шароварами, ступни вывернуты наружу, как у Чарли. Выходил он обычно с велосипедом, но не ездил на нём, а катил его рядом. Велосипед был старый, но всегда тщательно смазанный.
В доме его всегда жило много девочек, которых он подбирал и определял в служанки; основной их работой было слушать его рассказы. Жена-китаянка бдительно за ними следила, так как знала, что он был бы не прочь попробовать с ними разные штучки. У него было чисто колониальное влечение к эротике, и он без конца читал то «Ключицы Соломона», то «Царство плети» и «Рабыню» или другие французские книжонки того же пошиба. Затем он впадал в долгие раздумья, а когда приходил в себя, то умильно и боязливо оглядывался, как ребёнок, знающий, что делает дурное. «Господин Гарин, чито вы думайте, в любви есть грязь?» — «Не знаю, старина, а что такое?» — «Чито такое, чито такое… этто мне интересует». В его библиотеке стояли также том «Отверженных» и несколько брошюр Жана Грава, которого он разлюбил, но книги его хранил по-прежнему.
В 1918-м он выделил Гона среди тех китайчат, которые приходили его послушать. Довольно скоро он забросил все свои истории про призраков и обучил Гона французскому (английского он почти не знал, а итальянских книг у него не осталось). Гон, научившись говорить, выучился читать, потом почти без посторонней помощи выучил английский и прочёл все, что смог найти, — весьма немного. Опыт Ребеччи заменил ему то образование, которое приобретают путём чтения книг. Их связывала тесная дружба, которая внешне ничем не проявлялась, и трудно было об этом догадаться, если судить по грубости Гона и боязливо-неловкой иронии генуэзца. Гон, выросший в нищете, быстро понял, чего стоит его старый друг: он не подавал милостыни, но уводил нищих к себе «выпить рюмочку» — до того дня, когда в его сверкающий магазин вломилась толпа голодных, а у него не было ни гроша, и ему пришлось прогнать их пинками; когда его брата сослали на каторгу в Бириби, он бросил всё, чтобы устроиться поближе к нему и с помощью «маленьких хитростей» сделать его существование более или менее сносным, а также получить возможность свиданий и, целуя его при прощании в губы, засовывать ему в рот золотой луидор. Сам Ребеччи был глубоко привязан к этому подростку, который так простодушно хохотал над его байками, но в котором он чувствовал редкую отвагу, необычайную твёрдость перед лицом смерти и особенно фанатизм, который его очень интриговал. «Если тибе не убут слишком рано, много чего зделаешь».
Гон прочёл книжки Жана Грава, а затем спросил Ребеччи, как он к нему относится. Реббечи задумался, прежде чем ответить — что с ним редко случалось, — и сказал:
— Я должен поразмыслить, малый, потому чито, понимаешь, для меня Жан Грав — этто не какой-то там тип, этто моя молодость… О скольком мечталось, а теперь вот завожу механических питичек… То время было лудше, но мы были не правы… Удивляешься, чито я этто говорю, а? Нет, мы были не правы. Потому чито… послуджай и позтарайся понять: если у тебя только одна джизнь, не нужно стараться изменить порадок вещей… Самое друдное — этто понять, чито ты хочешь. Например, ты брозаешь бомбу в чиновника, понимаешь? Он оддает концы, и этто здорово. Но если ты надчинаешь выпускать газету, читобы объязнить теорию, взе на этто плюют…"
Жизнь его не удалась. Он не слишком понимал почему, но она не удалась. В Европу он не мог вернуться: к физическому труду он уже был не способен, а другим заниматься не желал. А здесь, в Кантоне, он скучал, хотя, в сущности… Скучал ли он или же сожалел, что дошёл до жизни, так мало достойной идеалов его юности? Но упрекать себя за это означало быть глупцом. Ему было предложено возглавить полицейскую службу при Сунь Ятсене, но он был всё ещё слишком анархистом, чтобы понять, что не сможет шпионить или доносить. Позднее Гарин предложит ему работать в своём комиссариате. «Нет, нет, господин Гарин, очень любезно с вашей зтороны, но я думаю, чито теперь этто злишком поздно…» Может быть, он отказался напрасно? В целом же он был если и не слишком доволен, то по крайней мере спокоен среди своих демонов и книг по магнетизму, имея Гона, китаянку и игровые автоматы…
Гон много размышлял о том туманном объяснении, которое Ребеччи дал своей жизни. Единственное, что внушил Гону Запад настолько сильно, что он уже не мог от этого избавиться, было понятие об уникальности жизни. Одна-единственная жизнь, единственная жизнь… Он не извлёк из этого страха перед смертью (ему так и не удалось до конца понять, что такое смерть; даже и сейчас умереть для него означает не смерть, а сильное страдание от тяжёлой раны), но он познал глубокий и постоянный страх перед опасностью испортить жизнь, собственную жизнь, в которой уже ничего нельзя будет исправить.
Именно в таком неопределённом состоянии духа он стал одним из секретарей Гарина. Гарин выбрал его потому, что он благодаря своей отваге пользовался уже значительным влиянием в довольно многочисленной группе молодых китайцев, составлявших крайне левое крыло партии. Гон был ослеплён Гариным, однако вечерами он передавал Ребеччи, не без некоторой настороженности, всё то, что Гарин говорил и приказывал. Старый генуэзец полулежал в шезлонге, разглядывая бумажную ветряную мельницу или китайский шар, наполненный водой, в которой виднелись фантастические сады; он откладывал игрушку, складывал руки на животе, иногда озадаченно вскидывал брови и в конце концов отвечал: «Ну, чито, моджет быть, он прав, эттот Гарин, моджет быть, он прав…»
Между тем беспорядки усиливались, а Ребеччи постепенно разорялся, и наконец он согласился занять пост в отделе общей информации, оговорив заранее, что он, разумеется, «ни за кем шпионить не будет». И Гарин послал его в Сайгон, где он оказался весьма полезен.
Позавтракав, мы шагаем, обмякнув под тяжестью жары. Жерар замолкает. В это время Ребеччи можно застать дома.
Входим в маленький магазинчик: открытки, сигареты, маленькие статуэтки Будды, вьетнамские медные безделушки, камбоджийские рисунки, сампо, шёлковые подушки, вышитые драконами; все стены увешаны до потолка какими-то непонятными железными предметами, недосягаемыми для солнечных лучей. За кассой спит толстая китаянка.
— Хозяин здесь?
— Нета, гаспадина.
— Где он?
— Не знать.
— В бистро?
— Мо бы бистро «Нам-Лон»!
Мы переходим улицу: бистро «Нам-Лон» напротив. Очень тихое место; на потолке дремлют маленькие бежевые ящерицы. Двое слуг снуют по лестнице, неся трубки с опиумом и фарфоровые кубы, на которые курильщики опираются головой; прямо перед нами спят голые по пояс официанты, уткнувшись лицом в собственную руку, так что видны только волосы. На скамье чёрного дерева полулежит какой-то человек, глядя прямо перед собой и тихонько покачивая головой. Увидев Жерара, он встаёт. Я слегка удивлён: я ожидал увидеть нечто героически-гарибальдийское, а это маленький сухонький человек, у него узловатые пальцы, остриженные кружком прямые седеющие волосы, лицо, как у марионетки…
— Вот этот человек уже много лет не пил перно, — говорит Жерар, показывая на меня пальцем.
— Хорошо, — отвечает Ребеччи. — Этто можно.
Он выходит, мы следуем за ним. «Гарин прозвал его Сапожником», — шепчет мне на ухо Жерар, когда мы переходим улицу.
Мы входим в его магазин и поднимаемся на второй этаж. Китаянка, подняв голову, смотрит на нас, затем снова засыпает. Большая комната. В центре кровать с москитной сеткой; вдоль стен какая-то мебель, покрытая полосатыми полотняными чехлами. Ребеччи выходит, оставляя нас одних. Мы слышим скрежет ключа в скважине, стук резко захлопываемого сундука, журчание воды в кране и шум наполняемого стакана.
— Я спущусь на минутку, — говорит Жерар. — Мне надо сказать пару слов его китаянке, если она не слишком крепко спит. Ей будет приятно.
Минутка длится долго. Ребеччи возвращается первым, неся на подносе бутылку, три стакана, воду и сахар. Он по-прежнему не говорит ни слова, садится и смешивает три порции перно. Помолчав, произносит:
— Вод дак! Я деперь отставной…
— Ребеччи! — кричит Жерар, который поднимается наконец, оглаживая бороду. — Расскажи-ка товарищу о своём духовном сыне. Да, пришлось задержаться внизу: показалось, что за нами увязались шпики. Но нет, чисто.
Он не видел, как изменился в лице Ребеччи при упоминании Гона.
— Ну ты! Если б я тебя не знал как зледует, я бы тебе шею звернул… Шутить с эттим не смей!
— Какая муха тебя укусила?
— Такая, чито зейчас не то время, вот чито!
— Какое время?
Ребеччи раздражённо пожимает плечами.
— Ты не ходил на приём к президенту зегодня утром?
— Нет.
— А где шлялся?
— Встреча у нас в пять.
— А, вот чито! Тебе зледовало бы его просить порассказать о Гоне. Он бы тебе зказал, чито Гон попался им в лапы.
— Англичанам? Белым? Когда это произошло?
— Говорит, чито вчера вечером. Через два часа после радиограмм, каджется…
Помешав ложечкой в стакане, он выпивает его одним духом.
— В другое время почему бы и нет… А перно для товарищей взегда найдется…
2 июля
Вниз по реке
Казалось, что по мере приближения к цели тревожная суматоха должна увеличиться. Но ничего похожего — на пароходе царит общее оцепенение. Проходит час за часом, пока, обливаясь потом, мы движемся в плотном тумане между плоских берегов реки. Гонконг становится всё ощутимее, это уже не просто название, некая точка на карте, украшение из камня — каждый чувствует, как он входит в его жизнь. Подлинной тревоги нет, есть некое неопределённое состояние, в котором смешиваются нервная монотонность качки и ощущение, что ты находишься на свободе последние мгновения своей жизни; но самого тебя ещё ничто не коснулось, и угроза ещё не обрела материальные формы. Странные мгновения, когда на всём пароходе берут верх атавистические животные инстинкты. Почти полное блаженство. Возбуждающая расслабленность. Ещё ничего нет, кроме новостей, и ты пока не схвачен…
Произведения
Критика