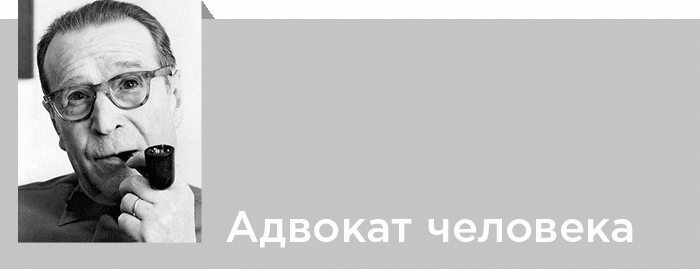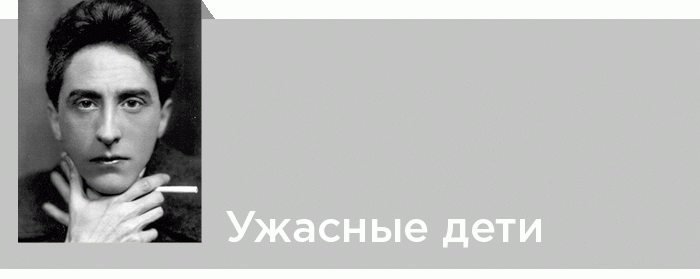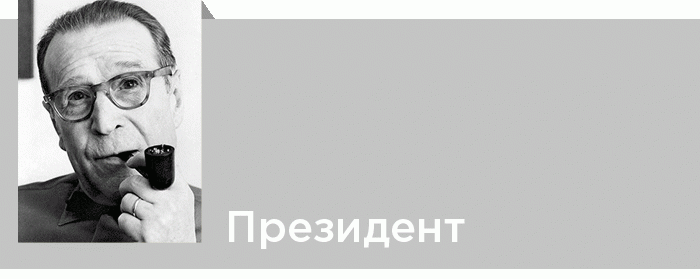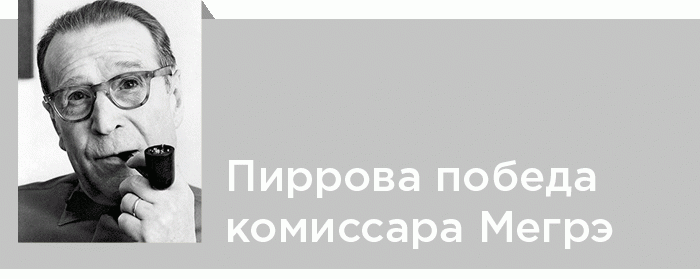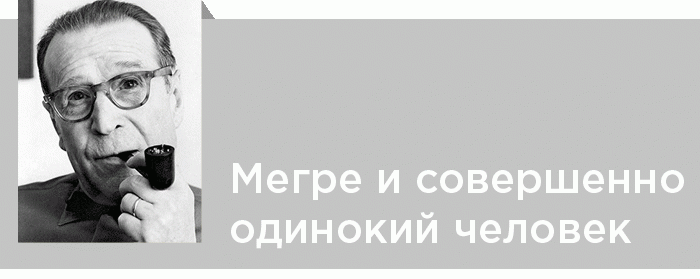Жорж Сименон. Поезд
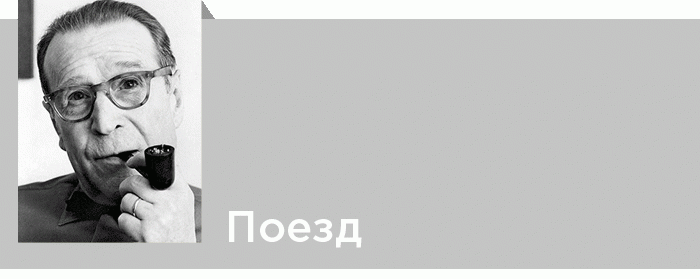
(Отрывок)
1
Когда я проснулся, сквозь занавески из сурового полотна сочился привычный желтоватый свет. На втором этаже у нас нет ставен. Как, впрочем, и в остальных домах по нашей улице. Я слышал, как на ночном столике тикает будильник, а рядом со мною размеренно дышит жена почти так же громко, как в кино больные во время операции. В ту пору она была беременна, на восьмом месяце. Как и тогда, когда она ждала Софи, из-за огромного живота ей приходилось спать на спине.
Не глядя на будильник, я высунул ногу из-под одеяла, Жанна шевельнулась и сквозь сон спросила:
— Который час?
— Половина шестого.
Всю жизнь я просыпался рано, особенно после санатория, где летом нам ставили градусник в шесть утра.
Жена опять заснула глубоким сном, ее рука уже лежала там, где только что спал я.
Я бесшумно оделся, делая привычные движения, ставшие уже утренним ритуалом, и поглядывая изредка на дочку, кроватка которой еще стояла тогда у нас в спальне. Мы выделили ей самую красивую комнату в доме, смежную с нашей, но она отказывалась спать там.
Я вышел из спальни, держа туфли в руке, и надел их, только когда спустился с лестницы. И тут от шлюза Юф, находящегося километрах в двух, донеслись первые судовые гудки. По правилам шлюзы открываются для прохода барж с восходом солнца, и вот каждое утро начинается с такого концерта.
В кухне я зажег газ и поставил кипятиться воду. День опять обещал быть солнечным и жарким. Все это время стояли ясные дни, и я сейчас еще могу показать, как час за часом перемещались пятна солнечного света в каждой комнате.
Я открыл дверь во дворик, над которым мы сделали стеклянную крышу, чтобы жена могла там стирать в любую погоду, а дочка — играть. На желтых плитах двора стояла кукольная коляска, а чуть подальше валялась кукла.
В мастерскую я входить не стал, поскольку держался «устава», как в ту пору я называл распорядок дня. Распорядок этот установился сам по себе, постепенно, и стал скорее привычкой, чем обязанностью.
Пока грелась вода, я насыпал кукурузы в синий эмалированный таз с проржавевшим дном, отчего он больше ни на что другое не годился, и прошел через сад покормить кур. Мы держали шесть белых куриц и петуха.
На овощах, на нашем единственном кусте сирени, чьи лиловые цветы уже начали увядать, сверкала роса, и я все время слышал не только гудки, но и стук судовых двигателей.
Хочу сразу сказать, что я вовсе не был ни несчастным, ни печальным. Я считал, что в тридцать два года осуществил уже все планы, какие только мог строить, все надежды.
У меня была жена, дом, четырехлетняя дочка, немножко нервная, но доктор Вилемс утверждал, что это пройдет.
У меня было свое дело, и клиентура росла изо дня в день, особенно, разумеется, в последние месяцы. Из-за тогдашних событий каждому хотелось иметь радиоприемник. Я же не только продавал новые, но и ремонтировал старые, а так как мы жили в двух шагах от набережной, где останавливались на ночь баржи, среди моих клиентов были и речники.
Позже я услышал, как у наших соседей слева, тихих старичков Матре, открылась дверь. Сам Матре чуть ли не сорок лет прослужил кассиром во Французском банке и тоже был ранней пташкой; день он начинал с того, что выходил подышать в сад.
На нашей улице все садики одинаковые, в ширину дома, и отделены друг от друга заборами такой высоты, что видишь только темя соседа.
С некоторых пор старик Матре взял привычку подкарауливать меня, так как мои приемники позволяли брать короткие волны.
— Господин Ферон, сегодня утром ничего нового?
В тот день, прежде чем он задал мне этот вопрос, я ушел в дом и налил вскипевшую воду в кофейник. Знакомые вещи стояли на своих местах, которые мы с Жанной назначили им или которые они со временем как бы заняли сами.
Не будь жена беременна, я уже слышал бы ее шаги на втором этаже: в обычном состоянии она вставала сразу после меня. И, однако, прежде чем войти в мастерскую, я привычно готовил себе утренний кофе. Мы придерживались многих ритуалов, и, думаю, в других семьях дело обстоит так же.
Первая беременность жены проходила тяжело, роды были трудные. Жанна объясняет нервозность Софи тем, что пришлось накладывать щипцы и девочке помяли головку. Снова забеременев, она панически, маниакально боялась, что роды будут неудачные, что она родит ненормального ребенка.
Доктору Вилемсу, которому она во всем доверяла, не удавалось успокоить ее дольше чем на несколько часов, и вечером она никак не могла заснуть. И еще долго, после того как мы ложились в постель, я слышал, как она пытается найти удобное положение, а кончалось все тем, что она шепотом спрашивала меня:
— Марсель, спишь?
— Нет.
— Я вот все думаю, может, у меня в организме не хватает железа. Я читала в одной статье…
Она пыталась заснуть, но очень часто это ей удавалось лишь часа в два ночи, да и потом она нередко с криком вскакивала.
— Марсель, у меня опять был кошмар.
— Расскажи.
— Нет. Лучше я не буду о нем вспоминать. Это ужасно. Прости, что я тебя разбудила, ты столько работаешь…
В последнее время она вставала около семи и спускалась готовить завтрак.
С чашкой кофе в руке я вошел в мастерскую и распахнул застекленную дверь, ведущую во двор и сад. Солнце пока еще лежало на полу правее двери, но я точно знал, когда оно доберется до моего рабочего стола.
Этот не совсем обычный рабочий стол — большой, страшно тяжелый, раньше принадлежал монастырю, а купил я его на аукционе. На нем стояло несколько приемников, которые я взял в ремонт. Инструменты разложены на стенной полке, мне очень удобно их брать. По остальным стенам стеллажи из некрашеного дерева, которые я сделал сам, разделенные на ячейки; в них стоят на листках с фамилиями владельцев взятые в ремонт радиоприемники.
В конце концов я, разумеется, все же включил приемник. У меня это превратилось в какую-то игру: как можно дольше оттягивать этот момент. Вопреки всякой логике, я говорил себе: "Если я чуть-чуть подожду, может быть, это случится сегодня…"
В тот день я сразу же понял: наконец что-то произошло. Никогда еще эфир не был так заполнен. На всех волнах станция налезала на станцию: всюду голоса, свист, фразы на немецком, голландском, английском, французском; чувствовалось, что пространство словно пульсирует трагедией.
— Сегодня ночью войска рейха начали массированное наступление на…
Нет, пока еще не на Францию — во всяком случае, об этом не говорилось, — а на Голландию; они только что вторглись туда. Я поймал бельгийскую радиостанцию. Стал искать Париж, но он молчал.
Солнечный свет дрожал на сером полу, а в глубине сада наши шесть кур суетились вокруг петуха, которого Софи звала Нестором. Почему я вдруг подумал, что станет с этими обитателями нашего крохотного птичника? Я, можно сказать, расстроился из-за их судьбы.
Я снова повернул ручку, перейдя на короткие волны: впечатление было такое, будто все говорят одновременно. На какое-то мгновение я поймал военный марш, но тут же потерял, так что не знаю, какой армии это был марш.
Некий англичанин передавал сообщение, повторяя каждую фразу, словно диктуя ее, но я ничего, разумеется, не понимал; затем я наткнулся на радиостанцию, которую никогда не слышал, — полевой передатчик.
Видимо, он находился очень близко и принадлежал одной из частей, которые с октября, с начала "странной войны", стояли в окрестностях.
Голоса обоих собеседников звучали так чисто, словно они разговаривали по телефону, и думаю, они располагались где-то поблизости от Живе. Впрочем, это не имеет никакого значения.
— Где ваш полковник?
У задавшего вопрос был сильный южный акцент.
— Знаю только одно: здесь его нет.
— Но он должен быть.
— И что я, по-твоему, должен делать?
— Надо его найти. Где-то же он ночует.
— Во всяком случае, не в своей постели.
— В чьей же?
Раздался смех.
— Когда в чьей.
Треск помешал мне дослушать продолжение разговора, и в этот же момент я увидал над забором седые волосы и розовое лицо г-на Матре; у него там стоял в качестве подножки старый ящик.
— Что нового, господин Ферон?
— Немцы вторглись в Голландию.
— Официальное сообщение?
— Бельгийцы передали.
— А Париж?
— Передает музыку.
Я услышал, как он заспешил к дому, крича:
— Жермена! Жермена! Началось! Они наступают!
Я тоже так подумал, но слова для меня и для г-на Матре имели разный смысл. Мне немножко неудобно это говорить, но я почувствовал облегчение. Я даже думаю, не ждал ли я с нетерпением этой минуты уже с октября, а то и с Мюнхена;[1] не испытывал ли каждое утро, включив приемник, разочарования, когда слышал, что армии все так же стоят друг против друга, не вступая в сражение.
Было 10 мая. Пятница. Да, я почти уверен, пятница. Месяцем раньше, в начале апреля — не то 8, не то 9, у меня появилась надежда, когда я услыхал, что немцы напали на Данию и Норвегию.
Не знаю, как это объяснить, и даже не уверен, что кто-то меня поймет. Мне скажут, что мне ничто не грозило, потому что из-за сильной близорукости меня все равно не призвали бы. У меня 16 диоптрий, а это означает, что без очков я ничего не вижу, как, скажем, темной ночью или, в лучшем случае, в густом тумане.
Я очень боялся остаться без очков, например упасть на улице и разбить их, и всегда носил с собой запасные. Не говорю уже о своем здоровье, о четырех годах, с четырнадцати до восемнадцати, проведенных в санатории, об обследованиях, которые я должен был проходить буквально до недавнего времени. Все это не имеет никакого отношения к нетерпению, которое я пытаюсь объяснить.
Поначалу у меня было мало шансов зажить нормальной жизнью, а еще меньше — достичь приличного положения и завести семью.
Тем не менее я был счастливым человеком — и это следует помнить. Я любил жену. Любил дочку. Любил свой дом, привычное окружение и даже нашу улицу, тихую, солнечную, ведущую к Мезе.
И все же это правда: в день объявления войны я почувствовал облегчение. Я сам удивился, услышав свой голос:
— Это должно было случиться! Жена недоуменно посмотрела на меня.
— Почему?
— Потому. Я был уверен в этом.
Внутренне я был убежден, что дело вовсе не во Франции и Германии, не в Польше, Англии, Гитлере, нацизме или коммунизме. Политикой я никогда не интересовался, да и ничего в ней не понимаю. Вряд ли я сумел бы назвать фамилии трех-четырех французских министров.
Нет! Эта война, вдруг разразившаяся после года обманчивого спокойствия, касалась моих личных счетов с судьбой.
Я уже пережил здесь же, в Фюме, одну войну, но тогда я был ребенком: в 1914 году мне было шесть. Помню, как утром, в проливной дождь, уходил из дому мой отец в военной форме, а у мамы весь день были красные глаза. В течение четырех лет я слышал пушки; особенно хорошо их было слышно, если поднимешься повыше. Помню немцев, их островерхие каски, накидки офицеров, объявления на стенах, помню карточки, скверный хлеб, отсутствие сахара, масла, картофеля.
Помню, как однажды ноябрьским вечером мать вернулась домой совершенно нагая, с наголо остриженной головой, как она бросала ругательства и похабные слова парням, которые толпой шли за нею.
Мне было десять лет. Мы жили в центре, на втором этаже. Отовсюду доносились веселые голоса, музыка, взлетали ракеты.
Мать одевалась, не глядя на меня; у нее был безумный вид, и она все время повторяла слова, которых я никогда от нее не слышал, а потом, уже полностью одетая, в повязанном на голове платке, она словно вспомнила про меня.
— Пока не вернется твой отец, о тебе позаботится мадам Жамэ.
Мадам Жамэ была наша домовладелица, жила она на первом этаже. Я был так испуган, что даже не заплакал. Мать не поцеловала меня. На пороге она остановилась в нерешительности, но тут же, ни слова больше не сказав, ушла, а потом я услышал, как хлопнула входная дверь.
Я не пытаюсь этим ничего объяснить. То есть я хочу сказать, что все это не имеет никакой связи с моими ощущениями в 1939 и 1940 годах. Я просто излагаю факты, как они мне вспоминаются.
Через четыре года я заболел туберкулезом. А потом, одна за другой, у меня было еще несколько болезней.
Короче, когда началась война, у меня возникло впечатление, что судьба сыграла со мной очередную шутку, но я не был застигнут врасплох, так как ждал, что это вот-вот должно случиться.
Но на сей раз это был не микроб, не вирус, не врожденный порок уж не знаю какой части моих глаз — врачи никак не могли прийти к согласию насчет моего зрения. Это была война, заставившая сражаться друг с другом десятки миллионов людей.
Понимаю, это нелепо. Но я всегда знал, что так будет, и был к этому готов. А после октября ожидание стало просто невыносимо. Я ничего не понимал. И все удивлялся, почему не происходит то, что должно произойти.
Неужели в одно прекрасное утро нам, как после Мюнхена, объявят, что все улажено, жизнь возвращается в нормальную колею, а вся эта страшная паника была всего лишь ошибкой?
Не означало ли бы такое развитие событий, что в моей судьбе произошел какой-то сбой?
Становилось жарче, солнце проникло уже во двор и добралось до куклы. Дверь нашей спальни отворилась, и жена позвала меня:
— Марсель!
Я встал, вышел из мастерской и задрал голову. Как и при первой беременности, лицо у жены переменилось, расплылось. Оно показалось мне трогательным, но каким-то чужим.
— Что произошло?
— Ты слышала?
— Да. Это правда? Они наступают?
— Вторглись в Голландию.
Из-за спины жены раздался голос дочки:
— Мамочка, что?
— Ложись. Еще рано.
— А что папа сказал?
— Ничего. Спи.
Жена почти сейчас же спустилась; живот мешал ей, и она широко расставляла ноги.
— Думаешь, их не остановят?
— Не знаю.
— А что сообщает правительство?
— Пока молчит.
— А что ты собираешься делать?
— Еще не думал. Попробую поймать какие-нибудь известия.
Известия передавала Бельгия — взволнованным, драматическим голосом. Этот голос объявил, что в час ночи немецкие самолеты совершили налет и бомбардировали многие пункты.
Танки прорвались в Арденны, и бельгийское правительство обратилось к Франции с призывом прийти на помощь.
Голландцы открыли плотины, затопили большую часть страны, и это вроде бы вынудило агрессора остановиться перед каналом Альберта.
Жена все это время готовила завтрак, накрывала на стол, и я слышал, как звякает посуда.
— Какие новости?
— Танки перешли бельгийскую границу почти на всем ее протяжении.
— И что же теперь?
Мои воспоминания об отдельных периодах этого дня настолько точны, что я мог бы описать их буквально по минутам, зато из других мне помнятся только солнце, весенние ароматы да синева неба, такая же, как в день моего первого причастия.
Улица проснулась. В домах, почти ничем не отличающихся от нашего, началась жизнь. Жена открыла дверь, вышла взять хлеб и молоко, и я слышал, как она разговаривает с нашей соседкой справа, г-жой Пьебеф, женой учителя. У них прелестная дочурка, румяная, кудрявая, с большими голубыми глазами и длинными кукольными ресницами; они всегда одевают ее как на праздник, а в прошлом году купили недорогой автомобиль и теперь по воскресеньям ездят на нем на прогулки.
Не знаю, о чем они беседовали. По отголоскам, доносившимся до меня, я понял, что они не одни на улице: из всех домов вышли люди и переговаривались, стоя на пороге. Жанна вернулась бледная и угнетенная еще больше, чем обычно.
— Они уезжают! — объявила она.
— Куда?
— На юг, все равно куда. Я видела в конце улицы вереницу машин с матрацами на крышах, в основном из Бельгии.
Мы уже были свидетелями, как перед Мюнхеном бельгийцы проезжали через наш город, да и в октябре кое-кто опять бежал на юг Франции богачи, которые могут переждать.
— Ты собираешься оставаться здесь?
— Пока еще не знаю.
Я был искренен. Хоть я давно предвидел события, ждал их, никакого готового решения у меня не было. Я словно ожидал знака, словно хотел, чтобы за меня решил случай.
Я сбросил с себя ответственность. Вот, пожалуй, самое верное слово, и я сейчас попытаюсь его объяснить. Еще вчера я управлял своей жизнью и жизнью близких тоже, зарабатывал деньги, делал все, чтобы она шла так, как должна идти.
Теперь — конец. Я вдруг утратил корни. Перестал быть Марселем Фероном, торговцем радиоприемниками в недавно построенном неподалеку от Мезы квартале Фюме и превратился в одного из миллионов людей, которых высшие силы швыряют всюду, куда и как им заблагорассудится.
Я больше не был связан ни со своим домом, ни со своими привычками. И буквально только что как бы совершил прыжок в пространство.
С этих пор мои решения не зависели от меня. Я начал ощущать не собственную, а всеобщую вибрацию. Жил не в своем ритме, а в ритме радио, улицы, города, проснувшегося раньше, чем обычно.
Позавтракали мы, как обыкновенно, в кухне, но молча, прислушиваясь, правда, не подавая виду из-за Софи, к тому, что делается на улице. Похоже было, что дочка не решается задавать нам вопросы, а мы, не говоря ни слова, поглядывали на нее.
— Выпей молоко.
— А там будет молоко?
— Где там?
— Куда мы поедем?
Жена отвернулась, у нее по щекам текли слезы, а я равнодушно рассматривал знакомые стены, мебель, которую мы постепенно прикупали перед свадьбой пять лет назад.
— Софи, теперь иди поиграй.
Когда мы остались вдвоем, жена сказала:
— Пожалуй, схожу к папе.
— Зачем?
— Узнаю, что они делают.
У нее есть отец, мать, три замужние сестры, причем две живут в Фюме, а одна так даже вышла за владельца кондитерской с Замковой улицы.
Это из-за ее отца я завел собственное дело: он хотел хорошо устроить своих дочерей и ни за что не разрешил бы Жанне выйти за рабочего.
Кроме того, он заставил меня купить дом в рассрочку на двадцать лет. Выплачивать мне оставалось еще пятнадцать лет, но в его глазах я был домовладельцем, и для него это было гарантией на будущее.
— Еще неизвестно, Марсель, что вас ждет. Конечно, вы вылечились, но я знаю сколько угодно людей, которые снова заболели.
Начинал он свою жизнь шахтером, добывал сланец неподалеку от Дельмота, а стал горным мастером. У него тоже был собственный дом с садиком.
— Можно приобрести дом на таких условиях, что жене, если муж умрет, не нужно будет ничего выплачивать.
Смешно было думать обо всем этом в то утро, когда никто в целом мире не был уверен в завтрашнем дне.
Жанна переоделась, надела шляпку.
— Присмотришь за малышкой?
И она отправилась к отцу. По улице проезжало все больше машин, почти все в южном направлении, а раза два я, кажется, слышал самолеты. Но они не бомбили. Возможно, это были французские или английские, не знаю — летели они слишком высоко и было не разглядеть.
Я открыл магазин, а Софи играла во дворе. Это не настоящий магазин, дом построен так, что в нем нет специального помещения для торговли. Покупатели проходили по коридору, а витриной служило обыкновенное окно. Точно так же и в молочной, что находится чуть дальше: это обычное дело в предместьях, особенно у нас на севере. Из-за этого приходится держать дверь дома постоянно открытой, а на двери в магазин я установил колокольчик.
Два речника пришли забрать свои радиоприемники. Я их еще не отремонтировал, но матросы все равно взяли их. Один должен был сейчас уплыть в Ретель, а второй, фламандец, решил во что бы то ни стало пробраться на родину.
Я брился, приглядывая за дочкой в окно, из которого мне были видны все садики на нашей улице, по-весеннему зеленые, цветущие. Люди переговаривались через заборы, окна были открыты, и я услышал разговор у Матре на втором этаже.
— Как ты собираешься унести все это?
— Но это все необходимые вещи.
— Может, и необходимые, но я не представляю, как ты дотащишь эти чемоданы до вокзала.
— Возьму такси.
— Попробуй сперва найди. Боюсь, что и поезда уже не ходят.
И тут мне вдруг стало страшно. Я вспомнил автомобили, едущие на юг, и мне представились толпы, тянущиеся по всем улицам к нашему вокзальчику. Уезжать надо обязательно, и мне показалось, что это вопрос уже не часов, а минут; я ругал себя, что позволил жене пойти к отцу.
Да и что он может ей посоветовать? Что он, больше меня знает?
В сущности, Жанна до сих пор принадлежала своей семье. Да, она вышла за меня, жила со мной, родила мне ребенка. Она носила мою фамилию, но все равно продолжала оставаться Ван Стетен и по любому вопросу бегала советоваться с родителями или с одной из сестер.
— Я должна спросить Берту…
Это ее младшая сестра, вышедшая замуж за владельца кондитерской, то есть сделавшая самую выгодную партию; наверно, поэтому Жанна относилась к ней как к оракулу.
Я был убежден, что уезжать нужно прямо сейчас, сию же минуту, как был убежден, не знаю почему, что нельзя оставаться в Фюме. Машины у меня не было, и для доставки товара я пользовался ручной тележкой.
Не дожидаясь прихода жены, я поднялся на чердак — взять оттуда чемоданы и черный сундучок, в котором хранилось всякое старье.
— Папа, мы поедем на поезде? Дочка бесшумно поднялась следом за мной и смотрела, что я делаю.
— Наверно.
— Ты еще не знаешь?
Я уже нервничал. Я злился на Жанну за то, что она ушла, и боялся, как бы в любой миг не произошло что-нибудь страшное; нет, еще не вступление немецких танков в город, а, скажем, бомбардировка, которая разлучит нас с женой.
Время от времени я заходил в комнату Софи, которой в общем-то мы не пользовались, так как дочка отказывалась там спать, и выглядывал на улицу.
Возле соседнего дома Мишель, дочка учителя, кудрявая, свеженькая, в нарядном белом платьице, словно семья собиралась к воскресной мессе, держала клетку с канарейкой, дожидаясь, когда родители привяжут на крышу машины матрац.
Я тут же вспомнил про наших кур и петуха Нестора, как его зовет Софи. Мы-то с женой называли его дочкин петух. Три года назад я отделил сеткой заднюю часть нашего садика и поставил там курятник в виде домика.
Жанна считала, что ребенку необходимы свежие яйца. Но шло-то это все от ее отца, который всю жизнь держал кур, кроликов и голубей. У него были даже почтовые голуби, и по воскресеньям в дни соревнований он часами сиднем сидел в саду, карауля, когда они вернутся в голубятню.
А наш петух раза два-три в неделю перелетал через забор, и мне приходилось обходить дом за домом, разыскивая его. Соседи жаловались, что он разрывает грядки, а некоторых будит своим кукареканьем.
— Папочка, можно я возьму с собой куклу?
— Можно.
— И коляску?
— Нет. Для коляски нет места в поезде.
— А где же кукла будет спать?
Пришлось сердито напомнить ей, что этой ночью кукла спала во дворе на голой земле. Тут как раз пришла жена.
— Что ты делаешь?
— Собираю вещи.
— Решил уезжать?
— Думаю, это будет самое разумное. А что твои родители?
— Остаются. Папа заявил, что не тронется из дому, что бы ни произошло. Потом я зашла к Берте. Они отправляются через несколько минут. Им нужно торопиться: говорят, всюду пробки, особенно около Мезьера.
А в Бельгии немецкие самолеты на бреющем полете расстреливают поезда и автомобили.
Похоже, отец не настроил ее, и она не противилась моему решению, но и не проявляла особой готовности уезжать. Может, она тоже предпочла бы не расставаться с домом?
— Говорят, крестьяне уезжают, погрузив на повозки все, что можно увезти, и угоняют с собой скотину. Я видела издали вокзал. На площади черно от народа.
— Что ты берешь с собой?
— Не знаю. Разумеется, вещи Софи. И какую-нибудь еду, главным образом для нее. Если бы ты мог достать сгущенного молока…
Я отправился в бакалейную лавку на соседнюю улицу; вопреки моим ожиданиям, там никого не было. Правда, после октября большинство уже сделало запасы. Хозяин в белом фартуке был совершенно спокоен, словно ничего не случилось, и мне стало немножко неудобно за свое волнение.
— У вас еще осталось сгущенное молоко? Он указал на полный ящик.
— Сколько вам?
— Можно дюжину банок?
Я думал, он откажется продать мне сразу так много. Еще я купил несколько плиток шоколада, ветчины и целую колбасу. Норм больше не существовало, не существовало никаких точек отсчета. Никто уже не был способен сказать, что дорого, а что дешево.
В одиннадцать мы все еще не были готовы, да и Жанна задерживала нас: у нее то и дело начиналась тошнота. Меня же раздирали сомнения. Мне было жаль ее. Я все думал, вправе ли я тащить ее в неизвестность. Но она не противилась — собиралась, ходила, задевая животом за мебель, за дверные наличники.
— А что же с курами? — вдруг воскликнула она. Возможно, втайне она надеялась, что мы останемся из-за кур, но я заранее все обдумал. Господин Реверсе возьмет их к себе в курятник.
— А они не уезжают?
— Сейчас сбегаю спрошу.
Реверсе жили на набережной. У них двое сыновей — сейчас они в армии, и дочка — монашенка.
— Мы уповаем на милость провидения. Если оно печется о нас, то сбережет и здесь, и где угодно.
Жена Реверсе сидела в тени и перебирала четки. Я сказал, что хотел бы оставить им своих куриц и петуха.
— А как я их заберу?
— Я дам вам ключ.
— Это очень большая ответственность.
Надо было, конечно, прямо сейчас перенести к ним птиц, но я подумал про поезд, про толпу, осаждающую вокзал, про самолеты. Время ли тут таскаться с курами?
Я принялся уговаривать:
— Вполне возможно, мы не найдем того, что оставляем, вообще ничего.
Нет, я ни капли не сожалел. Более того, испытывал некую мрачную радость, словно сам разрушил то, что упорно создавал своими руками.
Главное — уехать, выбраться из Фюме. И неважно, что впереди нас поджидали другие опасности. Да, естественно, это бегство, но что касается меня, отнюдь не бегство от немцев, от пуль, бомб, смерти.
Я много потом раздумывал над этим, и клянусь: именно такое и было у меня чувство. Я ощущал, что для других отъезд не имел столь большого значения. Для меня же — я уже говорил — то был час встречи с судьбой, с самой судьбой, и я уже давно, да что там, всегда ждал его.
Выходя из дома, Жанна всхлипывала. Я же ухватился за тележку и даже не обернулся. Я, как и сказал под конец Реверсе, уговаривая его взять моих кур, оставил дом открытым, чтобы клиенты могли зайти и, если захотят, забрать свои приемники. Ну а если кому-то захочется обворовать дом, так дверь можно и взломать.
Теперь все это было позади. Я толкал тележку, а Жанна и Софи, прижимавшая к груди куклу, шли по тротуару.
Я с трудом лавировал в толпе и один раз даже решил, что потерял жену и дочку, но потом снова нашел их.
С воем сирены промчалась военная санитарная машина, а чуть дальше я заметил бельгийский автомобиль с пробоинами от пуль.
Все эти толпы с чемоданами, с тюками, как и мы, направлялись к вокзалу. Какая-то пожилая женщина попросила разрешения поставить свои вещи ко мне на тележку и стала вместе со мной толкать ее.
— Вы думаете, будет еще поезд? Мне говорили, что линия перерезана.
— Где?
— Около Динана. Мой зять работает на железной дороге, он видел, как проходил эшелон с ранеными.
У многих в глазах сквозила тревога, но, главным образом, от нетерпения. Все хотели уехать. И нужно было успеть. Ведь каждый был уверен, что часть этих толп останется, будет принесена в жертву.
Интересно, а что грозит решившим не уезжать? Я видел за окнами лица людей, смотрящих на беглецов, и мне показалось, что в их глазах сквозит какое-то ледяное спокойствие.
Я прекрасно знал здание багажной станции, где часто получал присланные мне товары. Туда я и направился, знаком велев жене следовать за мной; только поэтому нам удалось сесть в поезд.
На путях стояло два состава. Один — воинский, и солдаты в расстегнутых мундирах насмешливо поглядывали на эвакуирующихся.
Во второй состав пока еще не пускали. Нет, не всех. Жандармы сдерживали толпу. Тележку я бросил. Сновали молодые женщины с нарукавными повязками, которые занимались стариками и детьми.
Одна из них заметила, что жена моя беременна и держит за руку дочку.
— Вам сюда.
— Но мой муж…
— Для мужчин отведены места в товарных вагонах, посадка будет позже.
Никто не спорил, не протестовал. Все подчинялись общему движению.
Жанна то и дело растерянно оборачивалась, пытаясь отыскать меня среди множества людей. Я крикнул:
— Мадемуазель! Мадемуазель! Девушка с повязкой вернулась ко мне.
— Передайте ей это. Тут еда для ребенка.
Кстати, это была вся еда, которую мы взяли с собой.
Я видел, как они поднимаются в вагон первого класса, и Софи со ступеньки помахала мне рукой, вернее, не мне, а в мою сторону разглядеть меня в этом скоплении людей она не могла.
Меня жали и стискивали. Я все время хватался за карман, проверяя, как там запасные очки, вечная моя забота.
— Да не толкайтесь вы, — кричал человечек с усиками.
А жандарм все время повторял:
— Не напирайте! Поезд отправится не раньше чем через час.
2
Женщины с повязками все продолжали устраивать стариков, беременных женщин, маленьких детей и инвалидов в пассажирские вагоны, и многие так же, как я, гадали, хватит ли в конце концов места в поезде для мужчин. Я с иронией представлял себе такую картину: мои жена и дочь уедут, а мне придется остаться.
Наконец жандармам надоело сдерживать напор толпы. Они внезапно сняли оцепление, и люди хлынули к пяти или шести товарным вагонам в хвосте состава.
В последнюю минуту я отдал Жанне заодно с продуктами чемодан, где были дочкины вещи и кое-какие вещи жены. У меня остался довольно тяжелый чемодан, а в другой руке я с грехом пополам тащил черный кофр, который на каждом шагу бил меня по ногам. Я не чувствовал боли. Я ни о чем уже не думал.
Людской поток тащил меня, задние толкали, а я только старался держаться поближе к раздвижной двери, и мне удалось пристроить чемодан у стенки; задыхаясь, я уселся и поставил между колен чемодан.
Сначала спутники, мужчины и женщины, были видны мне только ниже пояса, и лишь позже я разглядел лица. Сперва мне показалось, что я никого не знаю, и это меня удивило, потому что Фюме — городок маленький, тысяч на пять жителей. Правда, со всех окрестностей наехали земледельцы. Многолюдный квартал, который я плохо знал, опустел.
Каждый поспешно располагался, готовый защищать свое местечко, и из глубины вагона какой-то голос прокричал:
— Полно! Эй, вы, не пускайте сюда больше!
Слышались первые нервные смешки, свидетельствовавшие, что люди несколько приходят в себя. Взгляды немного смягчились. Все начинали осваиваться с бегством, устраивали вокруг себя чемоданы и узлы.
Двери по обе стороны вагона были открыты, и люди без интереса смотрели на толпу на перроне, толкавшуюся в ожидании следующего поезда, на буфет и стойку, осаждаемые пассажирами, на бутылки пива и вина, переходившие из рук в руки.
— Скажи-ка, ты… Да, ты, рыжий… Не принесешь мне бутылку?
Я собрался было сходить посмотреть, как устроились жена и дочка, а заодно успокоить их, рассказав, что для меня тоже нашлось место, но побоялся, что, вернувшись, найду это место занятым.
Мы ждали не час, как объявил жандарм, а два с половиной. Несколько раз поезд дергался, буфера сталкивались, и мы затаивали дыхание в надежде, что наконец-то трогаемся. Один раз поезд дернуло оттого, что к составу прицепили еще вагон.
Те, кто остался у открытых дверей, сообщали тем, кому ничего не было видно, что происходит:
— Цепляют еще не меньше восьми вагонов. Теперь до середины кривой всё вагоны, вагоны…
Между теми, кто разместился и был более или менее уверен, что уедет, установилась своего рода солидарность.
Какой-то мужчина вышел на перрон и принялся считать вагоны.
— Двадцать восемь! — объявил он.
Нам не было дела до тех, которые оказались брошены на платформах и на вокзальной площади. Новый натиск толпы уже не имел к нам отношения, и в глубине души мы бы предпочли, чтобы поезд поскорей тронулся, пока в вагоны не прорвались еще люди.
Мы видели старуху в инвалидном кресле, медицинская сестра везла ее к вагону первого класса. На старухе была сиреневая шляпка с белой вуалеткой, руки затянуты в белые нитяные перчатки.
Потом в том же направлении протащили носилки, и я забеспокоился, не прикажут ли сейчас выходить тем, кто уже сел в вагоны, потому что пронесся слух об эвакуации больницы.
Мне хотелось пить. Двое моих соседей выскочили из вагона с другой стороны, добежали до перрона и вернулись с бутылками пива. Я не посмел последовать их примеру.
Понемногу я привыкал к окружавшим меня лицам- все это были большей частью пожилые мужчины, потому что других призвали в армию, да женщины из простонародья, многие из деревни, мальчишка лет пятнадцати с длинной худой шеей, с торчащим кадыком, девочка лет девяти.
Двух человек я все же узнал. Во-первых, Фернана Леруа, с которым мы вместе ходили в школу; потом он поступил рассыльным в книжный магазин фирмы Ашетт, по соседству с кондитерской моей свояченицы.
Он кивнул мне с другого конца вагона, куда его затолкали, и я тоже ему кивнул, хотя уже много лет не имел случая с ним поговорить.
Что до второго, это было одно из колоритнейших лиц в Фюме, старик пьяница, которого все звали Жюлем, — он раздавал проспекты у выхода из кино.
Не сразу, но узнал я и еще одну особу; она, правда, была ко мне ближе, но ее то и дело загораживал какой-то человек, вдвое шире в плечах, чем она. Это была толстушка лет тридцати, она уже жевала бутерброд, звали ее Жюли, она держала кафе возле пристани.
На ней была синяя саржевая юбка, слишком узкая, морщившая на бедрах, и белая блузка с пятнами пота под мышками, сквозь которую просвечивал лифчик.
Как сейчас помню, от нее пахло пудрой, духами, и на куске хлеба отпечаталась ее губная помада.
Военный эшелон отбыл на север. Через несколько минут мы услышали, как на тот же путь прибыл новый состав, и кто-то заметил:
— Вот он уже и возвращается!
Но это был другой поезд, бельгийский, набитый еще сильнее, чем наш, причем только цивильными. Люди висели даже на подножках.
Некоторые устремились в наши вагоны. Набежали жандармы, выкрикивая команды. В дело вмешался громкоговоритель, возвестивший, что все должны оставаться на своих местах.
Тем не менее нескольким безбилетникам все же удалось пролезть с другой стороны вагона — среди них была молодая темноволосая женщина в черном платье, запыленная, без багажа, даже без сумочки.
Она робко проскользнула в наш вагон, лицо у нее было удрученное, бледное, и никто ей ничего не сказал. Мужчины только перемигнулись, а она тем временем притулилась, сжавшись в комок, в углу.
Нам уже не было видно машин, и я уверен, что это никого не волновало. Те, кто был у дверей, видели только клочок неба, попрежнему голубого, и гадали, не появится ли с минуты на минуту немецкая эскадрилья и не начнет ли бомбить вокзал.
С прибытием бельгийского поезда пронесся слух, что вокзалы по ту сторону границы подверглись бомбардировке; многие называли вокзал в Намюре.
Мне хотелось бы суметь передать эту атмосферу, особенно изумление в нашем вагоне. В еще неподвижном поезде мы уже понемногу превращались в особый замкнутый мирок, оставшийся, однако, в некоторой неопределенности.
Отделенные от остальных, мы, казалось, только и ждали сигнала, свистка, клубов пара, стука колес на рельсах, чтобы окончательно замкнуться внутри своей компании.
Наконец, когда мы в это уже почти не верили, поезд тронулся.
Что бы делали мои попутчики, если бы им объявили, что дорога перерезана, что поезда больше не ходят? Вернулись бы домой вместе со своими пожитками?
Что до меня, я, мне кажется, не смирился бы с этим, скорее, пошел бы пешком по шпалам. Поворачивать назад было уже поздно. Взрыв уже произошел. Мысль о возвращении на свою улицу, к своему дому, к мастерской, к саду, к своим прежним привычкам, к приемникам, ждущим на полках, пока я их починю, казалась мне невыносимой.
Толпа на перронах медленно поплыла назад, и мне показалось, будто ее никогда не было, и даже город, в котором, не считая четырех лет санатория, я прожил всю жизнь, словно утратил реальность.
Я не думал о Жанне и дочери, которые сидели в вагоне первого класса, но были от меня дальше, чем за сотни километров.
Я не спрашивал себя, что они делают, как перенесли ожидание, не тошнит ли опять Жанну.
Я больше беспокоился о запасных очках и, стоило кому-нибудь из моих соседей шевельнуться, загораживал карман рукой.
Как только поезд выехал из города, слева начался государственный лес Маниз, где мы так часто гуляли по травке воскресными вечерами. Мне казалось, что это совсем другой лес — может быть, потому, что я видел его из вагона. Густо рос дрок; состав тащился так медленно, что я различал пчел, которые с жужжанием перелетали с цветка на цветок.
Внезапно мы стали, и все переглянулись с одинаковым страхом в глазах. Вдоль пути бежал железнодорожник. Потом он что-то прокричал я не расслышал слов, и поезд опять тронулся.
Я был не голоден. Я забыл, что мне хочется пить. Я смотрел на зелень, проносившуюся мимо, всего в нескольких метрах, а то и не больше метра от меня, на лесные цветы, белые, синие, желтые, — я не знал, как они называются, да и видел-то их, как мне казалось, впервые. На меня накатывал волнами, особенно на поворотах, запах духов Жюли, смешанный с резким, но не противным, запахом ее пота.
С ее кафе дело обстояло так же, как с моим магазином. Это было не совсем настоящее кафе. Когда занавески бывали задернуты, за ними было не разглядеть, что происходит внутри.
Стойка была совсем невелика, не покрыта металлом, без полок внутри. На простой кухонной этажерке — полдюжины бутылок.
Проходя мимо, я часто заглядывал в окна, и ясно представляю себе на стене, рядом с остановившимися часами — кукушкой и законом о пьянстве в общественных местах, рекламный календарь с изображением юной блондинки со стаканом пенистого пива в руке. Меня поражало, что форма стакана — как у бокала для шампанского.
Все это чепуха, я знаю. И говорю об этом только потому, что это пришло мне в голову в тот миг. В вагоне царили другие запахи, не говоря уж о том, как пахло от самого вагона: в нем еще совсем недавно перевозили животных и стоял теперь аромат скотного двора.
Некоторые мои попутчики принялись за колбасу и паштет. Одна крестьянка взяла с собой огромную сырную голову и отхватывала от нее ножом ломоть за ломтем.
Люди ограничивались пока тем, что обменивались любопытными, хотя и осторожными, взглядами, и только те, кто был из одной деревни или из одного квартала, поддерживали разговор вслух, чаще всего перечисляя места, через которые мы ехали.
— Гляди-ка! Ферма Деде! Хотел бы я знать, остался Деде или нет. Коровы-то его точно в поле.
Мы ехали мимо полустанков, маленьких безлюдных станций с цементными цветочными вокзалами под фонарями и туристскими плакатами на стенах.
— Видал, Корсика! Взять бы да и махнуть на эту Корсику!
После Ревен состав набрал скорость, и перед самым Монтерме мы заметили печь для обжига извести, бросавшуюся в глаза среди домиков для рабочих.
Въезжая на станцию, паровоз, словно большой экспресс, оглушительно загудел. Минуя строения, перроны, кишевшие солдатами, он остановился среди пустынных железнодорожных путей и будок стрелочников.
Совсем рядом с нашим вагоном была колонка, из которой по капле сочилась вода, и я снова почувствовал жажду. Какой-то крестьянин, выскочив из поезда и пристально глядя на паровоз, мочился на соседнем пути у всех на глазах. Это было смешно. Люди испытывали потребность в смехе, и многие нарочно отпускали шуточки. Старый Жюль спал, зажав в руке початую литровую бутыль и прижимая к животу торбу с другими бутылями.
— Слышь ты, паровоз отцепляют! — объявил человек, выходивший помочиться.
Из вагона выпрыгнули еще несколько человек. Мне казалось, что я должен во что бы то ни стало держаться за свое место, что это чрезвычайно важно для меня.
Через четверть часа другой паровоз оттащил нас в обратную сторону, но вместо того, чтобы пересечь Монтерме, мы оказались на запасном пути, тянувшемся вдоль реки Семуа по направлению к Бельгии.
Я ездил туда с Жанной, еще когда она не была моей женой. Теперь я уж и не знаю, не этот ли день, августовское воскресенье, решил нашу судьбу.
Для меня женитьба имела совсем не тот смысл, что для нормального человека. Да и было ли что-нибудь по-настоящему нормальное в моей жизни с того вечера, когда я увидел, как моя мать вернулась домой нагая и с остриженными волосами?
Меня потрясло не само это событие. До сих пор я не понимаю и не пытаюсь понять. С тех пор как мне было четыре года, на войну взваливали ответственность за столько всяких вещей, что еще одна лишняя тайна не волновала меня.
Наша хозяйка, г-жа Жамэ, была вдова и недурно зарабатывала шитьем. Она возилась со мной дней десять, пока не вернулся отец, которого я не сразу узнал. Он еще носил военную форму, не такую, в какой уходил; от его усов пахло кислым вином; глаза блестели, как будто у него был насморк.
В сущности, я почти не знал отца, и единственным его изображением в нашем доме была карточка на буфете, на которой он снялся вместе с мамой в день свадьбы. Я всегда ломал себе голову, почему у обоих на снимке такие угрюмые лица. Может быть, Софи тоже считает, что на нашей свадебной фотографии лица у нас какие-то не такие?
Я знал, что он был служащим у г-на Севера, торговца зерном и химическими удобрениями, чьи конторы и склады, занимавшие изрядную часть набережной, были связаны частной железной дорогой с товарной станцией.
Мать показывала мне г-на Севера на улице. Тогда это был человек ниже среднего роста, толстый, очень бледный, лет шестидесяти, и ходил он медленно, осторожно, словно боялся малейшего толчка.
— У него больное сердце. В любую минуту он может упасть и умереть прямо на улице. Когда у него был последний приступ, его еле-еле спасли, а потом пришлось вызывать из Парижа крупного специалиста.
Мальчишкой я, бывало, провожал его глазами, гадая, не случится ли с ним приступ прямо при мне. Я не понимал, почему под угрозой такого несчастья г-н Совер спокойно расхаживает, как все люди, и не унывает.
— Твой отец — его правая рука. Он начинал у господина Совера рассыльным в шестнадцать лет, а теперь он доверенное лицо.
Что же ему доверяют? Позже я узнал, что отец действительно имел большое влияние и должность его была именно так значительна, как утверждала мать.
Он поступил на старое место, и мало-помалу мы привыкли к тому, что живем вдвоем в нашей квартирке, никогда не упоминая о матери, хотя свадебная фотография по-прежнему стояла на буфете.
Мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, почему настроение моего отца так меняется со дня на день, а иногда даже от часа к часу. То он оказывался нежным, ласковым, брал меня на колени, что меня немного смущало, и со слезами на глазах говорил мне, что на свете у него нет никого, кроме меня, но ему этого довольно, и остальное не имеет для него значения, главное-сын…
А через несколько часов он как будто удивлялся, видя меня в доме, командовал мной, словно я слуга, помыкал мною и кричал, что я ничуть не лучше, чем моя мать.
В конце концов я услышал от кого-то, что он пьет или, говоря точнее, что он начал пить с горя, когда, вернувшись домой, не нашел матери и узнал, что с ней случилось.
Я долго этому верил. Потом задумался. Вспомнил тот день, когда он вернулся, его блестящие глаза, развинченные движения, запах, бутылки, за которыми он тут же отправился к бакалейщику.
Я подслушал обрывки разговоров о войне, которые он вел с друзьями, и у меня забрезжила догадка, что выпивать он начал на фронте.
Я его не осуждаю. И никогда не осуждал, даже когда он, спотыкаясь, приводил домой женщину, подобранную на улице, и, изрыгая ругательства, запирал меня в моей комнате на ключ.
Мне не нравилось, что г-жа Жамэ ласкает меня и жалеет. Я ее сторонился. После школы у меня вошло в привычку бегать за покупками, стряпать, мыть посуду.
Однажды вечером отца привели двое прохожих — он без чувств валялся на тротуаре. Я хотел бежать за врачом, но они убедили меня, что этого не требуется, что отцу нужно просто проспаться. С их помощью я его раздел.
Г-н Совер держал его только из жалости, это я тоже знал. Много раз его доверенный говорил хозяину грубости, а назавтра плакал и просил прощения.
Это все не важно. Я хотел, собственно говоря, подчеркнуть, что вел не такую жизнь, как мои сверстники, а когда мне исполнилось четырнадцать, меня пришлось послать в санаторий в Савойе, за СенЖерве.
Я уезжал один — мне впервые предстояло ехать в поезде — и был убежден, что живым не вернусь. Это меня не печалило, я начинал понимать безмятежность г-на Севера.
Во всяком случае, таким, как другие, мне никогда не бывать. Еще в школе я казался настолько хилым, что меня не принимали в игры. И вот теперь я вдобавок заболел такой болезнью, какая считается чем-то вроде порока, которого нужно чуть ли не стыдиться. Какая женщина согласится выйти за меня замуж?
Произведения
Критика