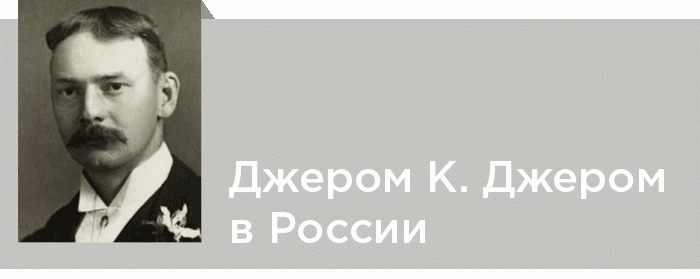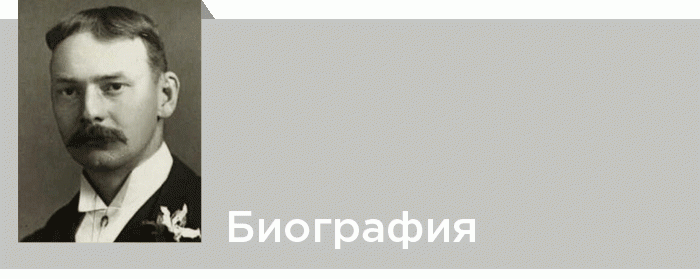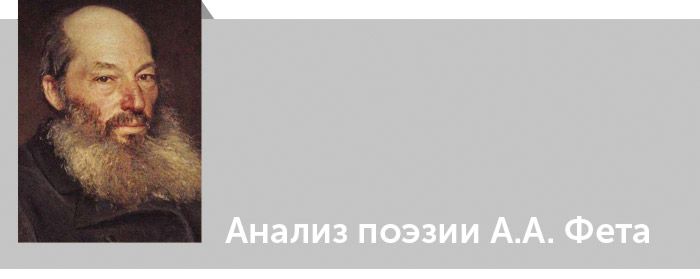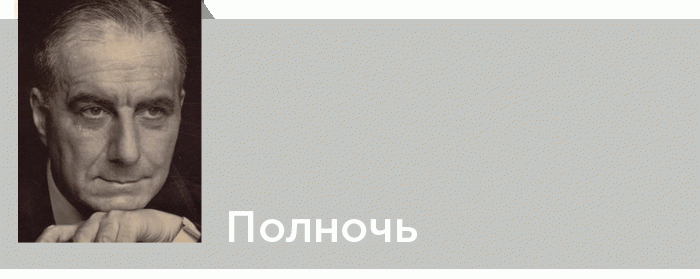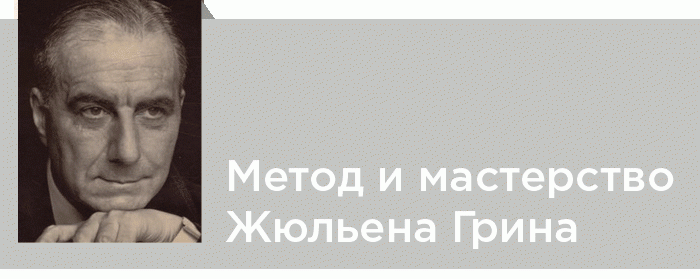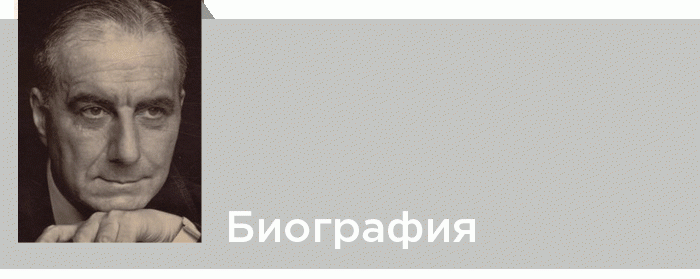Жюльен Грин. Обломки
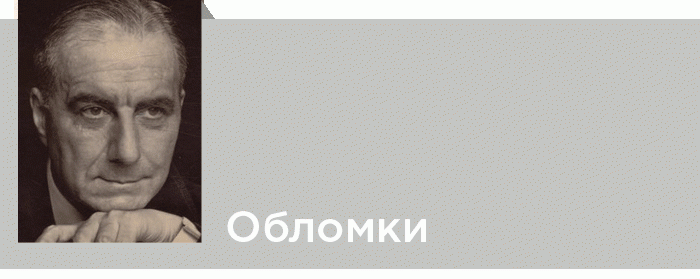
(Отрывок)
Часть первая
В ясные вечера Филипп обычно возвращался домой пешком, отчасти из соображений здоровья, а возможно, ему приятно было в наступающих сумерках бродить по улицам. Особенно ему пришелся по душе путь от вершин Трокадеро до Сены. Оттуда он шел по набережной. В этот октябрьский день, уже клонившийся к закату, он изменил обычный маршрут и свернул на бульвар Делессер, косо спускавшийся от перекрестка Пасси, где открывался вид на Иенский мост. Добравшись до парапета на улице Бетховена, он остановился.
Как раз здесь дома расступались, давая проход улице, упиравшейся в реку. Бульвар лежал много выше тупика, но этот разрыв восполняла лестница в сотню ступенек; газовые фонари скудно освещали все три лестничные марша. Справа что-то чернело, словно бездна, притягивало взор.
Сначала Филипп ничего не разглядел. Он даже перегнулся через каменный парапет, но тусклый свет фонарей не давал глазу освоиться в темноте, заполнявшей справа разверстую зияющую пустоту, хотя голоса легко доносились оттуда. Упершись затянутыми в перчатки руками о камень парапета, он склонился над бездной. Стена была, очевидно, высотой метров в десять. Внизу ругались двое.
Временами грохот колес заглушал звук голосов, да и прохожие, заметив, что какой-то человек заглядывает вниз, тоже подходили взглянуть. Тогда Филипп отходил, дожидаясь, пока люди пройдут, и снова возвращался на прежнее место.
Наконец он спустился до первой площадки, но дальше идти не рискнул. На стену противоположного дома, выдавая его присутствие, падала несоразмерно огромная тень, длинная и прямая. Он счел за благо удалиться, вернулся обратно и снова занял свой наблюдательный пункт у каменного парапета. Сюда доносились, хоть и приглушенно, голоса, но разглядеть ничего не удавалось. По непонятной причине там на лестнице он вообще ничего не слышал, а боязнь, что его присутствие обнаружат, застилала глаза.
Спорили мужчина и женщина. Видимо, они стояли в углу, образуемом боковиной лестницы и стеной, которой кончался тупик. Вдруг мужчина повысил голос; он повторил несколько раз одну и ту же фразу, потом замолк. Через минуту парочка двинулась в путь.
Филипп не тронулся с места. Ему видно было, как они медленно вышли из темноты. Мужчина был невысокий, но плотный и хватался на ходу за стену, женщина, совсем маленькая, ковыляла за ним. Оба удалились в полном молчании, так, словно свет стал помехой их разговору и прервал начатый спор; они шли по направлению к Сене.
Первым побуждением Филиппа было последовать за ними, но, взглянув на часы, он передумал. Это было даже бессмысленно. Поэтому, стоя все в той же позе, уперев оба локтя о каменный парапет, он наблюдал за парочкой шагавшей то по тротуару, то по середине мостовой.
Несколько раз мужчина, который, без сомнения, был под хмельком, останавливался, словно в нерешительности; тогда останавливалась и женщина, как то удивительно покорно и боязливо; висевшая у нее на локте большая черная сумка оттягивала ее в сторону, и даже стан чуть кривился. Она стояла и ждала, пока ее спутник укрепится на ногах, и только тогда двигалась вперед.
Филипп следил за ними взглядом, пока они не повернули за угол, где как раз помещалось крохотное кафе, и падающий из окон свет словно всосал их обоих. Теперь улица окончательно опустела. Кому придет охота ломать, себе ноги, чтобы добраться от Сены до пристани. Мостовая лоснилась, как после ливня, но обе стороны улицы огромные черные дома, казалось, обращали к незрячему небу свои унылые фасады. Только гораздо дальше за набережной, где словно бодрствовали над мраком платаны, поблескивала вода.
Преодолев минутное колебание, Филипп быстро спустился с лестницы и, так как знал, что теперь никто не увидит, бросился бегом, хотя в душе понимал, что он довольно-таки смешон; но, к счастью, широкое авеню было пустынно. Он досадливо пожал плечами. Сотни раз за день мимо нас, совсем рядом, проходят чьи-то чужие жизни, и у каждой своя тревожащая тайна, которую никто нам никогда не выдаст. Куда разумнее держаться собственной судьбы, тоже не обделенной загадками, тоже чреватой тайнами, которых с избытком хватит, дабы насытить даже самое жадное беспокойство. Это соображение само, без зова, пришло на ум Филиппу при виде этой вполне банальной парочки, привлекшей его внимание. Ему-то какое дело до этих людей. Будь он, что называется, «добрая душа», он пошел бы по их следу, как за добычей, добрел бы до их лачуги, записал бы их адрес, чтобы сообщить его в благотворительное общество, однако у Филиппа зрелище вопиющей бедноты вызывало странные приступы стыдливости, граничащие с душевной черствостью. Все-таки он пересек авеню и, осторожно перегнув свой длинный стан через каменный парапет над пристанью, пригляделся и ничего не увидел. Неожиданно поднялся резкий ветер, взмел с тротуара пыль, швырнул в лицо Филиппу, и он поспешил отвернуться, прикрыть глаза. И тут он услышал прежние голоса.
Они шли со стороны пристани, с каждой секундой приближались к Филиппу, но зря он снова нагнулся: ничего не удавалось различить в месиве тумана, плотно укутавшем берег Сены; но когда голоса раздались прямо под ним, он догадался, что парочка движется вплотную к стене. В уме снова мелькнула мысль пойти за ними, более настойчивая, чем прежде, однако он сумел от нее отмахнуться Пустынная, плохо освещенная пристань выглядели зловеще. Судя по тону голосов, мужчина совсем зашелся от злости; женщина, та больше отмалчивалась. Филипп решил следить за ними отсюда, сверху, — здесь его не видно, а если дело обернется плохо, то кликнуть полицейского он всегда успеет.
У виадука Пасси они оторвались от стены, направились к арке, и тут Филипп успел их разглядеть. Мужчина был одет, как землекоп, и, хотя по-стариковски сутулился, казался еще вполне крепким. Очевидно, шла самая обыкновенная семейная перепалка, но мужчина был выпивши, и женщина боялась, как бы он не столкнул ее в Сену, поэтому-то она и старалась держаться поближе к стене и, должно быть, тряслась при мысли, что не успеет подняться по лестнице, ведущей к набережной. Когда они вновь появились по ту сторону виадука, женщина сорвала замотанный вокруг головы платок, открыв бледное лицо, искаженное ненавистью и страхом; и так сильны были оба эти чувства, что заслонили естественную вульгарность черт и придали им какую-то неистовую, почти театральную красоту. Филипп понял, что сейчас она начнет кричать, и нагнулся вперед, как бы желая схватить этот крик на лету. В эту минуту и она заметила его. Мужчина держал ее за руку и с силой дергал к себе, грязно ругаясь. А она, не спуская глаз с Филиппа, произнесла «мосье» таким хриплым, таким низким голосом, что он похолодел. Он не сдвинулся с места, с головы до ног его сковала нерешительность, длившаяся ровно до следующего биения сердца, но ему показавшаяся бесконечной. Быть может, до этой минуты он и не знал себя самого. Руки его, намертво вцепившиеся в камень ограды, внезапно разжались, и он отступил.
Поначалу он направился было к Гренель, но вдруг передумал и быстро пересек широкое пустынное авеню. На углу улицы Бетховена он остановился перевести дух и напряженно прислушался. Все было спокойно в ночной тишине, только еле доносился грохот машин, спускавшихся от Трокадеро и кативших к Сене. Глубоко вздохнув раз, другой, он направился обычной дорогой по набережной и вернулся домой, как и всегда, разве чуть-чуть позже.
***
Он ни словом не обмолвился Элиане о сегодняшнем приключении, хотя у него давно вошло в привычку рассказывать ей в мельчайших подробностях о всех, даже самых незначительных, событиях минувшего дня. Никто не умел так слушать, как Элиана. Уловив знакомые интонации, означающие начало рассказа, она бесшумно придвигала стул поближе. Сидя чуть в стороне, бросив сложенные руки на колени, она всякий раз совершенствовалась в трудном искусстве стушевываться перед рассказчиком и в то же время не создавать у него впечатления, будто он говорит в пустоту. Невысокая, тоненькая, уже за тридцать, Элиана, желая казаться выше ростом, держалась чересчур прямо, но это неудачное кокетство шло ей только во вред; не будь этой вечной скованности движений, она могла бы считаться даже красивой, хотя цвет лица поблек, кожа на шее пожелтела, а главное, все портили безобразные уши, которые сна неосмотрительно оставляла открытыми. Однако глаза с лихвой искупили бы и более серьезные недостатки: то синие, то серые, то и дело меняющие свой цвет, как бы следуя ходу вечно настороженной мысли. Взгляд этих глаз покоился на Филиппе с выражением такого благоговейного обожания, что даже ничего не подозревающий наблюдатель не усомнился бы в его смысле. Она выслушивала до точки самые бесцветные, а подчас и самые непригодные для передачи вслух рассказы, и это угодливое внимание усыпляло Филиппа, и он сам уже не знал, интересны или нет его истории, к тому же он имел жестокий талант обстоятельности. Но сегодня он промолчал весь обед и, встав из-за стола, сразу же углубился в чтение номера журнала, посвященного искусству.
Поначалу Элиана решила, что он нездоров, и, как привязанная, кружила около него, делая вид, что ищет свою корзиночку с рукоделием, но, боясь не угодить Филиппу, не решалась обратиться к нему с вопросами. Положив руки на бедра, она встала перед дверцей шкафа и с наигранным вниманием разглядывала его содержимое, хотя на самом деле любовалась профилем Филиппа, отражавшимся в стекле. На лице его застыло то невинное выражение, которое принимает человек, знающий, что за ним втихомолку следят, а так он ей казался еще красивее.
Эта тайная ежевечерняя услада доводила Элиану до такого неистового волнения, что сердце ее учащенно билось и собственное молчание начинало казаться подозрительным; тут она решалась покинуть свой наблюдательный пост и усаживалась в кресло. Больше всего она боялась, что Филипп отставит лампу, и тогда свет, так удачно падавший на стеклянную дверцу, переместится. А мысль о том, что Филипп может догадаться об ее хитрости, успевала только промелькнуть, потому что она тотчас отгоняла ее прочь. Так, склонившись к дверце, как провинциалка к своему «шпиону», эта женщина, не смевшая глядеть Филиппу в лицо из боязни выдать себя, могла, трепеща от любви, созерцать отражение своего кумира в стеклянной дверце.
Из-под абажура падало достаточно света, чтобы милый облик открывался ей во всей мыслимой четкости. Конечно, она знала все его недостатки: нижняя часть лица обличала человека безвольного — взять хотя бы подбородок, слишком тяжелый, слишком мягких очертаний; этот пухлый, слегка полуоткрытый рот не умел да и не желал приказывать; тонкий короткий нос и тот указывал на недостаток характера, а поджатые ноздри почти не раздувались при дыхании, зато из-под черных ресниц иной раз пробивался свет такой силы, что классически строгое лицо преображалось. Тут была жизнь, сила. При каждом трепетании ресниц Элиане казалось, что она различает глубокую синеву этих глаз, перед которыми потупляла свой взгляд, а чтобы получше разглядеть их, она приоткрывала стеклянную дверцу шкафа и с неестественной медлительностью вращала ее на петлях. И сразу же пугалась этого лица, которое, словно повинуясь ее безмолвному приказу, приближается, само тянет к ней губы.
Сегодня вечером она довольно скоро обнаружила, что Филипп не листает журнал, и рассердилась на него за молчание. И в самом деле, она не желала допускать, что он скрывает от нее хоть что-то, втайне следит за ходом собственных мыслей и не делится с ней. В сердце рабыни уже давно зрела нетерпимость тирана. Пусть Филипп делает все, что угодно, она свято уважала его чтение, его занятия, выслушивала его бесконечные истории, но из-за неотпускавшего ее ни на минуту страха потерять его не прощала ему ничегонеделания или мечтательности.
С ловкостью умудренной любовью женщины она незаметно подсовывала ему книги по собственному выбору, чтобы проложить тот путь, где она может следовать за ним и хоть издалека за ним наблюдать; но едва только глаза зятя начинали рассеянно скользить по строчкам, она тревожилась и пускалась на сотни хитростей, лишь бы вновь пробудить его ослабевшее внимание. Столько раз эта игра грозила превратиться в драму; окончательно изнервничавшись, Элиана растолковывала самым страшным образом рассеянность Филиппа: воображение сразу же начинало рисовать ей мрачнейшие картины: то она считала, что Филипп поражен каким-то злым недугом, отразившимся на его умственных способностях, то опасалась внезапного приступа ненависти, направленной именно на нее, то припадка меланхолии, которая прогонит его прочь из дома, — словом, чего-то неописуемо ужасного, что разлучит их навеки. Все эти мысли разом приходили ей в голову, дыхание прерывалось, глаза застилал туман. В такие минуты приходилось садиться и пережидать, когда приступ минует. Но Филипп брался за чтение, бедняжка Элиана успокаивалась, и от ее прежней тревоги в душе оставался осадок злобы, в чем она ни за что не призналась бы даже самой себе.
Сегодня, уже за обедом, раздосадованная молчанием, которое она не решалась прервать, она огромным усилием воли подавила безмолвный гнев, разъедающий душу. Да и сейчас она бесилась, что Филипп таится от нее и смеет размышлять о чем-то своем, так сказать, без ее на то позволения. Резко отдернув руку, она провела ладонью по гладкому стеклу, нарочно сбросила на пол книгу и стоявшие рядом с ней две шкатулочки, — невинная и робкая месть, которой он даже не заметил. Минуты шли. Элиана судорожно искала в уме какую-нибудь самую банальную фразу, способную, однако, испортить Филиппу вечер.
— Какая все-таки досада, — наконец решилась она, — Анриетта опять ключ забыла, и тебе придется вставать и открывать ей дверь.
— Ладно, — он отложил в сторону журнал, — ладно, встану.
Эти слова, прозвучавшие как-то особенно кротко, умилостивили Элиану: ей расхотелось длить свою победу.
— А знаешь, Филипп, пожалуй, не стоит. Я раньше часа все равно не засыпаю, так что прекрасно могу сама открыть. Если даже услышишь звонок, не вздумай вставать.
— Как тебе угодно.
Она присела поближе к нему.
— Нет, ты объясни мне, Филипп, где только она находит силы выезжать, ведь она почти не спит все ночи.
— Днем отдыхает.
— Сегодня вернулась в шесть и с такой головной болью, что глаз не могла открыть. Конечно, приняла аспирин. Ты бы ей сказал, слишком она аспирином злоупотребляет.
Филипп вздохнул.
— Прошу тебя, Элиана, давай не будем сегодня вечером о ней говорить.
Элиана прикусила губу, ее испугали сердито нахмуренные брови Филиппа, нахмуренные по ее вине. Тем не менее что-то властно понуждало ее говорить именно об Анриетте, даже вопреки страху не угодить Филиппу. Она попыталась улыбнуться, как бы желая смягчить впечатление, произведенное ее словами.
— Я бы в жизни не произнесла имени Анриетты, если бы она ключ не забыла. Она тебя почти каждую ночь будит. Не хочет понять, что тебе необходимо спать по восемь часов в сутки. Поговори с ней, она ведь хорошая.
Эти слова, неожиданно слетевшие с губ, вызвали в ее душе какой-то странный трепет.
— Да, хорошая, — продолжала она с воодушевлением. — Правда, мама ее набаловала, но у нее доброе сердце, хорошие порывы. Вот вчера, например, она пожертвовала деньги в благотворительный комитет.
— Расходная книга в порядке?
Элиана не ответила. Она-то отлично знала, что не в порядке. Однако поднялась с места и прошла в угол комнаты к секретеру; уже открывая ящичек секретера, она вдруг ощутила желание задвинуть его и сказать зятю, что, разумеется, все в порядке. Филипп полностью полагается на нее, значит, дело на том и кончится. Но она тут же отвергла этот великодушный план. «Раз он сам хочет…» — подумала она.
— Вот, — громко проговорила Элиана, подходя к Филиппу.
И выделанно естественным тоном, как плохая актриса, добавила:
— Смотри-ка, действительно не в порядке.
— Как так? Дай книгу. Так и есть. О чем она только думает? Ничего не записано.
— И вчера не записано, и во вторник, и в понедельник.
Она нагнулась над плечом Филиппа, старательно переворачивая страницы, и на смуглой щеке зятя вырисовалась тень ее властного профиля. Вдруг она сжала пальцы, как бы намереваясь порвать книгу, но удержалась и молча, резким движением, схватила ее.
— Что с тобой? — спросил он.
Она отвернулась, сжимая книгу в кулаке.
— Ничего, — ответила она, собравшись с духом, — Просто Анриетта еще ребенок. Теперь я сама буду вести счета.
— Как тебе угодно.
Он взял со столика журнал и сделал вид, что погружен в чтение. Элиана несколько раз прошлась за спинкой его кресла. Он слышал ее шаги, даже дыхание слышал, но продолжал молчать, надеясь, что это ее обескуражит, заставит уйти. Но она, бледная, с ввалившимися глазами, еще с минуту постояла у его кресла, ловя хотя бы жест, хотя бы взгляд, который позволил бы ей заговорить, но Филипп не шелохнулся. Подождав немного, она пожелала ему покойной ночи и ушла.
***
С каким же удовольствием посмотрел он на захлопнувшуюся за Элианой дверь. Еще немного, и он в самом деле рассказал бы ей все, не устояв против этой униженной и деспотической назойливости. Возможно, он и облегчил бы душу, но в конце концов обозлился бы на Элиану, как злятся на человека, нечестным путем выманившего у вас тайну. Именно благодаря своей кроткой, чуть ли не благоговейной манере выслушивать все, что бы ни сказал Филипп, Элиана подчас вынуждала его сказать больше, чем ему хотелось, вынуждала делиться с нею тысячью мелких соображений, которые вообще предпочтительно держать про себя. И так, не понукая, напротив, с помощью вполне невинных вопросов, Элиана вызывала его, человека скорее осмотрительного и осторожного, на нескромную болтовню, под самой обычной формой, формой доверительных признаний. В любой час она бесшумно появлялась перед ним, исчезала, как только догадывалась, что зятю хочется побыть одному, что его тяготит ее присутствие, и минуту за минутой пожирала все то время, которое он проводил дома.
Однако сегодня вечером он и впрямь был груб. Подобно ладану, щекочущему ноздри божества, к нему ежедневно поднималась эта любовь, терпеливая, верная. Так почему же он устал от этой любви? Будь он не таким эгоистом, он просто из жалости протянул бы руку этой женщине, которая только того и ждет, изо всех сил скрывая свое чувство, которое, как она считала, тайна для всех. Конечно, она была ревнивица, ревность вспыхивала в каждом ее взгляде, и так было много лет подряд, но в силу тех весьма удобных условностей, из коих слагается буржуазная жизнь, никто даже не помышлял и заикнуться об этом. Сколько жизненных положений перерастает в драму лишь потому, что о них заговорили вслух. Трое-четверо действующих лиц живут вместе под одной крышей, и вдруг им приходится расставаться потому, что завязавшийся нескладный спор вывел на свет божий то, о чем до сих пор мудро умалчивалось; и даже утешения узнать о другом что-нибудь новое они лишены, так как давно знают друг о друге все; и вот одно неосторожно произнесенное слово разметало их в разные стороны.
Он вздохнул: именно эти слова ему порой и хотелось произнести вслух. В нем говорило желание разрушать все, пусть даже во вред самому себе. Он подошел к большому зеркалу, висевшему над камином, и с минуту присматривался отнюдь не снисходительным оком к своему отражению. С тех лучших времен он привык гордиться стройностью стана и широким разворотом плеч.
Но и сейчас он не устоял перед суетной радостью — провести ладонями по бедрам и, откинув голову, полюбоваться собой в профиль. Сколько раз ему говорили, что он прекрасно сложен! Ему припомнилось, что в юные годы он не без удовольствия составлял в уме список тех, кто восхищался его внешностью: сначала мать, потом покойная сестра, портной с улицы Реомюр, а позже Элиана; но лестные оценки Элианы в счет не шли, вернее, уже не шли. Да разве в этом дело! На прошлой неделе ему исполнилось тридцать один. И чему послужила та самая сила, которой он так кичился? По сути дела, она даже не его, ведь он ничего не сделал, чтобы развить ее, просто получил по наследству от здоровяка отца, а он, сын, вел праздное и вялое существование, забившись в парижскую квартиру, где не хватает воздуха, куда косые лучи солнца скупо просачиваются лишь на полчаса и то перед завтраком.
Вообще-то такие мысли не особенно досаждали. Ему, человеку по натуре покладистому и, пожалуй, скорее вялому, хватало энергии разве на то, чтобы отгонять от себя прочь все, что могло испортить настроение, но сегодня вечером это не удавалось. Он застегнул пиджак, пригладил волосы, хотя отлично понимал, что эти жесты бессмысленны, — особенно глупо, даже недостойно его, приглаживать волосы, раз ему совершенно все равно, лежат они гладко или нет, но, очевидно, этой игрой в душевное спокойствие он надеялся обмануть себя. С той же целью он принялся разглядывать терракотовую статуэтку, красовавшуюся на камине, между двух ваз опалового стекла. То была копия с «Купальщицы» Далу; сидящая купальщица, склонив голову и согнув торс, вытирала ноги, и скульптор словно бы с умыслом бросил одну ее руку вдоль ноги, как бы желая сравнить прелесть их линий. Всякий раз, когда взгляд Филиппа падал на эту статуэтку, он вспоминал, как бережно относилась его мать к этой купальщице — подарку ее покойного отца к свадьбе; и хотя в глубине души она считала эту голую девицу не особенно пристойной, окружала ее ревнивым, даже каким-то суеверным поклонением. Входя в гостиную, она первым делом кидала взгляд на статуэтку. Филипп плохо знал свою мать, но навсегда запомнил боязливое и напряженное выражение ее лица, когда, закинув голову, она старалась заглянуть на высокую каминную полку; как сейчас видел он низенькую женщину, — ее бесцветный взор и впалые виски, — слабыми руками с набрякшими верами с трудом переставлявшую это увесистое произведение искусства. При маленьком своем росте ей приходилось тянуться, подымать руки, словно в безмолвной мольбе перед святым алтарем. Даже вспоминать об этом было неприятно: ему чудилось, будто в этот кусок глины мать вложила все свои страхи, всю неусыпность своих забот, превратив их тем самым в нечто нетленное и мистическое.
Он поспешил отвернуться и оглядел небольшую гостиную, ряд книжных шкафов, на стеклянных дверцах которых играли отблески пламени. Огромный пестрый ковер, шелковые портьеры — все говорило о настоящем достатке. Возле столика красного дерева глубокое кресло, обитое серо-коричневым плюшем, ждало, когда хозяин вернется к прерванному чтению; и книга лежала тут же рядом под лампой. Филипп медленно переводил с одною предмета на другой усталый, чуть ли не неприязненным взгляд. Буквально на каждой вещи лежала печать вкуса, долгих раздумий и, главное, надежности, надежности моральной, материальным воплощением которой были эти плотно и ровно затянутые портьеры. Все, начиная с копии Пуссена до разрезательного ножа тонкой и хрупкой слоновой кости, являло глазу образец раздражающего совершенства. Он смутно ощутил это, но слов выразить вслух свою мысль не нашел. С первых дней супружеской жизни он только и видел вокруг себя прелестные вещицы, поблекшие от времени ткани, редкий фарфор, подписную мебель. Все это устроила Элиана. Но тут в мгновение ока все эти приглушенные оттенки плюша и шелков вспыхнули яркими красками, режущими глаз. В бешенстве он отдернул портьеры и распахнул окно. Как и всегда, в камин наложили слишком много дров, и он задыхался в этой маленькой гостиной, где Элиана упрямо старалась держать его на привязи все вечера подряд.
За окном мрак, казалось, льется из небесных недр подобно широкой темной реке. Он почувствовал, как струя свежего воздуха обежала его лицо. Так волна обтекает с двух сторон камень. В глубокой тишине можно было различить шорох разлапистых листьев платана, которые ветер пытался сорвать с веток. От них шел пронзительный запах растительного тления, и они терлись друг о друга, словно сухие ладони. Он вслушивался в этот шелест, скатывавшийся с вершин Трокадеро до самой Сены. Раньше, в юности, он любил эти звуки, этот непокой, а сейчас от них только до боли сдавливало сердце. Даже ни одной звезды в небе. Вскинув глаза, он увидел на темном своде широко разлитый отблеск пожара, ежевечерне встающий над Парижем и окружавший столицу огненным нимбом.
***
Ночью в спальню Элианы проникал странный светотблеск от висевшей в доме напротив электрической рекламы. Огромные желтые буквы зажигались и гасли каждую минуту, выхваливая достоинства обувных изделий. Даже после полуночи, когда стихали уличные шумы, пучки света ухитрялись пробиться сквозь щели ставен до изголовья постели, и Элиана сердито жмурилась. «Я должна попытаться заснуть в те десять секунд, пока темно», — внушала она себе. И как раз в этот самый миг, когда уже подступал сон, яркий и кричащий свет, подобный удару фанфар, вырывал ее из дремоты. «Почему бы не написать управляющему, в самом деле, почему?» — думала она, с трудом разлепляя тяжелые веки. Но другой голос, слабее, тут же находил возражение: «Если ты напишешь жалобу, вывеску снимут, и люди понесут ущерб». «Понесут ущерб, — бормотала про себя Элиана. — Ничего не поделаешь. Как-нибудь привыкну».
Однако сегодня вечером нечего было и думать о сне до прихода Анриетты. Только что пробило десять. Элиана подбросила в огонь совок угля и, просунув кочергу между прутьев решетки, поворошила золу; маленькие язычки пламени, похожие на цветы, блеснули между брикетами. С минуту они танцевали под внимательным взглядом Элианы, потом вдруг слились в букет причудливых завитков густого зеленоватого дыма. Элиана поставила кочергу на место и стала раздеваться. Черное атласное платье медленно скользнуло к ногам. Совсем так, как только что Филипп, она придирчиво рассматривала себя в зеркале с не совсем искренним желанием видеть себя такой, какова она в действительности. Электрический свет клал на щеки грубый румянец. Элиана потушила лампу и снова подошла к зеркалу. Сначала она вообще ничего не разглядела. Потом, постепенно в розоватом полусвете различила линию ног, перерезанных рамой зеркала, напряженно выгнутый стан, хотя и старалась держаться мягче; наконец, из темноты выступило лицо, но различила она только глаза и, рот. «Будь я даже моложе и очень-очень хорошенькая, — подумала она, — все равно зеркало показало бы мне лишь то, что я вижу сейчас!»
Но тут светящаяся вывеска послала в комнату ярко-желтый луч, сорвав с лица Элианы тень, скрывавшую его наподобие маски; и сразу же стала видна увядшая кожа, сеточка мелких морщин у глаз и вокруг рта. Она тоскливо подняла брови и со вздохом включила свет.
Через несколько минут она уже сидела на плюшевой подушке у огня и не спускала с него глаз. Лампу она потушила, но, боясь поддаться искушению и заснуть, чуть раздвинула шторы, и вспышки рекламы всякий раз взбадривали ее, когда голова начинала подозрительно клониться книзу. Мгновения темноты были отрадой потому, что можно было укрыться в ней, и к тому же мрак отгонял печаль об уходящей молодости. Перед ее полусомкнутыми глазами камин, полный тлеющих углей, алел, как ларец, набитый диковинными рубинами. Неодолимо баюкали мурлыкающие вздохи огня. От жары она совсем разомлела, и ей пришлось сделать усилие, чтобы распахнуть бледно-голубой халатик и подставить тело под обжигающие лучи огня. В такие минуты, как вот эта, физический комфорт почти полностью совпадал с ощущением душевного благополучия. От усталости путались мысли, ее переполняла незатейливая радость сидеть в тепле, в тихой комнате, под одной крышей с зятем.
Ее будто кинжалом резанул свет рекламы. Она протерла глаза и взглянула на ручные серебряные часики, однако стрелки почти не сдвинулись с места. Боясь снова впасть в сонную одурь, Элиана с усиленным вниманием стала разглядывать знакомую обстановку, такой милый ей камин серого мрамора, два кресла лимонного дерева с черной обивкой, африканский ковер цвета песка и земли. Но в грубом и жестком свете рекламы все эти предметы уже не казались ни красивыми, ни дорогими. Напротив, все вокруг стало ничтожным или посредственным, уродливело на глазах. Сколько женщин узнали счастье, подлинное, глубокое, в мерзких квартиренках, обтянутых простым репсом и украшенных фотографическими снимками. Она потупила голову. Все-таки, вопреки всему, жить вместе с ним, под одной крышей, говорить с ним каждый день, быть причастной к его жизни — не такой уж пустяк. Сейчас он, конечно, уже лег. Никогда он не засиживается допоздна в гостиной. А может быть, даже заснул.
Без передышки зажигался и гас свет; казалось, огромный желтый глаз следит за Элианой, то притворится, что заснул, то внезапно вдруг широко распахнет веки, в надежде захватить ее врасплох. В затуманенном мозгу мысль эта еще билась с минуту, и Элиана сама не заметила, как погрузилась в сон. Усталость осторожно уложила ее прямо на ковер.
***
Он вышел из дома. На авеню ни души. Когда он пересекал дорожку для верховой езды, шквальный ветер подхватил, закружил пыль и опавшую листву. Шел он быстро и сначала направился к площади Альма, но вдруг передумал и зашагал в обратную сторону. По левую руку низенькая стенка, над которой курчавился кустарник, возвышалась наподобие парапета. Он облокотился как раз в том месте, где расступился бересклет, образовав широкий прогал. Прямо перед ним казарма Манютансьон, искалеченная множеством пожаров, выставляла напоказ голый фасад, изрезанный высокими окнами без ставен. С северной стороны на фоне зловеще-розового неба виднелся костяк крыши, растерявшей свою черепицу. Свет стоявших внизу фонарей, помаргивавших при порывах ветра, пятнами переползал по бурой стене, где все ливни последнего полстолетия оставили свои следы. В самом центре богатого и надменного квартала это строение нагло демонстрировало свое убожество, чего не могли скрыть даже великолепные деревья. И, однако, сегодня вечером эти замызганные стены, все в струпьях грязи, словно бы облекались покрывалом преступной и двусмысленной прелести. Пройдя еще сотню метров, Филипп остановился на самом верху длинной лестницы, ведущей к набережной, и внимательнее пригляделся к казарме.
С того места, где он стоял, сейчас казарму было видно лучше, хотя темнота скрывала верхнюю часть здания, так как свет фонарей не подымался выше второго этажа, и глаз с трудом различил линию крыши. Сколько раз он ее видел, но бывает, что самый знакомый пейзаж без всякой, казалось бы, причины вдруг странно меняется даже в глазах того, кто изучил его до мелочей. В такие минуты, как бы ни было отвлечено наше сознание, его пронзает беглая мысль, и сразу же устанавливается некая странная связь между человеком и окружающим миром, ничего об этом человеке не знающим.
Человек охватывает мыслью все, что его окружает, ветер догадывается обо всем, камни становятся соглядатаями. С минуту Филипп стоял, не отнимая руки от перил лестницы, его внимание приковала к себе узенькая улочка, шедшая вдоль казармы. Она была почему-то ужасно далекой, как в дурном сне; до нее какая-нибудь сотня ступенек, а камни мостовой казались ему мелкой галькой, аккуратно уложенной между двух ниточек тротуара. Там, где улочка выводила на набережную, росли два высоких платана; при каждом резком порыве ветра они легонько клонились, но клонились в сторону авеню, будто перекликаясь с тамошними деревьями, а ему чудилось, что они не больше мизинца. Одна только река, которую Филипп не мог видеть отсюда, хранила те пропорции, которые он сам отвел ей в уме. Ниже той улочки Сена, скрытая оградой пристани, катила свои воды, совсем так, как текут мысли, которые человек держит про себя, втайне ото всех. К реке-то он и направился.
***
Засунув руки в карманы пальто, он пошел по набережной. Время от времени он останавливался и, перегибаясь через парапет, взглядывал в сторону пристани. Так он добрался до Иенского моста. По мосту прохаживался полицейский, но доходил он только до цоколя все той же статуи. Тут он делал передышку, оглядывал авеню, Трокадеро и, круто повернувшись, продолжал вышагивать. «Сейчас я его порасспрошу», — решил Филипп. Но тотчас же одернул себя: «Еще успею. Целая ночь впереди».
Целая ночь. Два эти слова, даже не произнесенные вслух, прозвучали для него самого как вызов кому-то. В такой час без крайней надобности здесь никто не проходит — уж очень погода не благоприятствует прогулкам. Беззвездное небо, река, текущая где-то в потемках, и над ней на мраморном постаменте незрячий воин, держащий под уздцы своего коня, словно во сне, — все это походило на декорацию, где ему, Филиппу, не было места. Окружающее не желало терпеть его присутствия. Были другие кварталы, где он в своем прекрасно сшитом пальто чувствовал бы себя куда уютнее, были ярко освещенные кафе, где он мог бы присесть к столику, но здесь на ветру, в холоде, при смутном свете фонарей жизнь поворачивала к нему враждебный и жестокий лик, которого он не знал.
В любом большом городе есть такие места, которым только лишь сумерки возвращают их истинное лицо. Днем они таятся, напускают на себя самый банальный, даже добродушный вид, чтобы надежнее укрыться от посторонних глаз. И многого для этого не требуется — вполне хватает четырех рабочих, перелопачивающих кучу песка, или чистенько одетой женщины, показывающей своему ребенку Сену; уж куда как пристойна и эта набережная, и этот берег или эта пустынная пристань, и, однако, в туманные вечера тот же самый уголок Парижа просыпается для некой жизни, схожей скорее с пародией на смерть. То, что днем смеялось, принимает трупный оттенок, то, что было черным, мертвенно бледнеет и поблескивает похоронным блеском, радуясь, что пришел его час существовать. Метаморфозу довершают газовые фонари. При первом же луче этого искусственного солнца ночная округа обряжается всеми своими тенями и начинается зловещее чудо преображения. Гладкий и плотский ствол платанов становится камнем в струпьях проказы, а мостовая со всеми своими переливами и прожилками подобна телу утопленника; даже вода посверкивает, как металл; буквально все скидывает с себя знакомое обличье, даруемое дневным светом, дабы облечься в видимость жизни, которой нет. Этот фантастический мирок, где ничто не дышит, ничто не растет, но где все в брожении, в сплошных гримасах, кажется театральными подмостками, и вот-вот начнется некое тайное действо; эта крошечная вселенная со своими печальными огоньками, которые пластает по земле и рассекает ветер, со стадами крыс, запахом смерти, плавающим над водой, своим безмолвием, — надежный друг вора, разглядывающего добычу, пособник убогого разгула бедняков.
Филипп услышал, как на Эйфелевой башне пробило одиннадцать, и пересек мост, намереваясь пройти к Пасси. На полной скорости проносились взад и вперед машины, будто предпочитали любой уголок Парижа этому. Сады Трокадеро казались отсюда огромным смутным пятном, а дворец возносил над ними свои фаллические башни. На том берегу реки светящийся пунктир фонарей шел вдоль набережной Гренель, а дома стояли черной сплошной стеной. Филипп приблизился к огромному виадуку, перешагивавшему через Сену, соединявшему обе набережные и выносившему поезда метрополитена из туннелей на верхний этаж. Под налетевшим порывом ветра он нагнул голову, чуть повернулся боком. Когда он снова двинулся вперед, поезд метро, грохоча, пронесся над рекой; Филипп проследил его бег, вагоны на глазах превращались в тоненькую светящуюся полоску, тянувшуюся сквозь мрак. И снова в наступившей тишине слышен был только шум ветра. Филипп ускорил шаги. На противоположном тротуаре двое мужчин вышли из маленького кафе и стали медленно подниматься по лестнице, ведущей к мосту Пасси. Люди стекались к подножью моста, словно радуясь вновь очутиться в унылом одиночестве набережных. Огромные здания, почти совершенные в своем уродстве, свидетельствовали о комфорте и надежности, и кариатиды, подпиравшие карнизы, старались дотянуть до самых небес эти благоденствующие этажи. Но дальше вновь побеждало уныние. Уходила куда-то вдаль бесконечно длинная стена, увенчанная кронами деревьев.
Филипп остановился, оглядел авеню, еще более пустынную, еще более тревожащую, чем та, откуда он пришел. Здесь, за этими кафе и этими высокими домами, пролегал рубеж буржуазного Парижа. А за этим рубежом залегло огромное пустое пространство, тонущее во мраке, здесь начинался мир, отличный от его мира, мир неведомый. Никогда он не заглядывал в эти забытые богом кварталы. Да и что бы ему тут было делать? Несколько секунд он простоял в неподвижности. Между платанами, шелестевшими над головой, и низенькой длинной стенкой, огораживавшей авеню с другой стороны, каменная мостовая казалась бесконечно широкой, черной, поблескивала под огнем фонарей, — она была словно вторая река, текущая параллельно Сене. Это зрелище завораживало. Он вспомнил, что в детстве его приводила сюда няня, но запрещала говорить об этих прогулках матери, ибо Лина (так звали няньку) предпочитала Гренель и самые отвратительные уголки Марсова поля чинным лужайкам Булонского леса. Обычно они выбирались из квартала Пасси по маленькой, чуть ли не деревенской улочке, звавшейся Бретонской, и попадали на набережную примерно в том месте, где сейчас стоял он; оттуда они проходили под виадуком и сразу же смешивались с толпой, толкавшейся вокруг Гран-Рю: мужчины без крахмальных воротничков, все женщины простоволосые. Еще на Бретонской улице Лина снимала белый передник и прятала его в сумку, как нечто постыдное, после чего у нее даже походка менялась: шагала она осторожно, и носы ее черных ботинок надменно смотрели вперед. Вот бы посмеялась, если бы могла себя видеть в такие минуты. Наедине с подопечным Лина обращалась к нему только на своем перигорском диалекте, когда же он просил ее перевести ту или иную фразу, она лишь фыркала в ответ и не переводила, но нетрудно было догадаться, что нянька подсмеивается над этим молчаливым мальчиком с робким взглядом.
Услышав грохот поезда на виадуке, Филипп вздрогнул. Он снова двинулся вперед и остановился только у моста Гренель.
***
Он не отрывал взгляда от пристани и через каждые десять — пятнадцать метров перегибался через парапет, но ничего рассмотреть не мог. Еще за обедом ему пришла мысль разыскать тех людей, да так и не покидала его в течение всего вечера. И сейчас на набережной он пытался воссоздать ход своих тогдашних мыслей, незаметно и постепенно внедрявшихся в сознание. В первые минуты такая мысль показалась ему до того нелепой, что он без труда отогнал ее прочь. Помогла болтовня Элианы. Хотя отвечал он свояченице довольно хмуро, но был в душе благодарен за то, что она его отвлекала. В тихой, приятно освещенной комнате среди книг и привычной обстановки он, в конце концов, стал таким, как всегда, и голос Элианы стер мимолетное досадное воспоминание; говорила она ласково, будто боясь его задеть, болтала о пустяках, но таким разумным и здравым тоном, что мир постепенно приобретал свой обычный вид. Все возвращалось в рамки будничного порядка, и причиной тому был ее голос, который, казалось, завораживал эту взбесившуюся тьму, укрощал порывы ветра.
Быть может, зря он не рассказал Элиане о той сцене на Токийской набережной. Разумеется, пришлось бы умолчать о кое-каких подробностях и о собственных мыслях по этому поводу. Элиана выслушала бы его спокойно и внимательно, затем сказала бы именно то, чего он и ждал от нее: «Знаешь, какая полиция у нас беспечная. Как раз за берегами Сены она и не следит. Лучше бы ты изменил свой маршрут…» и т. д. и т. п. Если только не вскочила бы с места и негодующе не перебила бы: «Как! Женщина звала на помощь, а ты не пошел?..» Но это предположение казалось маловероятным. Слишком любила его Элиана, чтобы так оскорбить. Он почувствовал, что краснеет. Вот тогда-то он взял со столика журнал и удобно устроился в кресле. Как ни старался он сосредоточиться, взгляд его рассеянно скользил по строчкам. Текст был щедро снабжен иллюстрациям и, и он занялся только ими, так как в них легче было разобраться, чем в самой статье, где требовалось еще вдумываться в смысл фраз. Просматривал он журнал, посвященный китайскому искусству, о котором ему столько наговорила Элиана. Спиной он чувствовал присутствие свояченицы, знал, что всякий раз, когда он переворачивал страницу, она кидала на него быстрый взгляд и еле удерживалась, чтобы не заговорить. Она подстерегала каждый его жест, каждый изгиб мысли, так как ревновала его даже к мыслям. Стоило ему просто наклонить голову, я она уже выводила отсюда свои заключения, и если случайно их мнения совпадали, радовалась этому, как своей победе. В атмосфере безмолвия она становилась настоящей тиранкой; как ни старалась она держаться в углу комнаты, ходить на цыпочках, двигаться бесшумно, все равно она была перед ним, вокруг него, повелевающая, воинственная: «Взгляни, какое прекрасное лицо. А сейчас быстренько переверни страницу, тут не на что смотреть. Нет, нет, это тебе наверняка не понравится».
И вот тогда-то теперешний его план снова возник в уме. Будто все дело в этих китайских статуэтках и его мнении о них! Смехотворность этой сцены открылась ему во всей своей наготе. Его звали на помощь, а он сидит в гостиной и картинки рассматривает. Там, на берегу Сены, женщина боролась, чтобы сохранить жизнь, если, конечно, уже не рассталась с жизнью. Мужчина мог спасти ее, а этот мужчина под лампой листает журнал, посвященный искусству. Нет, все это, конечно, неправда. Будь это правдой, разве сидел бы он здесь? Обычная пьяная ссора, раздутая его воображением до размеров драмы. К тому же, если опасность была реальной, та женщина кричала бы криком. И сразу же сбежались бы полицейские.
Он перевернул страницу: внимание его привлекла голова Будды; в улыбке его чувствовалась доброта и ирония, и это двойственное выражение привлекло и удивило Филиппа: полуопущенные веки придавали лицу отрешенное выражение, что сближало Будду со святыми романской церкви; а если вглядеться попристальнее, нетрудно обнаружить в этой улыбке безразличие и, пожалуй, даже брезгливость. Как сумели безвестные умельцы, имена которых не сохранила людская память, как сумели они оживить простой камень, вложить в него способность мыслить? Как могла кричать женщина, если страх сдавил ей глотку?
Он знал, что Элиана любуется его отражением в стеклянной дверце книжного шкафа, он уже давно разгадал ее маневр. Неужели она не понимает, что такое обожание умаляет его в собственных глазах, особенно сейчас, когда он совсем растерялся. Так или иначе, уже слишком поздно бегать по набережным. То, чему суждено было свершиться, давно свершилось. Та женщина, что повстречалась ему на пути, живая или мертвая, теперь отошла вдаль. Остается одно — вновь продолжать жизнь с той самой минуты, с какой прервалось ее течение, и не думать ни о чем. Со вздохом он перевернул страницу.
Разговор с Элианой оказался для него счастливым отвлечением. Правда, по обыкновению, он сделал вид, что не желает говорить о жене, даже взял ворчливый тон, но в душе он благословлял этот повод окунуться в мелкие домашние дрязги, даже под вечной угрозой разругаться с Анриеттой.
Оставшись один, он стал разглядывать себя в зеркало то с удовольствием, то с неприязнью. Почему физической силе не обязательно сопутствует отвага? Десятки раз задумывался он над этим вопросом, но впервые применил его к себе. Чему послужила недавно эта стать, разворот плеч (он расправил плечи и выпятил грудь), весь этот вид человека сильного? Да стоило ему только показаться на глаза тому пьянице, и тот, конечно, струхнул бы. Так почему же он этого не сделал?
Он буркнул: «Удивительное дело», — и провел ладонями по бедрам, как бы желая удостовериться, что пиджак сидит на нем как влитой. Но главное, его успокоил равнодушный тон, каким было произнесено это «удивительное дело». Привычным жестом вздернув подбородок и поверну» голову, он оглядел себя со стороны, на сей раз более суровым взглядом. Этот придирчивый осмотр длился целую минуту и закончился традиционным перевязыванием галстука.
Свет от стоявшей позади настольной лампы окружал его плечи и голову как бы мерцающим ореолом, подчеркивая сильные линии фигуры. Он улыбнулся своему отражению, потом зевнул. «А теперь спать», — подумал он.
Но в тот самый миг, когда он подошел к шкафу взять книгу, он испытал что-то близкое к умопомрачению и невольно обхватил голову руками. Как могло случиться, что раньше он словно бы никогда и не видел этой гостиной? И почему вся эта мебель, все оттенки шелковой обивки показались ему вдруг отвратительными? А ведь в этой комнате он знал счастье в течение долгих лет, и спокойствие, и душевный мир.
Не хватало воздуха, он яростно раздернул портьеры, распахнул окно, ставни: вот тогда-то он и решил выйти.
***
На мосту Гренель он поднял воротник пальто. Вынырнувшая из-за угла улицы Ремюза машина медленно катила у самого тротуара, как бы предлагая доставить этого элегантного прохожего в более цивилизованные кварталы столицы. Ветер утих; спустившись с моста, люди сразу же исчезали в соседних улицах. Мужчины почти все в каскетках, женщины с шалью на голове. С минуту он постоял в раздумье, потом снял шляпу, пригладил волосы, да так и забыл ее надеть. Навстречу ему шла группка рабочих; они о чем-то болтали и не видели Филиппа, но, заметив, разом замолчали, и он почувствовал, как взгляды этих людей нацелились на него, как будто дуло пистолета. Губы одного из них сложились в улыбку, еще более убийственную, чем оружие. Был он молод и с непогрешимым изяществом простолюдина щеголял в черном вельветовом костюме, перехваченном ярко-красным поясом. Филипп ускорил шаги, и группа в пять-шесть человек, занимавшая весь тротуар, расступилась с наигранной почтительностью. Филипп вытащил из кармана носовой платок и сделал вид, что сморкается, лишь бы не слышать их слов, но тот, что был помоложе, приветственно помахал ему рукой и скорчил такую откровенно нахальную гримасу, что вся кровь бросилась Филиппу в голову.
Какая жалость, что он не взял тогда такси. С каким удовольствием вскочил бы он сейчас в машину. А позади раскатистый хохот провожал его, гнал, подстегивал; он и в самом деле бежал, но голоса не отставали. Усилием воли он заставил себя не слушать слова и различал сейчас только невнятный гул голосов. Грохот проезжавших мимо грузовиков заглушил это наглое веселье. Наконец ему удалось оторваться от насмешников, и он вступил на мост.
«Да что это такое со мной? — подумал он. — С чего это я так суечусь? Надо взять себя в руки, пора успокоиться». Эти последние слова он произнес вслух, но они потерялись в грохоте двух встречных автобусов, разъезжавшихся в нескольких метрах от него; взвизгнули тормоза на такой пронзительной ноте, что ушам стало больно. Филипп подошел к парапету и надел шляпу. Вдруг его разбила усталость, усталость мысли, усталость тела. И поэтому особенно приятно было повернуться спиной к городу, шумам, свету.
Там внизу Сена казалась черной пропастью, бездонной, как океан. С минуту он не отрывал глаз от этой тяжелой беззвучной воды. В темноте он скорее угадывал, чем видел, напористое трепыхание волн вокруг устоев моста, и что-то в нем самом, что-то глухое и не могущее быть выраженным словами, откликалось на это непрекращающееся биение реки. Сознание это пришло вместе с яростным волнением. Внезапно его как бы вышвырнуло из себя самого, из стеснительных рамок благоразумного существования; вселенная, до сего дня казавшаяся ему незыблемой, предстала перед ним в виде жалкой и непрочной декорации, которая держится-то лишь потому, что освящена временем и вековыми условностями, но они-то и оборачиваются ей угрозой. То, что длилось тысячи лет, может продлиться еще тысячи. Через тысячу лет вот такой же ночью, на мосту, переброшенном через эту реку, какой-нибудь человек, тоже не узнающий себя самого, перегнется через парапет и, глядя на бег черных вод, возможно, помянет с сожалением первобытные времена, когда инстинкт еще говорил в сердцах людей. Он вздохнул. Общее измельчание жизни не удивляло его; он уже давно пришел к мысли, что сила медленно уходит из всего, чего коснулся человек. Все, что борется, все, что мыслит в незрячей и расточительной природе, тотчас остепеняется в наших руках. Да разве сам он не научился подавлять порывы юности? К тридцати годам неусыпный контроль над своими поступками и мыслями превратил его в спокойного, бесцветного человека, который если даже и совершит что-то неразумное, то совершит с полускептической, полупроницательной улыбкой, в чем сказывается приличное воспитание. Хотя ровно ничто не могло оправдать его торчания здесь, на пустынном мосту поздней ночью, в хмурую погоду, выражение его лица, самая манера сдвигать шляпу набок, да и эта поза раздумья со скрещенными на парапете руками, — словом, весь его облик опровергал обвинение в прихоти или капризе. Со стороны могло показаться, что раз он стоит здесь на мосту, значит, у него «есть дело». Только так и решил бы любой встречный. Филипп даже застонал при мысли, что он просто смешон.
«Возможно, я рожден для того, чтобы быть свободным», — пробормотал он, распрямляя спину; эти слова он произнес, не вникая в их смысл; такие мысли мелькают у нас в голове, подобно слишком слабому свету, не способному ничего озарить, и лишь только еще больше сгущают мрак. Сомнений быть не может, — ни разу в жизни он не действовал как человек свободный. Подобно всем прочим, он был рабом случая. Он снова вздохнул и решительно отмел свой план, казавшийся ему теперь совсем глупым. Но когда он искал глазами машину, чтобы доехать до дома, он заметил на другом конце моста полицейского. И после мгновенного колебания направился к нему.
Произведения
Критика