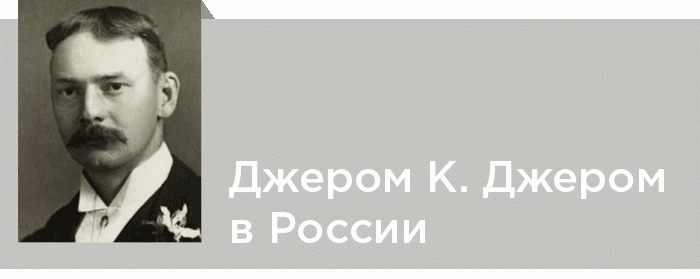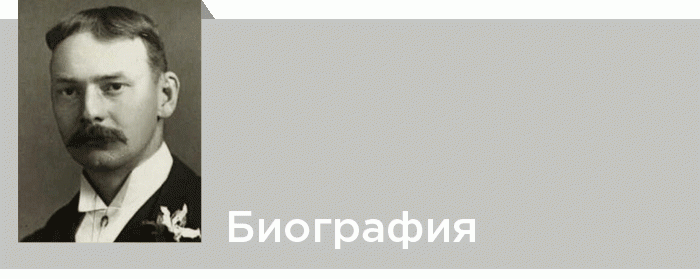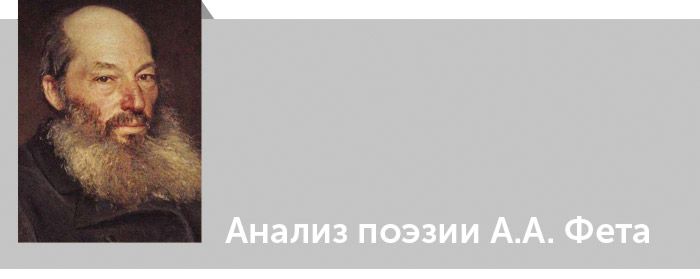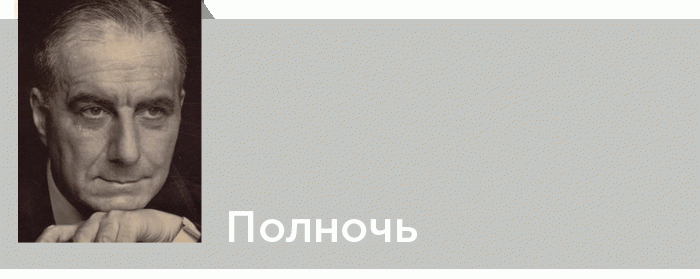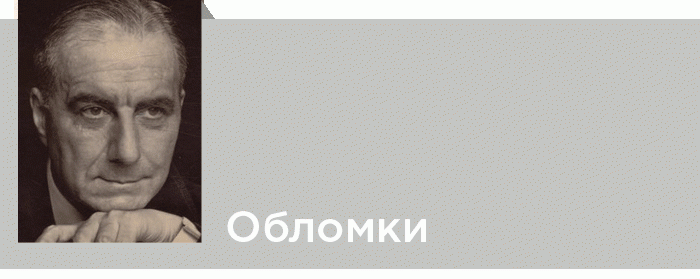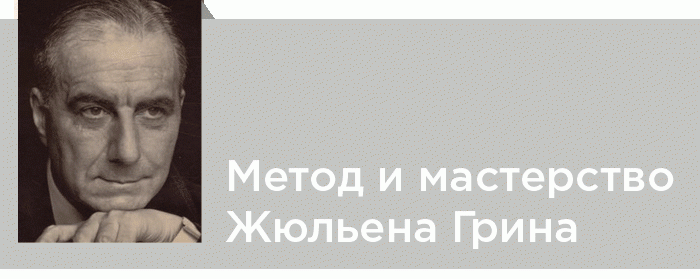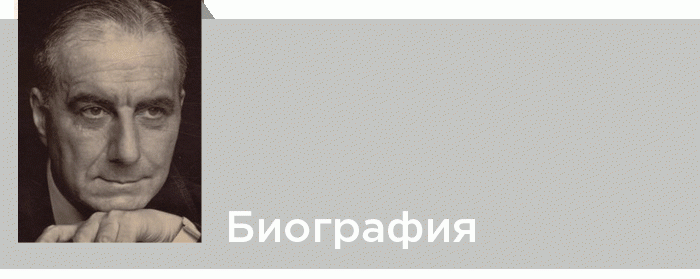Последние романы Жюльена Грина

Ф. Наркирьер
На место, освободившееся во Французской академии с уходом из жизни Франсуа Мориака, в 1971 году был избран Жюльен Грин. Как и подобает, Грин во вступительной речи воздал должное своему предшественнику, последователем которого он себя считал. У них было много общего. Обоим присуща глубокая религиозность: пройдя через ряд духовных кризисов, религиозность эта окончательно утвердилась как в жизни, так и в творчестве и Грина, и Мориака. Вместе с тем, будучи далеки от Ватикана, они стремились связать веру с защитой человечности. Подобно Мориаку, Грин отказывался от сомнительной чести именоваться католическим писателем. Он не допускал самой мысли, что можно писать для того, чтобы пропагандировать религию. «Ведь это предполагает, что в конце книги главный герой — и уж во всяком случае читатель — обратится в Христову веру».
Грин вслед за Мориаком стремился заглянуть как можно глубже во внутренний мир человека. «Редко кто, — писал он о Мориаке, — проникал столь твердо и уверенно и самые глубины человеческой души вплоть до самых темных ее областей... Я восхищаюсь Мориаком-человеком еще больше, чем Мориаком-писателем, ибо главное для него — не литература, а мучительные поиски истины».
Многое их разделяло в философских взглядах, в общественных воззрениях, эстетике. Мориак прослеживал формирование, а зачастую и разрушение характера человека под влиянием среды, окружающих обстоятельств; Грин считал внешний мир отражением мира внутреннего, незримого и тем не менее всесильного. Продолжая традиции французского критического реализма, писатель стремился соединить их с опытом некоторых модернистских течений.
Жюльену Грину пришлась по душе смелая деятельность Мориака в рядах движения Сопротивления. «Я счастлив, — говорил Грин, — что в освобожденной Франции 1944 года такое множество людей прислушивается к его голосу». Если Мориак-католик стал примером писателя, связавшего свою жизнь с общественным служением, то Грин был долгие годы далек от политической деятельности (что не исключало, разумеется, осуждения им фашизма во время второй мировой войны). Всю свою жизнь он провел вне политических партий и группировок.
Литературных кружков и групп Грин чуждался в не меньшей мере, чем политических. Он дружил с рядом известных французских авторов: Андре Жидом, Роже Мартен дю Гаром, но не испытал сколько-нибудь заметного их влияния. Все это вместе взятое помогает понять особое место Жюльена Грина в современной литературе.
Жизненный путь писателя не богат внешними событиями. Ровесник века (он родился в 1900 году), выходец из семьи американцев, поселившихся во Франции, Жюльен Грин получил образование в парижском лицее Жансон-де-Сайи. В конце первой мировой войны служил в санитарных частях американской армии во Франции. Продолжал образование в университете штата Вирджиния в США. По возвращении на родину началась его литературная деятельность. В годы второй мировой войны (1940-1945) находился в США.
Ординарность повседневного бытия сторицей искупалась богатой, на редкость интенсивной внутренней жизнью. Оставаясь в кругу одних и тех же вопросов, в первую очередь антагонизма духа и плоти, рассматриваемого как антагонизм добра и зла, Грин постоянно решал их сквозь личностное восприятие. Крайний субъективизм в сочетании с глубокой верой характеризует его положение среди французских писателей нашего времени.
Отдавая должное художественным произведениям Грина, французская критика с редким единодушием ставит дневник выше всего им написанного. Действительно, дневник Жюльена Грина — явление примечательное.
Классический тип дневника во Франции принадлежит братьям Гонкурам, стремившимся к максимальной полноте фиксируемых ими впечатлений. Тщетно было бы искать подобную полноту у Жюльена Грина. И дело отнюдь не в том, что в окончательном варианте писатель опускал многие политические реалии, теперь уже несущественные, или некоторые моменты эволюции своих религиозных взглядов, важные сами по себе, но, по мнению автора, не подлежащие оглашению. События внешнего мира, фиксируемые обычно скупо, лапидарно, являются основанием для размышлений, поводом для переживаний, средством познать самого себя, вырваться из кричащих противоречий мысли, чувства, сознания.
На страницах дневника не раз встретятся великолепные пейзажные зарисовки, гармонирующие или контрастирующие с настроением автора, описания любимых произведений живописи и скульптуры, комментарий к прочитанным книгам. Но главное — мучительные размышления, спор с самим собой, доверительный разговор с читателем. Представленная в многолетней, почти полувековой эволюции картина религиозных, моральных, общественных, эстетических исканий может быть наиболее точно охарактеризована известными словами Ромена Роллана: «внутреннее путешествие». Перед читателем — духовная автобиография Жюльена Грина.
Вести дневник писатель начал в 1919 году. В 1937 году Грин принимает решение печатать дневник, который выходит с 1938 года со значительными сокращениями. Работа над дневником была прервана только на один военный год (1939-1940). В настоящее время вышло уже 12 томов (1928-1981).
С юношеских лет Грин разрывался между идеалом отшельнической, монашеской жизни и невозможностью подобный идеал осуществить. Неоднократно заявлял он о своей ненависти к политике и все отчетливее убеждался в том, сколь иллюзорны попытки от нее уйти. Это основное противоречие общественных воззрений писателя можно проследить на всем протяжении дневника. Иллюзии подобного рода сохраняются и в последней части, но год от года политическая действительность все более властно заявляет о своих правах.
Двойственность и глубокая противоречивость позиции Грина во многом объясняются тем, что, отдавая себе отчет в конечной обреченности старого, буржуазного строя, он так и не смог уверовать в новое, социалистическое общество. Вот запись от 14 июня 1931 года: «Старый капиталистический мир рушится. Возникает новый мир. Нам давным-давно пора убираться со своими предрассудками, своей полицией, своими армиями, гимнами и знаменами. Попытаемся протянуть руку тем, кто придет вслед за нами, в надежде, что они не откажутся с отвращением пожать ее. Они спросят у нас: «Что сделали вы для того, чтобы мы не были столь несчастными? Что сделали вы для сохранения мира?» Увы! Ничего».
Хотя Грин и заплатил немалую дань политическому индифферентизму, он решительно отвергал фашизм. Со злой издевкой писал он об истерических выступлениях Гитлера, о громогласных речах Муссолини («Человек с физиономией повара-убийцы распространяется о миролюбии Италии», 5 января
Годы американской эмиграции стали в жизни Грина периодом активной общественной деятельности. Мобилизованный в 1942 году в американскую армию, писатель ведет занятия с новобранцами, рассказывает им о Франции. Он регулярно сотрудничает на радио, обращаясь к своим соотечественникам, выступает в прессе. Широкую известность приобрела его статья «Честь быть французом». Грин восхищен мужеством участников движения Сопротивления, он возмущается злодеяниями гитлеровцев (в 1946 году он опубликовал в «Фигаро» гневную статью об Освенциме). Он продолжает вести дневник. Рассказы о встречах, беседах с друзьями, заметки о прочитанных книгах перемежаются сообщениями с фронтов: «После сорока двух или сорока трех дней войны Россия продолжает сдерживать немецкий натиск. Весь мир (в том числе и Германия) ошеломлен; ведь так часто нам повторяли (Германия прежде всего), что Гитлер непобедим. И мы так хорошо усвоили этот урок! А теперь вновь оживают великие надежды. Последние дни больше не повторяют: «Если Англия продержится...», а говорят: «Когда Германия будет разбита...» (август
Судя по дневнику, Жюльен Грин оставался в плену идеалистических представлений о войне, которая рисуется ему прежде всего духовной драмой. Но опыт военных лет не прошел для писателя даром: он ясно понял всю несостоятельность позиции самоизоляции как для художника, так и для гражданина. В предисловии к двухтомному изданию дневника (1961) находим невозможное для раннего Грина признание. Отметив, что башен из слоновой кости давно уже не существует, он утверждает: «Хочет он того или нет, писатель является эхом мира, где он трудится, будь то война или восстание».
Читателю, знакомому со всем творчеством Грина, бросается в глаза внутреннее единство его романов. Единство это подчеркивал и их создатель: «Меня особенно поражают бесконечные соответствия между персонажами всех моих сочинений, перекличка между романами, которая превращает двенадцать книг в единое повествование, воспроизводя маршрут, по которому я следовал, сам того толком не зная, с самого детства. И только Жаку Пети удалось восстановить вехи, которые я считал давно исчезнувшими» (4 декабря
Первые романы Грина создаются во второй половине 20-х годов, в период, когда он начал отходить от католицизма. Проблемы религиозного порядка в них почти не ставятся, а сама религия не объявляется панацеей от всех бед. Постепенное освобождение от иллюзий христианской веры в какой-то мере помогало писателю взглянуть на мир трезво, без предвзятости, объективно. Действительно, ранние романы Грина выдержаны в основном в ключе реалистическом. Но отсутствие каких бы то ни было общественных перспектив, с одной стороны, невозможность разобраться и противоречиях своего духовного мира — с другой, способствовали созданию крайне мрачной атмосферы. Жизнь в равной мере монотонна и бессмысленна в американской усадьбе («Мон-Синер», 1926) и во французской провинции («Адриенна Мезюра», 1927; «Левиафан», 1929). Все попытки вырваться из замкнутого круга опостылевшего бытия не только не приносят успеха, но зачастую оборачиваются преступлением (у Грина оно возникает обычно как реакция на находящуюся под запретом страсть). Удел преступных персонажей Грина — смерть, безумие, тюрьма. По словам Габриэля Марселя, писатель создает мрачный мир «тоски и откровенного насилия».
Итогом раннего творчества Грина стал роман «Обломки» (1930; русский перевод — 1935), по его собственному определению, — роман «неподвижный». В микромире буржуазной семьи — Филипп Клери, его жена Анриетта и свояченица Элиана — ничего не происходит и произойти не может. Персонажи отделены друг от друга стеной взаимонепонимания; они пассивны, не способны к какому бы то ни было активному действию. Всякая попытка что-либо изменить — влюбленная в Филиппа Элиана пытается уйти из дома, Анриетта обманывает мужа — заранее обречена на неудачу. В конце романа отношения между тремя действующими лицами остаются теми же, что и в начале. Рисуя распад личности своих персонажей, Грин впервые дает этому распаду конкретный социальный адрес. «Я хотел назвать свою книгу «Сумерки». Но сумерки чего? Разумеется, буржуазии. Подумав, я решил назвать книгу «Обломок крушения». Я имел в виду утопленницу из первой главы. Обломок — это и главный герой. Быть может, правильнее — обломки» (17 декабря
«Обломки» — заключительное произведение раннего творчества — таили в себе различные возможности. От романа о распаде буржуазной семьи, перекликающегося с романами Мориака, «Хроникой семьи Паскье» Дюамеля, путь мог лежать в разные стороны: и к «Семье Тибо» Роже Мартен дю Гара, то есть к усилению социального звучания произведения, к последовательному реализму, или к усилению уже наметившихся черт модернизма, к поискам выхода в мире фантастики и сновидений. Реализованной оказалась вторая возможность: писатель, связанный идеалистическими постулатами своей эстетики, отходит все дальше от правды жизни.
После «Варуны» в романическом творчестве Грина наступает перерыв. В годы войны все внимание писателя поглощала журналистика и более тщательное, чем когда-либо, ведение дневника. Во второй половине 40-х годов, точнее в 1948 году, намечается новый религиозный кризис, о котором сам писатель говорит весьма туманно. Возникает также мучительный вопрос: имеет ли он вообще право писать романы? Снова, уже в зрелую пору, писателя мучает давний конфликт между плотью и духом, мирской жизнью и самоизоляцией. Откликом на эти мучительные искания, попыткой ответить в прозе на вопросы, не решенные в действительности, и стал роман «Мойра» (1950).
Молодой протестант по имени Джозеф Дэй прибывает, как некогда юный Грин, в провинциальный американский университет, чтобы продолжать там свое образование. Наделенный особой притягательной силой, Джозеф тем не менее ни с кем не может сблизиться: он пуританин по вере, натуре, призванию. Ему хотелось бы подружиться с Брюсом Прело, но знакомство заканчивается исступленной дракой, в которой Джозеф готов был его задушить. Единственный человек, с которым Джозеф сближается, — скромный и тихий Дэвид Лэйрд, мечтающий стать священником. В дальнейшем Брюс становится демоном-искусителем, а Дэвид — ангелом-хранителем Джозефа.
В центре произведения — смертельный конфликт между Джозефом и Мойрой, обольстительной и развратной женщиной. Имя Мойра значит по-гречески «судьба»; оно значит и Мария, имя, связанное с надеждой на искупление. Испытывая к Мойре влечение, Джозеф всячески этому чувству противится: девственник, фанатически преданный религии, он считает своим священным долгом соблюдать «чистоту». Но легко поддавшись зову плоти, не в силах обуздать страстное желание, Джозеф овладевает пришедшей к нему на свидание Мойрой. Она — его судьба. В ту же ночь он убивает Мойру, задушив ее одеялом. Расправляясь с Мойрой, Джозеф наносит, как ему кажется, удар по всему плотскому, то есть, в его представлении, порочному. После убийства Мойры Прело предлагает Джозефу бежать, Дэвид — предать себя в руки властей, покаяться и молиться о милосердии божьем. Джозеф слушается этого совета. В конце романа брезжит надежда на прощение грешника.
Несмотря на многие характерные для Грина неясности, трудные для логического истолкования, можно утверждать, что в романе осуждается пуританство в крайних своих проявлениях. Вместе с тем автор отказывается вынести приговор преступнику. Во всем, что касается дальнейшей судьбы Джозефа, автор полагается на божественное и человеческое милосердие.
По сравнению с «Визионером» и «Варуной» Грин сделал в «Мойре» шаг по пути к реализму. Ирреальный мир отступает далеко на задний план, он скорее чувствуется, чем видится. Убеждает обстановка, в которой развивается действие. Автор создал несколько типических образов студентов университета. Но не обстоятельства, а религиозная идея, которая лежит в основе произведения, заставляет действовать главных персонажей с тем, чтобы даровать надежду на прощение человеку, нарушившему заповедь «Не убий». Связанная с религиозной идеей опасность разрушения структуры реалистического романа проявляет себя с полной силой в следующем романе Грина — «Каждый в своей ночи» (1960). Смысл романа раскрывается в эпигрфе, взятом из Виктора Гюго: «Каждый человек в своей ночи направляется к свету» («Созерцания»). К свету и направляется Уилфред Ингрем — главный герой романа.
Действие начинается с приезда Уилфреда, скромного продавца мужских сорочек, к богатому дядюшке Горацию, который находится при смерти. На вокзале Уилфреда встречает коляска с молодым кучером. Красота кучера до такой степени поражает Уилфреда, что он не решается к нему обратиться, когда роняет по дороге перчатку. Случай, которому автор придавал большое значение, помогает понять ход повествования, которое ведется в духе учения Фрейда о подсознательном.
У изголовья умирающего раскрывается основная ситуация романа: на смертном одре Гораций, развратник и богохульник, просит Уилфреда за него помолиться. По замыслу автора, сам Уилфред, раздираемый внутренними противоречиями, приносит мир другим людям.
Образ Уилфреда строится на контрасте образу Джозефа, главного героя «Мойры». Джозеф — религиозный фанатик, у которого за верой в бога стоит болезненная чувственность; Уилфред — до крайности чувственный человек, в душе которого дремлет религиозное начало. Знакомые и родственники, не подозревая о разгульном образе жизни Уилфреда, ждут от него света, который он им и дает. Это предназначение Уилфреда отчетливо раскрывается на примере двух параллельных его жизни судеб — его приятелей Фредди и Томми: оба в конце концов обретают веру.
Прием параллелизма, характерный для Грина, проводится в этом романе особенно последовательно: писателю нужно доказать закономерность того, что всякая заблудшая душа рано или поздно придет к Богу.
В предисловии к изданию 1973 года Грин писал, что все персонажи его романа образуют одно действующее лицо, а именно — его собственное. В первую очередь это относится к образам Уилфреда, Энгеса и Макса.
Энгес, двоюродный брат Уилфреда, состоятельный молодой человек, буржуа, ведет распутный образ жизни. Запутавшийся в своих земных делах безбожник Энгес не может рассчитывать на помощь неба, но и в его груди таится надежда на прощение.
Случайный знакомец Уилфреда поляк Макс — самый сложный и противоречивый образ романа. Это психически больной, опустившийся человек, «безумие которого, — по словам автора, — исполнено здравого смысла». В его болезненном сознании вера в Бога причудливо перекликается с безверием отчаяния. Подобно другим персонажам романа, Макс терзается искушениями плоти: он гомосексуалист, как и Энгес, влюбленный в Уилфреда и вместе с тем его ненавидящий. Последняя встреча на пороге публичного дома. Макс выстрелом из пистолета убивает Уилфреда.
К этой встрече Уилфред прошел нелегкий, исполненный драматизма путь. Страдание, по мнению автора, «очищает» Уилфреда. Теперь, перед смертью, Бог для него все.
Суровый пуританин Джеймс Найт рассказывает: «Я прожил долгие годы. Никогда в жизни не видел я на лице человеческого существа такого выражения счастья, как то, что освещало черты мертвого Уилфреда. Применительно к нему слово смерть не имело никакого смысла. Он был жив, жив! Я простоял с минуту в полном изумлении, потом я услышал, как задаю вопрос священнику: «Все кончено?» Он ответил: «Да, если понимать под этим, что сердце перестало биться».
Более лаконично эта мысль выражена в авторском предисловии к изданию 1973 года: «...выстрел из пистолета посылает его прямо в рай». Уилфред, сам того не ведая, выполнил божественное предназначение: во мраке своей ночи он помогал другим прийти к свету. Тем самым он спас самого себя.
На первый взгляд может показаться, что роман «Каждый в своей ночи» — произведение реалистическое. Действительно, как и в первых романах Грина, правдиво дается внешность персонажей, все реалии окружающей их действительности. Но другие художественные средства (мы говорили уже о специфической роли параллелизма) утверждают дорогую для Грина религиозную идею. В угоду этой идее, и только ей, строятся параллельные или прямо противоположные жизненные пути персонажей. Как это свойственно многим произведениям модернистской литературы, действие не локализовано во времени (только по аналогии с дневником и автобиографией можно предположить, что оно относится к началу 20-х годов). Отчетливо выступает связь Грина с экзистенциализмом. Персонажи романа «Каждый в своей ночи», как это и следует из заглавия, страшно разъединены, каждый из них блуждает во мраке.
Произведение, в котором подытожено многое из того, о чем говорилось в предыдущих книгах, — полное одиночество персонажей, решающая роль подсознания в их мыслях и поступках, религиозное озарение (у Фредди, у самого Уилфреда), нереальность реального мира — является одним из самых мрачных произведений Жюльена Грина.
Но писатель еще не сказал своего последнего слова.
Десятилетие, отделяющее «Каждого в своей ночи» от «Другого» (1971), имело в жизни Грина особенно большое значение. Уже говорилось о том, что в «Остатке дней» писатель осознал невозможность стоять в стороне от общественной борьбы: об этом со всей определенностью свидетельствуют отклики на май 1968 года. Известную эволюцию можно проследить и в эстетических взглядах Грина. Ведь после романа «Каждый в своей ночи» была написана в добротных традициях реализма автобиографическая тетралогия.
В эти же годы усиливается давний интерес Грина к классической русской литературе. Он издавна 'восхищался прозой Тургенева и Достоевского, театром Чехова (так, посмотрев на сцене «Дядю Ваню», он испытывает чувство «ни с чем не сравнимого счастья»).
В 1963 году, сразу же после выхода в свет первого тома автобиографической тетралогии, Грин, в сотрудничестве с Эриком Журданом, пишет киносценарий, по повести Пушкина «Пиковая дама» (фильм режиссера Л. Кейжель вышел на экран два года спустя). Действие происходит в 1789 году то в Санкт-Петербурге, то во Франции. Изменена концовка: приятели увозят Германию, Лиза бросается в реку (возможно, сценаристы пошли здесь по пути либретто). Главное отличие от повести Пушкина состоит, однако, в том, что всюду, где только могли, сценаристы усилили фантастическое начало.
В 1965 году, после завершения окончательной редакции третьего тома автобиографии, Грин, снова в сотрудничестве с Э. Журданом, пишет сценарий по повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Грину Толстой был ближе Пушкина, и отступления от оригинала здесь не столь значительны. Повествование от рассказчика заменяется, как правило, внутренним монологом Ивана Ильича, более, по мнению Грина, сценичным. Вводится новый эпизод: после того как Иван Ильич умер, увидев вместо смерти свет, сын его идет в сад. «Он подходит к клумбе. Молодая зелень блестит на солнце. В глубине сад залит солнцем. Сын Ивана Ильича идет к свету». Такой финал объясняется тем, что Грину нужно было оттенить дорогую ему мысль, что каждый человек, блуждая в своей ночи, обязательно приходит к свету. В целом же Грину удалось сохранить общий дух повести Толстого. Но сам писатель был, судя по всему, недоволен инсценировкой и от постановки фильма отказался. Опыт русской классики сыграл, очевидно, свою роль в работе Жюльена Грина над его романом «Другой ».
На протяжении нескольких лет (с 1962-го по
Работа над книгой продвигалась очень быстро. Весной 1970 года роман был закончен, в 1971 году — напечатан.
«Другой» начинается с пролога (21 апреля
Вторая и третья части, написанные соответственно от имени Роже и Карин, позволяют увидеть одних и тех же персонажей с различных точек зрения, дополняя и корректируя сложившийся у читателя поначалу образ (прием во французском романе в достаточной мере распространенный: на этом принципе строится, в частности, роман Андре Моруа «Превратности любви»). Если пролог и финал написаны от третьего лица, то во второй и третьей частях повествование ведется от первого лица. Эта форма повествования для Грина излюбленная. В первоначальном вступлении к роману «Мойра» Грин писал: «...я до сих пор думаю, что рассказ от первого лица имеет перед рассказом от третьего лица то преимущество, что придает книге большую убедительность. Автор не является больше создателем восьми или десяти персонажей; благодаря логической силе «я» он становится сам главным персонажем, ибо нельзя написать «я», не привлекая тотчас же частицу самого себя, как бы ни была велика роль вымысла».
Писать от первого лица Грину помогало то, что в романе много автобиографического не только в сюжетной канве, но и в самих характерах. «Перечитывая свою книгу, — заносит в дневник Грин, — я удивился, что до такой степени похож на Карин. Один из моих друзей подсказал мне, что Карин по-гречески означает милосердие. Карин и Роже образуют один персонаж. Если их соединить, получится автор или почти он» (28 ноября
Роман называется «Другой». Одни критики (Жак Пети, комментатор полного собрания сочинений Грина в издании Галлимара) утверждают, что Другой — это Бог, которого мучительно ищут и наконец обретают герои книги; согласно противоположной точке зрения, Другой — это дьявол. Подобные истолкования представляются нам ошибочными или, во всяком случае, неопределяющими. Ведь герои романа пытаются любой ценой вырваться из замкнутого круга одиночества. Другой — для Карин — это Роже, для Роже — Карин. Карин реализуется как личность в Роже, а Роже — в Карин. «Карин и я, мы были пристанищем друг для друга». И в этом — гуманистический, земной, а отнюдь не теологический смысл романа и его заглавия.
Отсюда — принципиальное значение диалогической формы в этом произведении Грина. Пользуясь терминологией М. М. Бахтина, можно было бы сказать, что «Другой» — «большой диалог» между Карин и Роже. Автор — и в этом Грин напоминает Достоевского — не говорит от имени своих героев, а, перевоплощаясь в них, представляет каждому возможность высказаться до конца. Так возникает особая убедительность сталкивающихся в споре мнений, которая позволяет читателю — иногда помимо воли автора — сделать необходимые, вытекающие из повествования выводы.
Во второй части романа Карин — одаренная, удивительно привлекательная девушка. Человек с крайне развитой чувственностью, она в минуту откровенности признается Роже, что у нее все задатки проститутки. Роже был первым, кто дал Карин ощутить в полной мере силу ее чувственности. Карин умоляет Роже остаться в Дании — иначе она погибла. Роже, который уезжает во Францию в канун объявления войны, словно бросает Карин в объятия немецких офицеров.
Оставшись во время оккупации одна, Карин, далекая от всяких общественных интересов, не знавшая, что такое патриотизм, оказывается целиком во власти чувственного начала. «Оккупация сделала меня другим человеком, — признается она себе самой, — Школьница умерла, на ее месте — менада». Карин становится наложницей немецких офицеров, разъезжает в лимузинах по захваченному вермахтом городу. Отсюда ее кличка «Немка».
После войны Карин живет в Копенгагене в обстановке полнейшего остракизма: ни один житель города с ней не разговаривает. Она одинока, как и все персонажи Грина, но на этот раз одиночество социально мотивировано. «Раньше я была свободна, я не была, как сегодня, окружена толстыми стенами молчания».
В свое время атеист Роже без труда разрушил бесхитростную веру Карин в Бога. Теперь Роже возвращается в Копенгаген, чтобы наставить ее на путь истинный. «Надо, чтобы чувство завело ее снова в ловушку религии», — замечает в дневнике автор (2 ноября
Как справедливо указывает в комментариях к «Другому» Жак Пети, исключительно важное место в романе принадлежит образу «ловушки». Поначалу ловушкой для Роже представляется любовь Карин, затем — смерть на войне. («В самом центре жизни находится этот неумолимый механизм, который срабатывал безотказно».) В третьей части ловушкой для Карин оказывается божья благодать. Карин видит во сне огромный крест, который на нее опускается. «Она испустила слабый крик, крик зверька, угодившего в капкан». По совету Роже, Карин приходит к католическому священнику. «Ловушка... То серьезная, то шутливая манера говорить. Я учуяла хитрость». Вернувшись домой, она снова усматривает западню в речах «римского эмиссара». Образ ловушки возникает в заключительном эпизоде третьей части романа — последней беседе со священником.
«...По сути дела, — сказала я, откидывая голову, — я попала в ловушку.
В ловушку, Карин?
Поймите меня верно. Когда Господь ведет игру с дьяволом за спасение человеческой души, ему приходится плутовать.
На этот раз дьявол проигрывает снова, — сказал он...»
В эпилоге Карин попадает в западню реальную: убегая по набережной от преследовавших ее бродяг, она оступается и падает в воду.
«Этой ночью она сможет развлекаться с покойниками», — говорит один из бродяг.
Эта — одна из последних — фраза подготовлена сном Карин, в котором к ней являются призраки убитых немецких офицеров. Именно в эпизоде сна, что вообще характерно для Грина, наглядно раскрывается вся глубина вины Карин и предугадывается казнь за эту вину.
«Я заснула. Во сне я увидела молодого офицера в сером мундире. Он сел рядом со мной. Я ему говорила: «Вот ты и вернулся!» На что он со смехом отвечал: «В каком-то смысле вернулся, Карин». Я на него смотрела, а у него уже было другое лицо, которое я узнала: «Это ты! Я думала, ты там». Он покачал головой. «Russland», — сказал он. «Ты был так хорош собою!» Он рассмеялся, но вместо него смеялся другой, которого я тоже узнала, совсем молоденький, мальчик, вспоминать которого мне было немножко стыдно: он прибавил себе лет, когда пошел в армию, я говорила ему, что он похож на барабанщика, он преследовал меня, умолял. А теперь он, не моргая, глядел на меня в упор неподвижными глазами, и губы у него были бледные. Я спросила: «А ты, ты-то откуда?» Я скорее увидела, чем услышала, как на его губах сложилось слово: «Russland». Он посмотрел на меня голубыми, без выражения глазами и прошептал: «Ты хочешь спать с покойниками, Карин?»
Эпиграфом к последней части романа Грин взял слова из Евангелия от Матфея: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Бродяги, ставшие причиной смерти Карин, не могли убить ее душу: приняв веру, она навсегда стала «узницей незримого царства». И критик П. А. Симон имел основания видеть смысл романа в «спасении души».
Карин прощает Бог; прощают и окружающие «немку» люди: булочница фрау Иенсен, единственный по-настоящему к ней расположенный человек, посыльный издательства, которое берет ее рисунки, директор издательства, ее соседи — обыватели, сменившие гнев на милость. Но беда в том, что сама Карин не может простить Карин. Молясь Богу, она говорит: «Я причинила людям больше зла, чем любая женщина в городе». Карин не уйти от своего прошлого. Отсюда навязчивые мысли о смерти. В дневнике Грина читаем: «...смерть Карин не самоубийство, хотя ее смерти предшествовало желание покончить с собой. Но она спасена, спасена в том смысле, что не впала в тяжкий грех и не сократила свою жизнь сама» (17 сентября
Автор не скрывает своих симпатий к Карин, единственному живому существу среди манекенов-обывателей. Вместе с тем Грин явно переоценил тот вызов, который Карин бросает окружающим: она отвернулась от общества совершенно так Же, как общество отвернулось от нее. Сравнивая два женских образа, Грин заметил: «Карин напоминает Адриенну Мезюра, заключенную, как и она, в тюрьму молчания; но в то время как Карин испускает бешеные крики, город безмолвствует. Эти крики звучат, как отголосок мая 68-го года. Карин — бунтовщица» (24 февраля 1971г.). Здесь с Грином согласиться трудно: ведь протест Карин против засилия мещан продиктован сугубо личными причинами. Но правы те французские критики, которые считают, что Жюльен Грин создал психологически убедительный и по-своему значительный образ глубоко несчастной женщины, которая попадает в конце концов в капкан религии. Грин, ревностный католик, задумывал роман о спасении души грешницы. Грин-реалист правдиво запечатлел земную драму этой женщины.
Внутренняя логика романа помогает понять закономерность встречи Роже и Карин летом 1939 года: оба чувствуют себя в Копенгагене чужими. Как у Карин, так и у Роже одиночество объясняется отнюдь не причинами метафизического свойства. Бегством в Копенгаген Роже рассчитывает спастись в одиночку от неминуемой угрозы войны: «Я хотел бы забыть кошмар, который, словно пробкой, затыкал будущее». Ему не принесет покоя религия, к которой он испытывает инстинктивное отвращение. И он пытается забыться в любовных похождениях. Его захватывает сильное чувство — любовь к Карин, но любит он не столько ее, сколько свое в ней отражение. Роже понимает, что и в Дании ему не уйти от войны. Слушая по радио выступление Гитлера, он, не зная языка, ясно понимал, что «речь шла о смерти, о нашей смерти. Это не был конец мира, но то был конец Европы, конец нашей молодости и наших надежд».
В 1949 году Роже возвращается в Копенгаген другим человеком. Четыре года, проведенные в лагере для военнопленных, сломили его, подготовили к «обращению» в Христову веру. Он предстает перед Карин в темном плаще с монашеским капюшоном и сообщает ей о своем намерении удалиться от грешного мира под сень церкви. Бывший атеист убеждает бывшую верующую вернуться к Богу. Роли переменились, причем самую жалкую роль играет Роже. Он приехал, чтобы искупить свою вину перед Карин, вину, которая, по его мнению, состояла в том, что он разрушил ее веру. Приехал не для нее, а для себя. Карин с полным основанием считает, что, «испросив у нее прощения, он успокоил свою совесть». Роже покидает Далию всего за несколько дней до смерти Карин. Они продолжают любить друг друга. Но у него не хватило сил помочь ей: «В конечном счете духовно она окажется сильнее его. Он уедет влюбленным» (Дневник, 19 августа
В образе Роже, как и в образе Карин, писатель стремился следовать не религиозным догматам, а правде жизни. «Обращение» не спасло, а погубило Роже как человека, ускорило, судя по всему, смерть Карин. Образ Роже убедителен только в первой половине романа, где он мечется, ищет самого себя. Во второй части образ Роже-праведника откровенно схематичен.
В эволюции Грина роман «Другой» означал шаг вперед. Писатель, занимавший в военные годы антифашистские позиции, выразил своей книгой категорическое неприятие войны, не только несущей смерть, но и калечащей души людей. Впервые после «Обломков» Грин написал роман с четким социальным, антибуржуазным содержанием. Во второй части рисуется собирательный образ столицы Дании, охваченной болезненной, неуемной тягой к наслаждениям. И Копенгаген воспринимается как огромный лупанарий, где перед смертью прожигают жизнь.
Мир накануне катастрофы, в двери стучится война, но при всех обстоятельствах буржуа был и остается эгоистом. Если в «Обломках» Филипп Клери рисуется в рамках своего семейства, то в «Лете 1939 года» на первый план выступает один из тех, кто вершит судьбы мира. Английский банкир мистер Гор, «маг и волшебник спекуляции», не имеет привычки себе в чем-либо отказывать: ведь «никто, а возможно, и он сам не знает размеров своих доходов». Имя Гора, равно как и внешность, говорит само за себя: «...черты его лица были так близко расположены друг к другу, что казалось, им не хватало места даже на этой жирной физиономии. Глаза, нос, рот были маленькими, словно сведенными вместе алчностью и злобой». От встречи с этим толстяком у Роже складывается совершенно определенное мнение: «Мистер Гор — свинья». Гор преуспевает в делах, и самые красивые женщины принадлежат ему по той простой причине, что он «всегда платит больше всех». Зловещая фигура Гора, который правит бал в столице Дании, реалистична и в то же время символична. В его образе много недоговоренного, загадочного: писатель словно дает понять, что в огромной власти банкира есть нечто сверхъестественное. Комментаторы Грина высказывают обоснованное предположение, что в сложной системе образов романа Гору отводится роль Сатаны. Обладатель несметного состояния ассоциируется с самым страшным, по убеждению Грина, врагом рода человеческого.
Рядом с чертом — сводня. Если мистер Гор только появляется и исчезает, то судьба владелицы книжной лавки и содержательницы сомнительного салона фрекен Отт тесно связана с главными героями романа. За вполне респектабельной внешностью скрывается столь же зловещая, что и Гор, особа. До войны она сыграла губительную роль в том, как служилась молодость Карин; после войны она же ставит Роже в известность о поведении Карин при немцах. После смерти Отт выясняется, что эта «патриотка» была осведомительницей.
Если фрекен Отт такое же воплощение абсолютного зла, что и Гор, то обыватели, окружающие Карин, — только пешки в большой игре. Те же самые люди — нагловатый почтальон, краснорожий учитель, жена торговца скобяным товаром, которая по воскресеньям приходила плевать на порог Карин, — все они, как по мановению волшебной палочки, перестают ненавидеть молодую женщину. В день рождения Карин они являются с огромным тортом и хором просят прощения за нанесенные ей обиды. У этих мелких буржуа, мещан до мозга костей, нет и не может быть собственного мнения: действует лишь управляемый сверху стадный инстинкт. А распоряжаются ими бездушные чиновники, которые, в свою очередь, находятся на службе капитала, олицетворенного в персонажах, подобных мистеру Гору.
В «Другом» сказалась особенно отчетливо писательская манера Грина, который, по мере того как создается произведение, открывает для самого себя персонажей. Однако многое в поведении персонажей романа, не только загадочных, как Гор, но и самых привычных, остается неясным, завуалированным.
Да и в образах главных героев, особенно Карин, далеко не все может быть объяснено рационалистически. Это не промах художника, а особенность его метода. Все время читателю дается понять, что за видимой реальностью существует другая, подлинная. «Окружавший меня мир, — размышляет Карин, — исчезал, как дурной сон. Я дышала в другом мире, где существовала одна любовь, и этот- то мир и был истинным». Как и в других романах Грина, неприметный переход от одного мира к другому происходит с наступлением темноты или во время сна.
Итак, линии, связывающие роман «Другой» с модернистским искусством, очевидны. Но, в отличие от прочих вещей Грина, в особенности от романа «Каждый в своей ночи», черты модернизма в этом романе Грина не являются определяющими. Общее движение романа, задуманного как история спасения души — и Карин и Роже, — разрушается саморазвитием центральных образов: для Роже принятие веры означает утрату, распад личности, образ становится надуманным, ходульным. Что касается Карин, то она сама — а с нею и читатель — воспринимает «обращение» как хитроумную ловушку, выхода из которой нет и не может быть. В противоборстве модернизма и реализма побеждает реалистическое начало.
В романе «Дурное место» (1977), подобно Бернаносу и Мориаку, Грин обращается к трагедии поруганного детства. В романе речь идет о судьбе девочки-подростка, оказавшейся в «дурном месте». Это дом ее тетушки Гертруды, где Луиза очутилась после смерти родителей, погибших в автомобильной катастрофе. Девочка проводит дни в обществе Гертруды, молодящейся вдовушки со странностями; так, из ее головы никогда не выйдет откровенное предложение, сделанное ей случайным прохожим. В сексуальном наваждении живет и Перрет, воспитательница Луизы. На еженедельном приеме у Гертруды, сборище весьма сомнительных личностей, встречаются богатый буржуа заводчик Гюстав, брат хозяйки дома, и чиновник в отставке по имени Брошар. Оба они — сексуальные маньяки, только и думающие о растлении несовершеннолетних, в данном случае Луизы. Гюстав переигрывает Брошара, человека скромного достатка: за круглую сумму он получает от сестры право стать опекуном девочки, которую называет не иначе как «моя маленькая невеста».
Новоявленный опекун помещает Луизу в другое «дурное место» — пансион Шантеле, где царят нравы, достойные монастыря, описанного в «Монахине» Дидро. Девочка оказывается в центре нездоровых вожделений.
«Дурное место» — это и провинциальный город, показанный своих самых уродливых проявлениях, ночной город воров, проституток, сутенеров. В рождественскую ночь Луиза исчезает. Она покидает школу, город, а возможно, и этот мир, который, взятый в целом, также является «дурным местом». Гаснет слабенький луч света в темном царстве. Каждый из персонажей остается в своей ночи: один покончит с собой, другая лишится рассудка. Самый след Луизы теряется. «Бессмысленно было искать ребенка на темных дорогах нашего мира. Невинность исчезла в том, что ее больше всего напоминало, — в снегу». Это заключительные строки книги.
Десять лет отделяют «Дурное место» от следующего романа Грина — «Дальние страны» (1987). На этот раз он снова возвращается к земле своих предков, земле, где провел три года (1919-1922), когда учился в университете штата Вирджиния, и жил во время войны. Замысел романа созревал давно: «Что стало бы с этой книгой («Дальняя земля», третий том мемуаров — Ф. Н.), если бы я сделал из нее роман? Я написал бы ее иначе, я транспонировал бы, повысил тон, сгустил краски, укрупнил персонажи, сочинил, возможно, несколько эффектных сцен, восстановил по памяти длинные разговоры, предпочтя вымыслу простую правду, без каких-либо ухищрений» (статья «Кто я такой?» — «Ле Фигаро литтерер», 17 февраля
«Дальние страны» — понятие не только географическое, но и временное: появление романа и время, в нем описанное, разделяют 137 лет. Рассказ пойдет об Америке в канун гражданской войны. Главная героиня романа 16-летняя Элизабет (скорее всего, ее прототипом послужила бабушка писателя) приезжает — в 1850 году — из Англии к богатым американским родственникам в Вирджинию. Разворачивается остросюжетное социально-психологическое повествование. Элизабет влюбляется в своего дальнего родственника Джонатана, который разделяет ее чувство. Но Джонатан — по расчету — женится на другой, Элизабет выходит замуж за своего кузена Неда. В дальнейшем любовь Элизабет к Джонатану вспыхивает с новой силой. Нед вызывает Джонатана на дуэль — они смертельно ранят друг друга. Элизабет остается вдовой: своего маленького сына по имени Нед она — по секрету — называет Джонатаном.
Все перипетии жизни Элизабет проходят на фоне реальных событий предвоенного Юга. Отношения хозяев и черных рабов, отношения южан и северян, уклад жизни богатых плантаторов — все это обстоятельно и мастерски описано в романе. Последняя глава книги называется «Мане, текел, фарес». Грядет война Севера и Юга, но пока что Вирджиния находится в состоянии «неподвижного урагана». Книге Жюльена Грина как бы «не хватает» войны, чтобы стать в один ряд со знаменитым романом Маргарет Митчел «Унесенные ветром», который может восприниматься сейчас как неожиданное продолжение «Дальних стран».
Таков, очевидно, заключительный аккорд в творчестве Жюльена Грина, последнего классика французской литературы XX века.
Л-ра: Наркирьер Ф. От Роллана до Моруа: этюды о французских писателях. – Москва, 1990. – С. 271-291.
Произведения
Критика