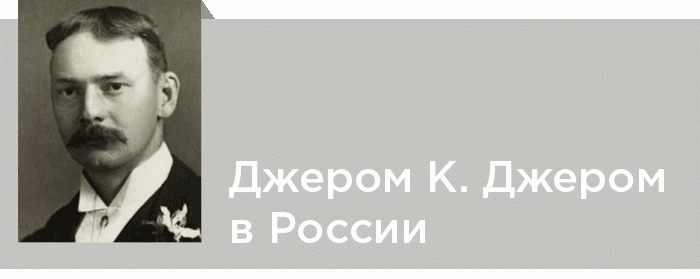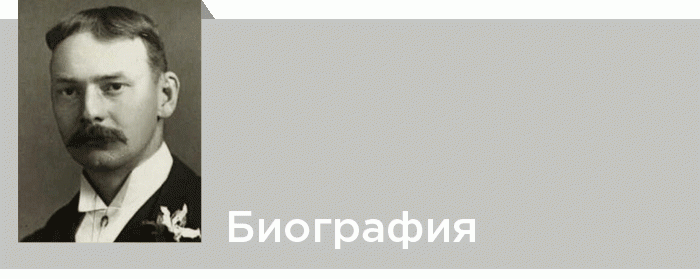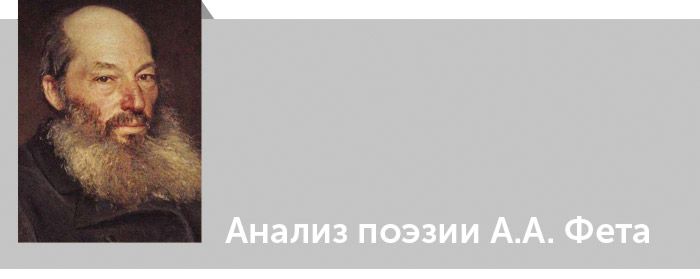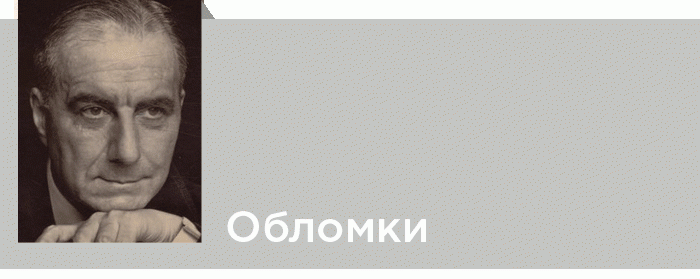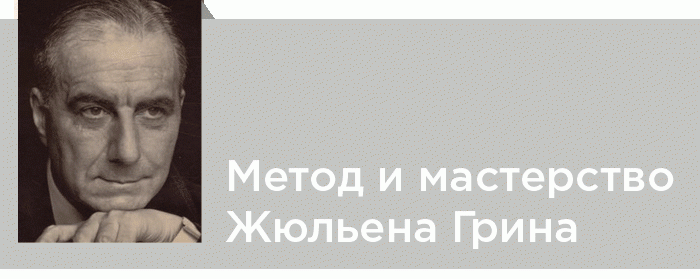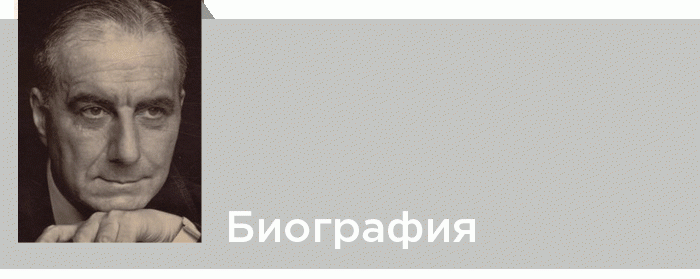Жюльен Грин. Полночь
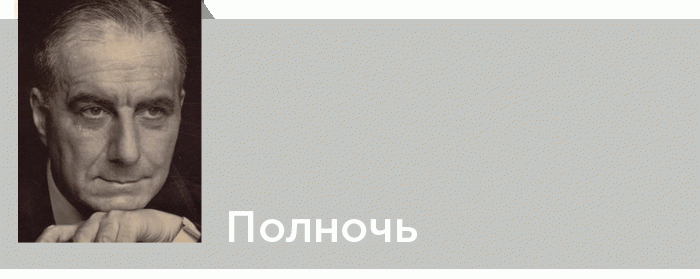
(Отрывок)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Как-то на исходе зимнего дня по кромке обдуваемого ледяным ветром поля под серым небом катилась карета. Такую карету в наше время можно увидеть разве что в глухой провинции — взгроможденный на огромные колеса черный ящик с суконными занавесками и фонарями по обе стороны козел.
Лошадь шла трусцой, но дорога становилась все хуже и хуже. Ехали по вязкой загустевшей грязи, по глубоким извилистым колеям, выбитым крестьянскими телегами, — того и гляди сломаешь ось. Изнуренная лошадь то и дело спотыкалась о крупные камни, которыми была усеяна дорога. Когда она перешла на шаг, возница натянул вожжи, и карета остановилась.
На короткое время наступила тишина, нарушаемая лишь тоненьким посвистыванием ветра, затем кто-то из сидевших в карете резко отвел занавеску на одном из окон, опустил стекло, и сухой женский голос спросил, в чем дело. Извозчик, не оборачиваясь, указал кнутовищем на дорогу. Это был грузный краснолицый мужчина; казалось, он привязан к козлам обмотанной вокруг ног дерюжкой и при его комплекции ему без посторонней помощи с места не встать.
— Ну что? — продолжал голос. И так как извозчик продолжал сидеть неподвижно, последовал приказ: — Сейчас же поезжайте дальше, иначе не видать вам чаевых.
Тот помедлил, как бы обдумывая возможные последствия подобной угрозы, опустил кнут и, чуточку повернув голову вправо, прокричал под свист ветра, что дальше не поедет.
— Сейчас же поезжайте, иначе не видать вам чаевых, — повторил голос.
Затем из окна кареты высунулась седеющая женская голова. Мелкие и резкие черты лица свидетельствовали о непреклонной воле, черные глаза метнули испепеляющий взгляд на изрытую колеями дорогу, виновницу остановки.
— Сейчас же поезжайте, иначе…
— Ну ладно, — сказал извозчик.
Стекло с громким стуком поднялось, дама яростным рывком задернула занавеску. Извозчик, чертыхнувшись, взялся за кнут и принялся настегивать лошаденку, и та в конце концов потащила карету дальше.
Справа по косогору тянулись поля до темной стены густого леса, на опушке которого белели стены одинокой фермы, слева виднелась вершина холма, куда и вела дорога. С этой стороны — ни дома, ни деревца, лишь голая земля, над которой носился порывистый ветер.
Еще несколько минут карета бултыхалась на ухабах, наконец ее тряхнуло так, что фонари едва не сорвало с креплений. Извозчик обеими руками изо всей силы натянул вожжи, чтобы поддержать лошадь, ибо та чуть не рухнула на землю; карета снова остановилась, извозчик связал вожжи и накинул их на специальный крюк. И тотчас отлетела в сторону занавеска, с треском опустилось стекло, на этот раз воинственная женщина, рассердившись по-настоящему, высунулась из окна по пояс, простерла обтянутую черной перчаткой руку и, указав перстом вперед, прокричала дрожавшим от ярости голосом.
— Я вам приказываю, — снова взялась она за свое, — приказываю… Поезжайте вперед… Я буду жаловаться…
Порывы ветра заглушали ее слова, как будто загоняли их обратно в открытый рот. Тогда она сжала руку в кулак и ткнула возницу в единственное место, до которого могла дотянуться, но и это нападение не дало результата: то ли удар был недостаточно силен, то ли его смягчила грубая ткань, обернутая вокруг поясницы сидевшего на козлах извозчика. Женщина, высунувшись из окна еще дальше, принялась выкрикивать бранные слова в обтянутую грубошерстным пальто широкую сутулую спину, ставшую для нее символом невыносимого упрямства, — спина не шелохнулась. И вскоре женщина умолкла, подыскивая словечко покрепче.
— Бандит! — наконец прокричала она хриплым голосом.
Извозчик, ни единым движением не показав, что слышал брань, продолжал сидеть как истукан. Женщина удивленно подняла брови, затем карета словно проглотила ее, стекло и занавеска вернулись к исполнению своих обязанностей.
Меж тем открылась дверца с другой стороны кареты, и из нее вышла другая женщина, этой было лет тридцать. Крупная, медлительная в движениях, что свидетельствовало о ее природной робости. На ней было дорожное пальто, из-под которого выглядывал подол черного платья; казалось, ей не по себе в этой одежде, и ее можно было принять за крестьянку, тоскующую по шали с бахромой и суконной юбке. Молодая женщина несколько раз прятала руки в карманы пальто, снова вынимала, и видно было, что она растерянна. Нежное полное лицо еще хранило какое-то детское выражение, хотя на нем уже чуть заметно обозначились первые морщинки, карие глаза смотрели грустно и обиженно, такой взгляд бывает у слабовольных людей, которых жизнь безжалостно карает, хоть они ни в чем не грешны.
Повернувшись спиной к ветру, она посмотрела на небо и горестно задумалась, отчего по ее пухлым щекам покатились слезы. Яростный порыв ветра едва не сорвал с нее шляпку с широкими плоскими полями, но она успела прихлопнуть ее сверху нелепым нервным жестом, в каких проявляется мнимая энергия робких душ.
Вздрогнув от звука резко захлопнутой дверцы, молодая женщина увидела перед собой свою спутницу.
— Зачем ты вышла? — сердито спросила та. — Этот человек оскорбил нас самым нахальным образом. Скажи ему, что ты вообще не заплатишь, если он не довезет нас до вершины холма.
— Послушай, Мари… — начала молодая женщина.
Ветер дунул ей в лицо, как бы заставляя умолкнуть; она закрыла глаза и опустила голову.
— Да он просто насмехается над нами! — вскричала Мари. — Разве ты не видишь, как этот бесстыдник отворачивается от нас? А мы из-за него должны месить вот эту грязь.
Разозлившись еще и на ветер, не принимавший ее слова, старуха топнула ногой, вонзив каблук в землю, о которой отозвалась так непочтительно. Молодая женщина дотронулась до руки спутницы:
— Но это же совсем близко, Мари. Мы приехали.
— Какая разница — близко или далеко? Все дело в принципе.
Молодая женщина, которую звали Бланш, сокрушенно развела руками. Сегодня ей только и не хватало отстаивать какие-то принципы в перебранке с извозчиком.
— Значит, ты ему уступаешь, Бланш?
— Да, пусть подождет здесь.
Старшая из женщин хриплым голосом прокричала этот приказ извозчику, и обе они пошли по тропинке, которая шла по голому склону к вершине холма. Впереди шла Мари, невысокая худая старуха, держалась она прямо и носила дурно пошитую одежду с известной элегантностью; сердито подняв плечи, она шагала в гору так нервно и яростно, что могла бы пройти в десять раз большее расстояние и не устать. Бланш с трудом поспевала за ней, влача груз своего большого тела, наделенного по странному капризу судьбы слабой волей. Наконец они достигли небольшой площадки на вершине холма, откуда были хорошо видны окрестности. Ночь опускалась быстро, как будто шквалистый ветер уносил с собой и свет. Однако еще видны были серые крыши домов ютившегося в котловине городка, деревья общественного сада и огромные резервуары газового завода.
Мари посмотрела на часы.
— Осталось еще двадцать минут, — сказала она.
Двадцать минут, подумала Бланш. Как раз хватило бы времени бегом спуститься в город и сказать решающее волшебное слово, которое все повернуло бы по-иному. Более ловкая женщина не стала бы поступать как она, эта мысль пришла ей в голову полчаса назад. Пока ее кузина кричала на извозчика, Бланш сидела в карете, думала о своем, и ей казалось, что никогда в жизни мысли ее не были такими четкими.
— Мы здесь одни, — сказала вдруг Мари громким голосом, стараясь справиться с ветром, — и я должна сказать тебе еще раз, что не могу одобрить твое поведение. Ты должна была бы сейчас сидеть дома, наслаждаться материнством, заниматься с дочерью, выполнять свой долг по отношению к ней. То, что ты приехала сюда, — еще одно проявление слабости, за которое тебя никто не похвалит. И напрасно ты страдаешь, Бланш: что кончено, то кончено, заруби это себе на носу.
Тут Мари дунула в кулак, этот жест показался ей уместным.
— Менее искушенный человек, — продолжала она, — стал бы говорить тебе о надежде. А я, моя милая, для твоего же блага говорю: нет никакой надежды.
— Ты права, конечно, — отвечала молодая женщина. — Скажи, пожалуйста, который час.
— Без двенадцати четыре.
Если бежать, очень быстро бежать, то можно было бы и успеть, но Бланш боялась гнева своей кузины и стыдилась своего желания настолько, что не решалась его высказать.
— Мари, — сказала она, сделав над собой усилие, — я знаю, что мне до тебя далеко. Ты гораздо умней и сильней меня… Но я хотела бы увидеть его в последний раз. Мне это необходимо, — тихо добавила она.
— Ты с ума сошла! Повидаться с ним на платформе вокзала, на глазах у трех десятков знакомых? К тому же теперь уже поздно.
Молодая женщина, держа руку на шляпке, чтобы ее не сорвало ветром, устремила на кузину страдальческий взгляд, вымаливая разрешение, в котором та ей отказала, но глаза ее были скрыты полями надвинутой на лоб шляпки.
— Я бежала бы очень быстро…
— Бланш, я потратила целый час на то, чтобы проводить тебя сюда. Разве справедливо будет, если ты нарушишь обещание слушаться меня во всем?
По широко открытым глазам, глядевшим из-под полей шляпки, можно было видеть, что Бланш мучительно старается внять этому доводу.
— Видишь ли, — продолжала Мари, чеканя слова, чтобы придать каждому из них неотразимую убедительность, — в мире тысячи и тысячи таких женщин, как ты. И все вы не из тех, кто может удержать мужчину. Вам не хватает… кое-чего.
Порыв ветра разорвал фразу надвое, каждая из женщин сделала шаг назад, словно какая-то неведомая сила старалась разъединить их. Однако Бланш снова приблизилась к кузине и наклонилась к ней, выражая тем самым почтительное внимание.
— Пусть себе уезжает! — крикнула Мари. — Раз он хочет уехать, значит, он не для тебя.
Молодая женщина кивнула в знак согласия.
— И все равно, — продолжала Мари, — было глупо с твоей стороны гнаться сюда.
— Но ведь поезда еще не видно. А он поклялся, что помашет мне платком, даже если не разглядит меня на вершине холма.
— Милая моя дурочка! Держу пари, он и не подумает этого сделать! К тому же хотела бы я знать, как на таком расстоянии ты различишь его платок, если и другие будут махать из окон?
По-прежнему держа руку на голове, чтобы не слетела шляпка, Бланш внимательно посмотрела на кузину и качнулась всем своим крупным телом, точно ее ударили. Она не подумала о том, что трудно будет различить любимого человека. Но ответ подсказало ей сердце:
— Если и другие будут махать… — повторила она. — Если так, я все равно буду уверена, что и он среди них.
— Гм! Вот оно как! Жизнь еще даст тебе немало жестоких уроков, милая моя Бланш. Ну, у тебя осталось пять минут. Пойду и подожду тебя в карете, оставайся, так сказать, наедине с ним.
Произнеся последние слова, Мари загадочно улыбнулась, полагая, что тем самым выказывает ум и такт, и сожалела лишь о том, что, кроме кузины, ее не слышал ни один понимающий человек, который смог бы оценить по достоинству всю тонкость сказанного. После этого она снисходительно похлопала Бланш по руке и пошла вниз по тропинке.
Молодая женщина посмотрела, как кузина спускается по тропке среди пустоши вприпрыжку, точно резвая седая девочка, и сравнила ее жизнерадостность с мучительной болью, раздиравшей ее собственное сердце. И ей показалось, будто померкшее небо и ледяной ветер гораздо ближе к ней, чем это человеческое существо, чья болтовня еще звучала в ушах. Бланш видела, как на землю опускается холодная и суровая зимняя ночь, словно горя одной-единственной женщины достаточно, чтобы весь мир оделся в траур, а ведь кузина на прощанье улыбнулась — и Бланш проводила ее обиженным взглядом до самой дороги.
Затем молодая женщина неторопливо и осторожно сняла шляпку, положила на траву, наступила на поля носком ботинка, чтобы сразу же не улетела, затем подобрала несколько камней и разложила их на полях в виде венка. Длинные пряди волос липли к лицу, словно черная вуаль, она терпеливо отводила их двумя пальцами. Когда же посчитала, что желанный миг приближается, достала платок, встряхнула его, чтобы расправить, и стала ждать. Через минуту-другую послышался гудок паровоза. Бланш вздрогнула и выпрямилась. Почти сразу же у подножия холма показался поезд, маленький-маленький на таком расстоянии, и бедная женщина подумала, ну как от такой игрушки может зависеть счастье всей ее жизни, это несправедливо. В освещенных окнах вагонов видны были пассажиры: кто поднимал окно, кто устраивался на ночь, но ни один из них не махал платком; тем не менее Бланш продолжала широко взмахивать своим платком над головой, пока не исчез последний вагон и не затих перестук колес, напоминавший поспешную поступь хромого. Снова на поля с воем хлынул ветер, точно огромная волна, смывающая все на своем пути и исчезающая с добычей в черной бездне. Молодой женщине вдруг стало страшно. Правой рукой она судорожно сжала рукоять ножа, выхватила его из кармана, где он пролежал около часа, и, не раздумывая, сделала то, что давно замыслила. С первого же удара острие ножа попало в то место за отворотом пальто, которое она нащупывала пальцами, когда ехала в карете. Удар был настолько силен, что Бланш упала на колени и так простояла несколько мгновений, прежде чем рухнуть ничком. Выпущенный из руки платок трепетал на ветру над ее телом, как перебитое крыло большой птицы.
II
На следующий день после события, о котором мы рассказали, Мари Ладуэ стояла посередине своей гостиной и держала речь перед двумя полными дамами, а те молча ее слушали. Утомленные ходьбой, прервавшей их послеобеденный отдых, они уселись в глубокие кресла, а груз собственного тела и тепло, исходившее от жарко натопленного камина, заставляли их принимать весьма свободные позы; одна из них, по имени Клемантина, погрузившись в мягкие глубины кресла и поставив локти на подлокотники, обеими руками держала чашечку кофе на уровне своего носа. От невыносимого желания уснуть она моргала, как одряхлевшая собака, и думала про себя, как сладко было бы хоть на четверть минутки отдаться сладостному головокружению, насладиться одним из немногих доступных ей удовольствий, ведь это никому не причинит зла, однако в присутствии Мари она не осмеливалась позволить себе такую вольность. Движением кисти Клемантина наклонила чашечку, вылила ее содержимое в рот, затем поставила чашечку на столик рядом с креслом, сложила руки на животе и, поерзав плечами, чтобы устроиться поудобней в кресле, впала в то состояние, которое призвано было изображать внимание, а на самом деле представляло собой не что иное, как отупение. В эту минуту ее полные щеки, вздрагивавшие всякий раз, как она поднимала голову, бледно-голубые глаза и даже крупные уши, прижатые к голове серой повязкой, — все в ее лице дышало простодушной снисходительностью.
Совсем другой породы была ее сестра, сидевшая напротив, она тоже утопала в кресле, но сна у нее не было ни в одном глазу, и сидела она, вонзив каблуки черных ботинок в скамеечку для ног, чтобы грузное тело не сползало по крутой спинке кресла. Массивный подбородок, энергичный взгляд и грубые черты лица могли бы заставить усомниться в ее принадлежности к слабому полу, особенно сейчас, когда она сидела спиной к окну. Много лет тому назад во время какого-то спора — а спорили они довольно часто — Мари сказала сестре, что она похожа на плохого священника; природа слепила эту женщину без особого тщания и не раз возвращалась к своему творению, то придавая глазам плутоватое выражение, то добавляя на подбородке довольно густой венчик жестких волосков. Поблекшее от болезни лицо слегка розовело на высоких выдающихся скулах, что-то вроде нервного тика заставляло ее время от времени вздыхать, сердито раздувая ноздри. По странному капризу судьбы это безобразное существо именовалось Розой. Свой кофе она выпила с недовольным видом и состроила гримасу. На плечах ее висело боа из дешевого меха, а из-под расстегнутого пальто выглядывало поношенное саржевое платье. Двумя крючковатыми пальцами она держала большую плоскую кошелку, утратившую первоначальную форму от долгого употребления, так что, хоть пока она была пуста, бока ее немного раздувались. На голове у нее была черная шляпка, надвинутая на лоб до самых бровей; Роза немного осадила ее назад, прижалась мертвенно-бледной щекой к спинке кресла, словно к подушке, и наблюдала за сестрами маленькими зелеными глазками.
— А она все не идет и не идет, — в шестой раз рассказывала Мари. — Я зову — нет ответа. Правда, ветер дул мне в лицо. Наконец я сама иду наверх, одна-одинешенька.
Этот рассказ, украшаемый новыми подробностями, Мари сопровождала красноречивыми жестами. Подождала несколько секунд, давая время слушательницам зрительно представить себе всю сцену, потом продолжала:
— Одна-одинешенька. На полдороге меня охватило какое-то предчувствие. И я сказала себе: произошло что-то ужасное. Но продолжаю подниматься в гору, несмотря на ветер, прихожу…
Подняв локти до уровня глаз, Мари боролась с шквалистым ветром, потом вдруг открыла лицо и протянула руки вперед, изображая страшный испуг:
— Боже милостивый! Она лежала на траве, милые вы мои!
Перстом она указала место на ковре, куда тотчас устремились взгляды Клемантины и Розы, но, не увидев там ничего необычного, сестры снова стали смотреть на рассказчицу. А та, впервые за столько лет увлеченная такой интересной игрой, сделала шаг вперед, потом отпрянула и, как могла, округлила свои блестящие маленькие глазки. Выдержав надлежащую паузу, Мари чуточку наклонилась вперед и протянула руку:
— Я подхожу… трогаю ее за плечо… «Бланш! — кричу я. — Бланш!» Она лежала, уткнувшись лицом в траву, я ее чуточку поворачиваю, голова перекатывается набок, и я вижу ее неподвижные глаза… Тут я все поняла. Ах! Я вскрикнула и бросилась вниз.
Мари на мгновение остановилась, переводя дух, затем продолжала трагическим тоном:
— Бросаюсь как безумная в карету и велю извозчику развернуться и гнать в город что есть мочи! Через десять минут останавливаемся у мэрии. Бросаюсь в кабинет мэра — его там нет… тогда — в гостиную, он там со всей семьей и кучей гостей; я выхожу на середину комнаты, делаю три шага, качаюсь, меня окружают, подхватывают, расстегивают ворот…
И Мари продолжает с наслаждением рассказывать эту часть истории, героиней которой она стала, не забывая упомянуть обо всех оказанных ей знаках внимания. Мэр отнесся к ней безупречно: подумать только, такой важный деятель собственноручно приготовил для нее чай с ромом! Наконец, немного собравшись с духом и не забыв обвести блуждающим взглядом всю честную компанию, жадно ловившую каждое ее слово («Где я?» — пробормотала она), Мари залпом осушила предложенную мэром чашечку чаю с ромом и начала рассказывать о драматическом событии.
Добравшись до этого места, Мари не упустила прекрасной возможности в седьмой раз поведать сестрам о том, что те уже прекрасно знали: о своих предчувствиях и сердечных замираниях на грани обморока. Пришлось вернуться к тому, как они с Бланш наняли карету, как ехали по полям, как Мари, не дождавшись кузины, поднялась на холм и как с криком побежала под гору.
На место самоубийства тотчас отрядили жандарма и врача. Тем временем Мари напоили валерьянкой, ей стало полегче, и она, по просьбе мэра, согласилась приютить у себя на ночь дочь покойной кузины. Покинув компанию, направилась в школу, чтобы увести к себе маленькую Элизабет, свою племянницу, как она и ее сестры называли юную родственницу. И тут тон рассказчицы немного изменился.
— Разумеется, она не знает, — продолжала Мари, — что ее мать умерла. Я устроила ее на диване, который стоит в ногах моей кровати, и она скоро захрапела, точно маленький зверек, а я все ворочалась в постели и никак не могла уснуть. Меня больше всего раздражает, что она ни разу не спросила, почему я ее привела к себе и где ее мать. У нее просто нет нервов, как и у Бланш. Не знаю, что мне помешало взять ее за плечи посреди ночи, встряхнуть как следует и сказать: «Поплачь, несчастное дитя! Неужели ты не чувствуешь, что произошла драма, что ты осталась сиротой?» Уж я-то на ее месте, при моих обнаженных нервах, через две минуты догадалась бы обо всем. В ее возрасте я была не такая, все воспринимала очень остро. Стоило мне услышать красивую музыку — и я готова была упасть в обморок. А уж если мне рассказывали о каком-нибудь несчастном случае, внезапная (и страшная) бледность разливалась по моему лицу.
На это отступление Мари не пожалела времени. Сначала нарисовала полный портрет очаровательной девчушки, какой она была когда-то, и лишь после этого перешла к более тягостной теме. Дело в том, что, раз Элизабет не может сама взять в толк, что ее мать умерла, надо, чтобы кто-то сказал ей об этом. Приятного мало: будут, конечно, крики и слезы, но добрыми словами можно успокоить сироту, если твердо проводить свою линию. Изложив задачу, Мари испустила глубокий вздох, дабы показать сестрам, что силы ее на исходе, и опустилась на стоявший поблизости стул.
Комната, где разыгрывалась эта сцена, чем-то вызывала смутное представление о жилище человека, жизнь которого состоит из мелких причуд. Все здесь предназначалось для удовлетворения желаний одного-единственного человека, здесь не было ничего, что не свидетельствовало бы о его привычках и склонностях. В птичьем мире это было бы гнездо, но гнездо, закрытое со всех сторон, теплое и мягкое, слепленное из грязи и травинок. Сверкающим божеством домашнего очага была «саламандра», выкрашенная черной краской переносная комнатная печка, набитая углем, который она переваривала с довольным урчаньем, а охватывавшие ее полукругом стулья, обтянутые оливковым плюшем, как будто молча и преданно поклонялись ей. Кресла, в которых сидели Клемантина и Роза, стояли одно против другого по обе стороны камина, а над ним висело потускневшее и пятнистое от старости зеркало. Держа речь перед сестрами, Мари то и дело смотрелась в это зеркало, по бокам которого торчали бронзовые лапы подсвечников-бра с тюльпанами на концах; она видела свое костлявое лицо, которому старалась придать благородный вид, поднимая брови и втягивая щеки. «Аристократическая худоба», — думала она. Мари предпочитала не смотреть на Розу, взгляд старшей сестры казался ей враждебным, а улыбка — презрительной. Не то чтобы Мари боялась ее, но эта безобразная женщина, вечно жалующаяся на нужду в маленькой гостиной, такой теплой и уютной, всегда вызывала у нее неприятное чувство. Мари знала, что рано или поздно пузатая кошелка разинет свою жадную пасть, чтобы поглотить разные мелкие предметы, которые Роза именовала «пустячками»: початые коробки спичек, конверты, а как попадет вместе со своей хозяйкой на кухню — овощи и горбушки хлеба. Пустячки! И каким ледяным тоном Роза благодарила сестру! А кто же виноват в том, что старшая из трех сестер неудачно вышла замуж?
Мари охотней общалась с Клемантиной, хоть и считала ее глупой. Она помнила, как они вместе играли, потому что были почти одного возраста, тогда как Роза, будучи на пять лет старше, презрительно относилась к их играм, Мари даже по-своему любила апатичную толстуху, как любят жертву — она постоянно третировала Клемантину из одного лишь удовольствия показать свое превосходство над ней.
— Ты спишь, Клемантина? — вскричала Мари, не вставая со стула.
Застигнутая врасплох жертва машинально передернула плечами и широко открыла глаза, взгляд ее блуждал.
— Ты даже не соображаешь, где ты, — тем же тоном продолжала Мари. — Я попросила тебя прийти сюда, потому что нуждаюсь в твоей помощи. А что делаешь ты? Пьешь мой кофе и спишь. О чем мы говорили, старая глупышка?
— О чем? — переспросила Клемантина, проведя пальцами по щекам.
На мгновение замолкла, испуганно вздохнула, затем пролепетала:
— Мы говорили об Элизабет…
— Ха! — воскликнула Мари. — Мы говорили об Элизабет. Так вот, ты пойдешь и скажешь ей.
— Что я ей скажу?
— Скажешь, что ее мать умерла.
Толстуха беспокойно заворочалась в кресле.
— Я не могу. Не могу причинить горе бедной малышке. Сама рассуди, Мари, ты же прекрасно знаешь, что я не создана для того, чтобы выполнять подобные поручения.
Мари встала со стула и склонилась над сестрой.
— Не создана для того, чтобы выполнять подобные поручения, — повторила она с медоточивой улыбкой. — Чем больше я на тебя смотрю, Клемантина, тем больше убеждаюсь в том, что ты, напротив, только для этого и создана. Я бы сама в охотку поплакала на твоей необъятной груди. Хоть ты и бесплодна (это не упрек, Клемантина), хоть ты никого не произвела на свет, материнское чувство у тебя сильней, чем у нас. От тебя никто не ждет ничего дурного. В твоих устах самые плохие новости теряют свою горечь…
В этой насмешливой речи содержалось гораздо больше правды, чем предполагала Мари, но все равно Клемантина была уязвлена, и глаза ее затуманились слезами.
— Ну же, смелей! — сказала Мари, выпрямляясь. — Ты преспокойно скажешь ей всю правду, но с подходом, понимаешь? И тактично. Ведь девочке не исполнилось еще одиннадцати. Разумеется, ты скажешь, что Бланш умерла естественной смертью от разрыва сердца там, за городом. Элизабет, конечно, скоро узнает, что мать покончила с собой. Но в ближайшие пять минут надо довести до ее ума, что она осталась сиротой, и больше ничего.
— Сиротой! — воскликнула толстуха и внезапно опечалилась, будто узнала эту новость впервые.
— Ну где твоя голова? — удивилась Мари. — Неужели ты только сейчас до этого додумалась?
— Эту сторону вопроса я как-то упустила из виду, — простонала Клемантина.
После этих слов Роза, не промолвившая до той минуты ни слова, резко поднялась. Слишком короткий подол не скрывал ее икр, и сестры увидели тощие ноги, на которых морщились хлопчатобумажные чулки. Окинув взглядом гостиную, она пожала плечами и скрестила на груди свои грубые руки, как солдат, собирающийся запеть песню.
— Мне смешно слушать вас, — сказала она грудным голосом. — Подумаешь — сирота! А я разве не сирота? — Тут она на несколько секунд остановилась, чтобы до сестер дошел смысл ее слов, в которых она не видела никакого мрачного юмора. — И не только сирота, — продолжала Роза, — но еще и вдова. Неужели вы думаете, что со мной церемонились, когда сообщили о смерти мужа?.. Я повстречала носилки, на которых его несли с завода. Приподняли простыню и сказали: «Это Шарль!»
Наступила тишина, которую Роза использовала, чтобы снова надвинуть до бровей свою шляпку.
— То же самое было и когда я нашла Эммануэля задохнувшимся в колыбельке. Кормилица, идиотка, истошно вопила: «Он умер! Он умер!» Какой уж тут подход! А когда Эстеллу унес брюшной тиф, вы думаете, мне сообщили об этом намеками?
Она снова обвела взглядом гостиную, похоже было, будто она бредет по кладбищу и ищет могилу, местонахождение которой забыла. Ни Мари, ни Клемантина не посмели шелохнуться перед этой одновременно смешной и грозной женщиной, ее голос словно завораживал их.
— Сначала Эммануэль, потом Эстелла, — бормотала Роза. — Вот это горе так горе! Вам-то и невдомек, что такое страдание. А вот Бланш это знала. Ты насмехалась над ней, Мари, но позволь сказать тебе, она стоила в сто раз больше, чем ты.
— Ну, это уж слишком! — вскричала Мари. — В моем собственном доме!..
Она отступила перед тяжелым взглядом старшей сестры и не посмела больше ничего сказать, но от стыда, что ее так унизили в собственной гостиной, кровь прилила к щекам.
— Ладно, — сказала Роза, презрительно улыбаясь. — Не сердись. Я загляну на кухню, а вы займитесь Элизабет.
— Да ничего она там не найдет, — быстро забормотала Мари, как только дверь закрылась за Розой. — Сахар и кофе я спрятала в шкафчик, который заперла на ключ. — Да не налегай ты на меня! — добавила она, отталкивая прислонившуюся к ней сестру. — А почему бы Розе не пойти самой поговорить с Элизабет, раз она считает, что это так просто? Так нет же, она старшая, значит, может командовать нами. Ну ничего, в один прекрасный день я захлопну дверь этого дома перед ее носом. Не прикасайся ко мне, Клемантина, ты мне действуешь на нервы!
И она шлепнула по пухлой руке, которую сестра протягивала к ней. Клемантина закусила губы и отерла тыльную сторону ладони о юбку, вид у нее был обиженный. Какое-то мгновение Мари смотрела на нее, кусая ногти.
— Мне пришла в голову одна мысль, — сказала она вдруг. — Чтобы смягчить удар, который нанесет девочке печальное известие, скажи, что я сделаю ей подарок. Так или иначе на Новый год я бы ей что-нибудь подарила, на этот раз она получит подарок немного раньше, только и всего. Значит, ты иди, поговори с ней, а я минуты на три задержусь и приду уже с подарком. Только гляди, чтоб не было крика, Клемантина, понимаешь? И, пожалуйста, без слез. При моих нервах я слез просто не переношу.
С этими словами Мари подтолкнула Клемантину к двери, которая вела в спальню, толстуха тщетно упиралась, даже ухватилась за спинку кресла, а на лице ее появилось выражение ужаса, как у человека, неудержимо сползающего в пропасть. Когда-то Клемантина, видимо, была недурна собой, однако полнота, обычно придающая фигуре женщины лишь комизм, в ней производила впечатление чего-то монументального и зловещего, нетрудно было заметить, что несчастная задыхается под тяжестью собственного тела и вялость уже распространяется и на мозг. В какие-то мгновения в глубине ее глаз читался дикий страх и взгляд становился как у человека, утопающего в зыбучих песках, в тот момент, когда песок закрывает ему рот.
— Да не смотри ты на меня такими глазами, — сказала Мари, для которой подобные взгляды были ничем не лучше слез. — Ты найдешь Элизабет в моей спальне.
— Я причиню ей боль, — простонала Клемантина.
Однако Мари обошлась с сестрой так же круто, как только что Роза обошлась с ней самой.
— Ты хочешь, чтобы мы ничего ей не говорили, пока она не повстречает катафалк с телом своей матери на улице? — воскликнула она драматическим тоном.
«Подарок, подарок, — пробормотала Мари, когда дверь за Клемантиной закрылась. — Тут я немного погорячилась. За какую-то минуту подарок не подберешь».
Она направилась к застекленным полкам, занимавшим оба угла напротив камина. Встала на цыпочки, доставая сверху ключик, и бережно открыла стеклянную дверцу. Ни одна из безделушек, открывшихся взору, не была чем-то ценным или редким, но сам факт, что это ее вещички, придавал им в ее глазах необыкновенную ценность. Это были большей частью дорожные сувениры: перламутровые коробочки, рамки для фотографий, отделанные ракушками, портмоне из слоновой кости, какие дарят при первом причастии, и кукольные веера, наполовину раскрытые, чтобы можно было видеть написанные акварелью аляповатые букетики. Какое-то время Мари колебалась, то протягивая, то отдергивая руку, словно боялась совершить святотатство, ибо при виде этих дешевых безделушек ее жадное сердце начинало биться быстрей. Наконец за деревянной чернильницей в виде швейцарского шале она заметила маленькие щипцы для снятия нагара со свечей, которые считала неизящными и потому прятала за чернильницей. Однако, взяв щипчики в руку, Мари осудила их уже не так строго и отметила про себя, что они, чего доброго, старинные.
«К тому же, — подумала она, кладя безделушку обратно за чернильницу, — на что девочке эти щипчики?»
И тут Мари вспомнила о старых ножницах, давно валявшихся в выдвижном ящике бюро вместе с иступившимися перочинными ножами и обломками стереоскопа. И из груди ее вырвался крик радости.
III
Элизабет и Клемантина уже не одну минуту сидели каждая в своем конце обитого гранатовым плюшем дивана в спальне Мари. Обе молчали. Девочка ладошкой гладила плюшевую обивку и, когда под руку попадался вылезший из дивана конский волос, выдергивала его. Она была так поглощена этим занятием, что забыла бы о присутствии тетки, если бы Клемантина время от времени не испускала тяжкий вздох. Тогда Элизабет поднимала голову и показывала худенькое лицо, обрамленное черными локонами, самые длинные из которых касались плеч; темные глаза сверкали каким-то необычным блеском, их глубокий настороженный взгляд цепко впивался в окружающие предметы. Только когда Элизабет опускала ресницы, можно было разглядеть черты ее лица: короткий прямой нос и тонкие губы, плотно сжатые, словно они хранили какую-то тайну; если бы она сейчас рассмеялась, то показалась бы всего-навсего хорошенькой, но огромные внимательные глаза придавали серьезному детскому лицу какую-то особую, волнующую красоту.
По-прежнему молчавшая Клемантина устремила страдальческий взгляд на небо, которое можно было видеть поверх закрывавших нижнюю часть окна занавесок, она увидела также крыши старых домов по другую сторону улицы и подумала, как хорошо было бы находиться сейчас за одной из этих аккуратно побеленных стен среди людей, которым она не должна говорить неприятные вещи. Поглубже вздохнув, Клемантина перевела взгляд на широкую медную кровать, провела рукой по прутьям спинки в изголовье, пощупала чудесную бледно-голубую атласную перину и, ощущая все меньше решимости, сдавленным голосом произнесла имя племянницы. Девочка посмотрела на нее.
— Послушай, дитя мое, — начала Клемантина. Тут она запнулась, надо было сделать усилие над собой и собраться с духом. — Не дергай волосы из дивана, — сказала она наконец.
Вновь наступило молчание. Стоявшая на камине газовая плитка издавала негромкий веселый свист.
— Вообще никогда этого не делай, — повторила Клемантина.
И вдруг лицо ее сморщилось, словно она собиралась чихнуть, однако не чихнула, а зарыдала. В этот самый миг дверь резко распахнулась, и в комнату вошла Мари, на лице которой застыла приличествующая случаю гримаса; она деловито подошла к Элизабет и протянула ей ножницы.
— На, — как-то неловко сказала она. — Вот тебе мой подарок…
И Мари кисло улыбнулась, полагая, что изображает ангельскую кротость.
— …потому что у тебя горе, — добавила Мари.
И ткнулась носом в лоб Элизабет. Клемантина отчаянно вскрикнула:
— Ты слишком рано пришла! Я не успела ничего ей сказать!
— Не успела! — повторила Мари, топнув ногой. — Ты невыносима, сестра моя!
Первое, что пришло в голову Мари, — отобрать ножницы, которые Элизабет открывала и закрывала, как бы проверяя их исправность, и она уже потянулась было за ними, но в конце концов рассудила, что лучше предоставить Клемантине самой выпутываться из затруднения. Однако, повернувшись к двери, Мари столкнулась с Розой, которая, заслышав громкие голоса, вошла в спальню; по толщине кошелки и по тому, как Роза прижимала ее к себе, Мари поняла, что сестра нашла чем поживиться; кровь прилила к ее щекам, от злости она не могла вымолвить ни слова и, разведя руки, несколько секунд простояла с открытым ртом.
— Ну что, — спросила Роза, отстраняя сестру, чтобы пройти, — сказали вы малышке все, что надо? Бедная моя девочка, — продолжала она, кладя крупную пятерню, запачканную чем-то черным, на голову Элизабет, — твоя мать была славной женщиной, что бы там про нее ни болтали.
— Молчи, Роза! — сквозь слезы крикнула Клемантина. — Она еще ничего не знает.
Элизабет перестала играть с ножницами и теперь держала их в руке раскрытыми.
— Я знаю, — глухо сказала она. — Мама умерла.
Все три женщины невольно отпрянули, как от удара, Клемантина перестала стенать. Воцарилась глубокая тишина.
— Она убила себя, — добавила девочка.
Тотчас послышался трескучий дрожащий голос.
— Это не так, — заторопилась Мари. — Господь взял твою маму к себе… Разрыв сердца… за городом, в поле…
— В поле!.. — жалобным голосом подхватила Клемантина.
И протянула руки к девочке, но та встала. Хотя на ней был черный школьный фартучек, она казалась старше и выше, так как стояла выпрямившись и гордо вскинув голову с самым решительным видом. Элизабет не спеша подошла к Мари, зажав в кулаке сверкающие ножницы.
— Я слышала, как вы только что разговаривали. Вы говорили очень громко. Говорили обо мне и о моей матери.
Девочка в упор посмотрела на Мари, и та, не выдержав ее странного пристального взгляда, опустила глаза. — Бедная моя Элизабет, — сказала Мари, протягивая руку, чтобы погладить девочку по голове, — я хотела бы…
Но закончить фразу не смогла: как только ее пальцы коснулись волос Элизабет, та резко отдернулась, точно от соприкосновения с ядовитой змеей.
— Я не хочу, чтобы вы меня трогали, — без обиняков сказала она. — Я вас не люблю.
— Неблагодарная девчонка! — вскричала Мари. — Сейчас же верни мне мои ножницы!
Вместо ответа Элизабет спрятала руку, в которой по-прежнему держала раскрытые ножницы, за спину, но не отступила ни на шаг; Мари наклонилась и приблизила пылающее лицо к лицу девочки, словно собиралась укусить ее.
— Ты слышишь, Элизабет? Отдай мои ножницы.
Девочка так энергично помотала головой, что локоны ее разметались по плечам.
— Отдай ей ножницы, Элизабет, — умоляющим тоном проговорила Клемантина. — Я дам тебе другие.
— Нет, не дашь! — обрезала ее Мари. — Она отдаст эти и других не получит. Впрочем, — добавила она, чуточку смягчив голос, — я уверена, что она пожалеет о своем поступке, если уже сейчас не сожалеет…
И неожиданно резко протянула руку за спину Элизабет, чтобы вырвать у нее ножницы, но та ожидала подвоха с ее стороны, взмахнула рукой, и раскрытые ножницы молнией сверкнули у самого носа ее тетки. Та дернулась в сторону и тут почувствовала, что ее что-то держит, глянула вниз и с ужасом увидела, как девочка, придерживая свободной рукой теткин подол, стрижет ткань ее платья. Это произошло так быстро, что ни Клемантина, ни Роза не успели разглядеть, что случилось, однако Мари закричала, словно ее убивают, и обе сестры подбежали к ней. Элизабет спокойно сложила ножницы и сунула их в карман фартука, а Мари отбежала и укрылась за креслом. Немного бледная, но спокойная, девочка вернулась к дивану, сопровождаемая яростными взглядами, которые бросала на нее Мари.
— Она хотела убить меня! — кричала Мари, дергаясь в заботливых руках сестер. — Кончик ножниц вонзился в мое тело. Не смей садиться на мой диван, маленькая людоедка!
Пришлось Розе своими могучими руками схватить Мари за запястья, а Клемантине — обхватить ее за талию, чтобы удержать, так как возмущение утроило силы женщины и прибавило ей смелости, к тому же теперь она не видела ножниц в руке племянницы и рвалась исхлестать пощечинами пылающее, но серьезное лицо девочки, которая спокойно и молча смотрела на нее. Красная от злости Мари, склонившись над креслом с отведенными назад руками, попыталась стряхнуть с себя Розу и Клемантину и чуть было не опрокинула этот громоздкий предмет мебели, но силы оставили ее, и она вдруг повисла на плече старшей сестры, худое тело затряслось от злых рыданий, а лицом она уткнулась в корсаж Розы.
— Мое платье! — глухо простонала она сквозь слезы. — Мое единственное черное платье! В чем же я теперь покажусь… на похоронах?
— Из-под пальто никто ничего не увидит, — утешила ее Роза. — А потом отнесешь в город, и тебе его аккуратно подштопают. Ты можешь себе это позволить!
Затем Роза сделала знак Элизабет, чтобы та вышла, и похлопала по плечу Клемантину, которая рухнула на колени за креслом и плакала навзрыд.
Произведения
Критика