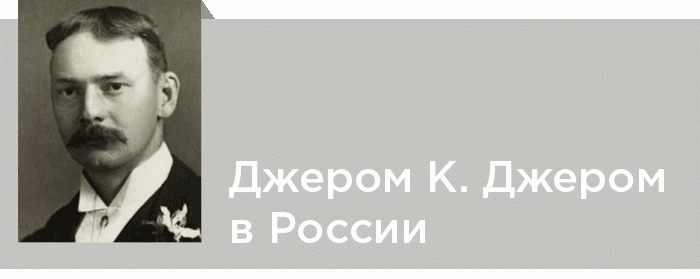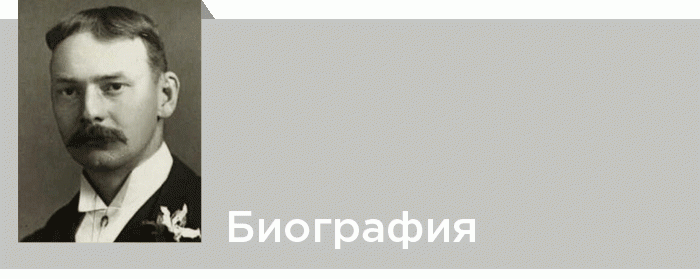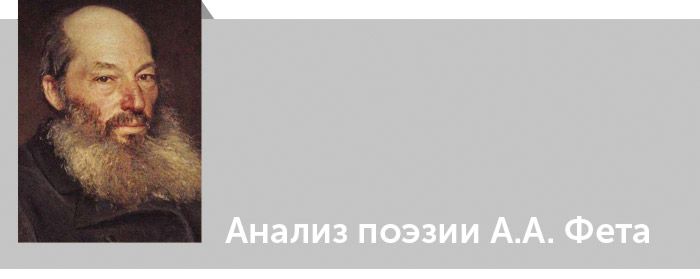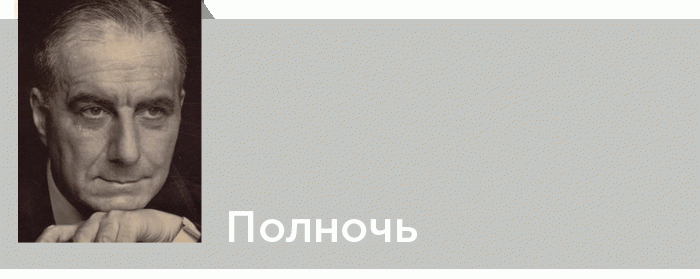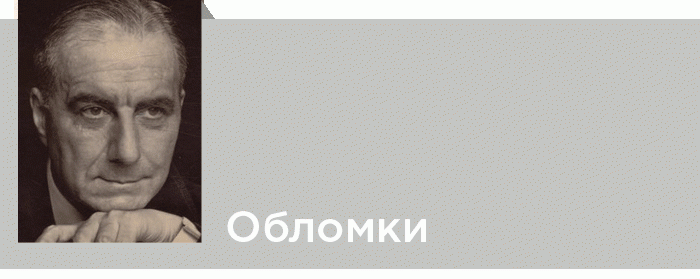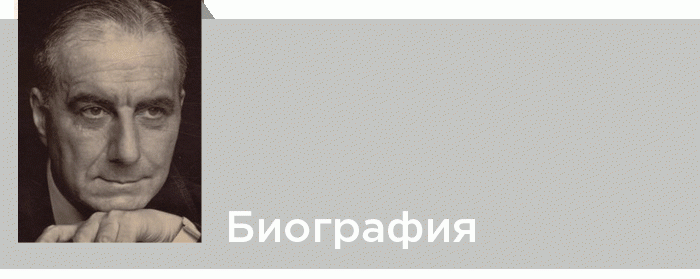Метод и мастерство Жюльена Грина в романах 1920-1930-х годов
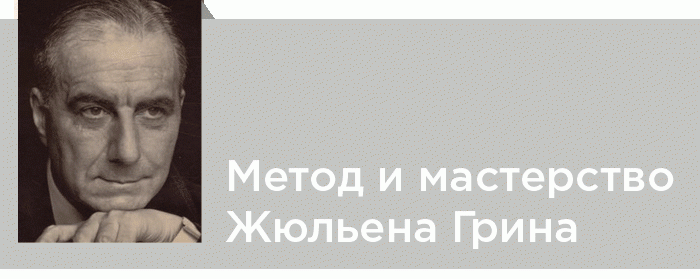
З. И. Кирнозе
Жюльен Грин (год рождения 1900) принадлежит к числу современных французских авторов.
Жюльен Грин начал печататься в 1922 году. Вначале он писал статьи об английской литературе, заново открывая авторов не очень популярных во Франции — Самюэля Джонсона, Шарлотту и Эмилию Бронте, Вильяма Блейка... И его первый роман «Монт-Синэр» тоже повествовал не о французах, а о жизни семьи в американской провинции. Ориентация Ж. Грина на английскую культуру и американскую жизнь не была случайной. Сын состоятельных американцев, он появился на свет во Франции и сам выбрал себе родину и религию: стал католиком, окончил университет в штате Вирджиния и в первую мировую войну отправился сражаться добровольцем за Францию. После выхода в свет «Монт-Синера» о Грине утвердилось мнение, как об американце, пишущем по-французски и трактующем проблемы, имеющие к французам лишь косвенное отношение.
Роман «Адриенна Мезюра» (1927) несколько озадачил читателей. Ничто не напоминает в нем об Америке. Со страниц встает французская провинция, крохотный городок Тур-Левек в департаменте Сены и Уазы. Близость к Парижу делает его только более глухим, известно, что самые зашатные местечки бывают недалеко от столиц. Газеты продаются в Тур-Левеке на вокзале, доктор знает нотариуса, а все обитатели их обоих. Через город проходит «национальное шоссе». Центральная улица имени Тьера застроена особняками того неопределенного стиля, которым отмечено падение архитектуры конца прошлое века. Из дневника Грина мы узнаем, что, начиная роман, он имел перед собой репродукцию Утрилло, любившего писать захолустные уголки с забавными претенциозными строениями. В одном из этих домов, носящих имя виллы Буков и развивается действие романа.
Жюльен Грин, как и Мориак, рисует французскую провинцию уверенной кистью. И у него мы слышим ее шумы и запахи, видим жалкую роскошь обстановки — все эти кровати, имитирующие восемнадцатый век и мраморные столики, кажется специально сделанные, чтобы переворачиваться. Традиции классического реализма Бальзака и Флобера легко распознаются в описаниях, которыми широко пользуется Жюльен Грин: «Дом, в котором жили Мезюра, носил название виллы Буков, так как действительно» два дерева этой породы росли в маленьком узком садике, выходившем на улицу. Господин Мезюра купил этот дом, когда по выходе в отставку, решил жить в деревне. Дом настолько ему нравился, как если бы сам он вычертил план его постройки.., подобные дома можно встретить нередко в предместьях Парижа. Со своим выступающим наружу каменным крыльцом, со своим навесом в форме раковины, со стенами из шероховатого камня, ощетинившегося остриями наподобие коричневой нуги, они, по-видимому, являются идеалом целого класса французского общества, с таким увлечением востро изводящего их неизменную модель». Такая форма развернутого перечисления с последующим социальном выводом, который подготовляется исподволь и вытекает с неизбежностью, вполне характерна не только для классической литературы прошлого, но и для реалистичной французской литературы XX столетия. Достаточно вспомнить семейные хроники Дюамеля, «Семью Тибо» Мартен дю Гара, романы Мориака.
Но есть в описаниях Грина и другой, американский оттенок, то, что ощущается у Синклера Люиса и Колдуэлла как безвыходная определенность, бездуховная замкнутость провинциальной среды. Как бы ни был скучен мориаковский Аржелюз или дюамелевский Гавр, в них чувствуется душа. Стилистически это выражается в поэтичности описаний, в акцентировании верной прелести природы.
Мир Грина залит беспощадным солнцем и как бы закреплен в этом золотистом желе: «Небо на дворе было белое, насыщенное ярким и сильным светом, едва выносимым для глаз». Или еще: «Никто не выходил из дому во время полуденного зноя. Лишь изредка появлялся случайный прохожий, который пытался укрыться в скудной тени, отбрасываемой стенами... Напротив был расположен совершенно белый дом с аспидной крышей, и его ставни были также закрыты». И если солнечные дни в романе Грина режут глаз светом, то ночи тьмой. Вот Адриенна вышла на улицу после ужина: «В течение мгновения она прислушивалась к звукам голоса, доносящегося из какого-то близлежащего сада, но было слишком темно, и ей нечего было бояться, что кто-нибудь может ее увидеть. Она оперлась о стены виллы Луиза и подняла глаза. В нескольких метрах от себя она могла теперь видеть большой четырехугольный особняк на углу улицы, крыша которого терялась в темноте, но стены, выбеленные известкой, казалось отбрасывали вокруг себя какой-то свет. Два черных пятна, расположенных одно над другим, обозначали окна с закрытыми ставнями».
«У меня есть только белое и черное, — пишет он в дневнике, — только эффекты света и тени. Но это книги человека, который мечтал научиться сильному рисунку».
В семье Мезюра всего три персонажа: Антуан Мезюра, бывший учитель чистописания, шестидесятилетний Старик, вдовец и отец двух дочерей; Жермена Мезюра, старая дева тридцати пяти лет, страдающая давней тяжелой болезнью, Андриенна Мезюра восемнадцатилетняя девушка. С первых страниц обозначен год повествования — одна тысяча девятьсот седьмой. На этом точные временные приметы кончаются. События, происходящие в романе, никак не соотносятся с историей кануна первой империалистической войны. Правда, Антуан Мезюра каждый день покупает газету, но он не высказывается о политике, и Адриенна задает ему всегда один и тот же, ставший ритуальным, вопрос: «Какая сегодня температура?» Действие романа четко ограничено рамками одной буржуазной семьи, сюжет довольно прост: восемнадцатилетняя Адриенна, собирая цветы в поле, видит проезжающего в коляске доктора Морекура и с первого взгляда влюбляется в него. Недостаток общения компенсируется работой голодного воображения, но ни видеть доктора, ни говорить с ним Адриенне не удается. Она живет под двойным гнетом изнывающего от скуки деспота-отца и озлобленной болезнью и завистью сестры Жермены. Разгадав чувства Адриенны, Жермена выдает их отцу, подозревающему самое худшее.
Но и сама Жермена бежит из дома. Разъяренный отец, поднимает руку на Адриенну, а дочь, ослепленная страхом и отчаянием, сталкивает господина Мезюра с лестницы.
Став свободной, Адриенна не становится счастливой. Ее мучают воспоминания. Она неопытна и неловка. Доктор даже не подозревает о чувствах Адриенны. Ее письмо с объяснением в любви попадает в чужие руки. Попытка уехать в другие места не приносит Адриенне успокоения. По городку ползут сплетни. Сам факт, что доктор беден и на двадцать семь лет старше Адриенны воспринимается обывателями как лишнее доказательство ее чудовищной безнравственности. Затравленная и одинокая Адриенна сходит с ума.
Сгущение душевных драм рождается у Грина из обыденности. На вилле Буков все часы суток подчиняются ритму, установленному Жерменой и господином Мезюра, и жизнь становится «ни чем иным, как рядом привычек, жестов, совершаемых в раз навсегда установленные моменты». Течение времени, самая смена времен года лишь косвенно отражаются на жизни семьи. Зимой на улицах городка потише, к лету в Тур-Левек стекаются дачники из Парижа, но часть города, в которой живут Мезюра, сохраняет почти такое же спокойствие, как зимой и весной, только в окна чаще доносится «шум экипажей с Национального шоссе — и это все». Антуан Мезюра является в романе животным воплощением этого покоя: «Разумеется, он был счастлив: жизнь его была как нельзя более проста, и вся она состояла из привычек»... Ж. Грин подробно перечисляет эти привычки: ежедневная прогулка по городу, ожидание прибытия газет в станционный киоск, вечерняя игра с дочерьми в карты, часы еды. Само по себе следование подобным привычкам не являемся чем-либо предосудительным для человека, вышедшего в отставку, к тому же господин Мезюра вовсе не зол. Можно было бы создать из этого материала и более привлекательный персонаж. Однако Грин подчеркивает в Антуане Мезюра его бесчувственность и неинтеллектуальность: «Еда была его последней страстью». Автор только упоминает, что «обычно господин Мезюра много говорил и охотно смеялся». В романе он говорит мало, автор нехотя представляет ему слово. Это и понятно. Антуан Мезюра сразу и достаточно полно охарактеризован внешне и при той характеристике, которая ему дана, ничего умного или волнующего произнести не может. Он растение, выросшее на почве семьи и всеми корнями впитавшее ее буржуазную мораль: откладывать деньги на приданое дочерям, беречь собственность, как зеницу ока, чувствовать себя господином у себя дома, помыкать домашними и слугами. При этом он лишен настоящей силы характера. Знаменательно, что и разбогател господин Мезюра не своими стараниями, а по воле слепого случая. Ему просто-напросто достался счастливый лотерейный билет. Жюльен Грин неоднократно упоминает, что вне дома господин Мезюра неловок и боязлив. Характер отца у Грина заметно уступает не только характеру Оскара Тибо в романах Роже Мартен дю Гара. но и характерам Франсуа Мориака. Если под характером понимать значительность человеческой сущности, то можно сказать, что Антуан Мезюра вообще лишен характера. Его функция в романе прежде всего функция сюжетная.
В образе старшей дочери Мезюра — Жермене — Грин воссоздает женщину умную и проницательную, не чуждую порывов страстей. Мельком сказано, что в юности Жермена пережила какую-то глубокую трагедию. Печальна ее жизнь под родительским кровом с отцом-деспотом и ребенком-сестрой. Отец не хочет ничего слышать о ее недуге. Оберегая свой покой, он упрямо повторяет, что в семье Мезюра не болеют. И сама Жермена предпочитает таить страдания, ибо ее пугает мысль о приближений смерти. Адриенна, в свою очередь, не любит сестру, к болезни Жермены у нее брезгливое чувство. Она и проходит мимо Жермены, задерживая дыхание, чтобы не глотнуть отравленного воздуха. Адриенна радуется, когда Жермены нет за семейным столом, и ненавидит ее болезнь как «змеиное гнездо с тем естественным ужасом, который люди питают ко всему, что может сократить их жизнь или замутить ее источники». Адриенна не отделяет Жермену от ее болезни. Впрочем, не делает этого и сам автор. Жермена у него женщина, «вся жизнь которой была лишь длительным развитием ее болезни». В такой характеристике образов Антуана и Жермены Мезюра отчетливо прослеживаются натуралистические тенденции метода Ж. Грина.
Характер Адриенны сложнее. Мориак говорил, что в провинциальной глуши он находит типы более сильные и цельные, чем в сутолоке больших городов. Тот же подход сохраняет к проблеме Жюльен Грин, отличающий в своем дневнике чаще тревожащее, чем благотворнее влияние на человека цивилизации. Дело здесь не в прямых литературных влияниях. И вряд ли так уж правы те критики, которые видят в Адриенне Мезюра прямое подражание романам Франсуа Мориака.
Монотонность провинциальной жизни, упорядоченность семейного быта, отсутствие в повседневности живых и разнообразных впечатлений подготавливают почву, на которой разрастается страсть Адриенны Мезюра. Она предстает в романе на первых страницах почти ребенком, с детскими округлыми румяными щеками и ясными невинными глазами, в которых нельзя обнаружить ни тени волнения. Однако автор замечает тут же, что и в фартуке служанки Адриенна не выглядит горничной, что лицо ее уже предвещает страсть повелевать, и что «нужно было смотреть на нее некоторое время, чтобы заметить, что она красива».
Это подчеркнутое противоречие детскости и душевной твердости, которое Жюльен Грин фиксирует уже в портрете Адриенны, сохраняется автором и в эпической экспозиции повествования об Адриенне. Мы узнаем, что у Адриенны не было детства. Рано осиротевшая, она воспитывалась отцом, который жил только для собственного удовольствия, и сестрой, которая не думала ни о чем, кроме своей болезни. Перед нахмуренными бровями Жермены она рано очерствела, научилась молчаливости и жизни в вечном страхе. Старый Мезюра не терпел ни слез, ни шалостей. У нее не было подруг. В монастыре Святой Цецилии, куда Адриенна ходила учиться, она не сумела привязаться ни к девочкам, ни к наставницам, «в этой школе ее воля быстро сформировалась, и преждевременная суровость утончила ее губы, опустила прямую линию бровей, придала лицу напряженный и замкнутый вид, столь характерный для всей ее семьи».
В классической реалистической литературе среда и предшествующий жизненный опыт накладывают неизбежный отпечаток не только на внешний, но и на внутренний облик персонажей. Грин вдет по этому же пути и с закономерностью фиксирует в характере Адриенны тайную мечтательность, привычку лениво грезить, тоску по человеческому общению и раннюю усталость, против которых бунтует ее молодая и сильная плоть. Дремотная скука дней в двойной глуши — пригородного городка и буржуазного дома, тягостная тишина слишком долгих ночей составляют в «Адриенне Мезюра» как и в «Терезе Декейру» не фон, а скорее питательную среду для замыслов Адриенны: « Теперь во всем доме не слышно было ни звука. Ни один звук не доходил также и с улицы. Адриенна не любила этого часа. Ей хотелось бы услышать шум закрываемой двери, хотелось бы, чтобы кто-нибудь произнес, хоть одно слово, и она все еще надеялась, что отец снова спустится в гостиную за газетой или трубкой, которую он там позабыл. Она подстерегала даже, как нечто желанное, зловещие звуки кашля своей сестры, звуки, которые днем она ненавидела; но она знала, что с наступлением ночи Жермена прятала голову в одеяла, чтобы заглушить свой кашель». Из такой тишины и такой скуки рождаются самые фантастические замыслы. Из них Альфонс Доде создал Тартарена с его Африкой и львами, Густав Флобер и Франсуа Мориак — мечты своих героинь о Париже, Жюльен Грин — таинственного супруга Адриенны Мезюра. Не так важно, что ничего этого в сущности не было — ни Африки, какую воображал себе Тартарен, ни Парижа, который был нужен Терезе Декейру, ни — еще меньше — доктора Морекура, в которого влюбилась Адриенна. То есть все они, конечно, были — и Африка, и Париж и Морекур, но обладать ими герои могли бы только в воображении. Несовпадение сущности объекта и представления о нем всегда порождает в литературе комические, либо трагические ситуации, не столь уже далеко отстоящие друг от друга, порождает гамлетов и дон Кихотов, либо, если резко уменьшить масштаб, тартаренов и героинь, сходящих с ума, убивающих других и себя.
Завязкой повествования об Адриенне служит описание ее первой встречи с доктором Морекуром во время прогулки. О новом докторе Адриенне известно только то, что он не делает никаких визитов, кроме профессиональных, не останавливается поболтать с соседями у решетки и ходит всегда с опущенной головой: «Экипаж проехал совсем близко от Адриенны. Может быть, доктор почувствовал острый взгляд, который устремила на него молодая девушка. Во всяком случае он поднял глаза от книги, которую собирался читать, и повернул голову в том направлении, где она стояла. Он был невысок, еще молод, но цвет лица у него был плохой и старил его. На этом несколько бледном лице Адриенна увидела темные глаза, которые остановились на ней с выражением любопытства. Он как будто поколебался, потом коснулся своей шляпы беглым жестом. Все это продолжалось не более секунды, и экипаж проехал».
На этом жесте действие надолго исчерпывается. Начинается работа воображения. По такому же принципу построено движение романа Флобера «Госпожа Бовари», здесь, при желании, можно отыскать и прямые ассоциации. Но дело не в них. Характер Адриенны Мезюра достаточно далек от характера флоберовской героини. По своей натуре Адриенна сильная и цельная личность. Полученное ею впечатление оставляет в Адриенне глубокий след: «Когда она сошла с дороги на траву, у нее была уверенность, что это значительная минута в ее жизни и что она будет много думать о ней впоследствии. Но не так ли бывает со всеми людьми, которым мало дает жизнь, и которые вкладывают в ближайшее будущее безумную и суеверную надежду... Сколько заключенных дрожали от радости и тревоги при ежедневном повороте ключа в замке?»
Отчий дом — тюрьма для Адриенны. Выход из него в традиционное замужество ничего не изменил бы. Все претенденты на ее руку сами отмечены печатью маленького провинциального городишки. Сыновья нотариусов и торговцев могут предложив, себя Адриенне лишь в качестве варианта господина Мезюра. О Морекуре Адриенна почти ничего не знает, но и того, что ей известно, достаточно, чтобы понять — он отличается от местных буржуа. Она влюбляется не в Морекура, а «в другого» как справедливо подметил Пьер Броден в гриновской главе, из история французской литературы.
Ж. Грин вспоминает, что какой-то индийский писатель сравнивал секс в цивилизованном обществе с инстинктом слона, привязанного за ногу. Рано или поздно животное порвет веревку и будет топтать то, что окажется на его пути. Жюльен Грин тоже считает, что «Этот инстинкт вносит в человеческую жизнь элемент безумия». Действительно, в обстановке семейной ненависти и тирании борьба Адриенны неизбежно выливается в проявление ненависти. Любовь, добро оборачивается злом. Самые ночные мечты о Морекуре оформляются у Адриенны из ненависти к тому, что ее окружает. «Она ненавидела свою комнату, ...эти обои с цветочками, которые выбрал ее отец и которыми он так гордился, этот шкаф из большого магазина, который сочли подходящим для ее шестнадцати лет...».
Отсюда один шаг до ненависти к сестре за то, что Жермена занимает комнату, из окон которой видны окна доктора. И ненависть Адриенны не пассивна. Адриенна борется за комнату, за право вечерних прополок. Прямая и честная, она выкрадывает у отца ключ, чтобы помочь Жермене уехать из дома, она даже решается прикоснуться к отложенным на свое приданое деньгам, хотя это представляется ей святотатством. Сходный путь проделывает героиня Мориака Тереза Декейру, запертая родственниками как умалишенная. Однако принципы характеристики персонажа Мориака несколько иные, чем повествовательная манера Грина. Тереза Декейру выделяется из провинциального стада уже тем, что она «самая умная девушка в Ландах». Ее мечты о свободе включают в себя прежде всего свободу интеллектуального общения и нравственных решений. Мысли Адриенны автором не прояснены, она гораздо меньше Терезы знает, чего она хочет, а то, что знает, знает нутром.
Здесь мы подошли к вопросу о натуралистических тенденциях у Жюльена Грина, ощущаемых Мориаком в гораздо меньшей степени. В самом начале романа Адриенна Мезюра обозревает семейное «кладбище», галерею портретов, развешанных в столовой и занимающих целую стену. Здесь, представлены три основные ветви семейства — Мезюра, Серры и Лекюйе. Буржуазный клан, как это делали некогда, аристократы, тоже хочет увековечить своих предков. Грин характеризует в этих лицах именно родовые признаки: «В полную противоположность Мезюра, которых невозможно было смешать с другой семьей, Серры и Лейкюйе не отличались друг от друга и имели между собой сходство, несмотря на то, что происходили не от одного ствола. Производило впечатление, что они рождались, вырастали и исчеали почти как растения, равно готовые жить и умереть, и глаза их не отражали ничего, кроме расплывчатой, неустойчивой и смиренной души — выражение, подчас встречающееся в толпе».
Из этой толпы Грин выделяет только одно лицо: «Но сильные и слабые — Мезюра, Серры и Лекюйе — все стушевывались перед старой Антуанеттой Мезюра, которая, как королева, господствовала над членами своей суровой семьи вплоть до самых высокомерных ее представителей, и портрет ее, написанный умелой рукой, привлекал исключительное внимание. Ей могло быть около пятидесяти лет, но она была из тех женщин, для которых возраст не имеет значения, и которые созревают быстро, как будто природа вполне удовлетворенная своим творением, решила больше ничего не менять в этом лице, которое останется таким уже на всю жизнь. Седеющие волосы были затянуты назад и позволяли видеть округлую форму небольшого черепа, где идеи, без сомнения, находили мало места, но где первые запавшие туда мысли должны были с трудом уступить место другим. При взгляде на этот массивный лоб, не прорезанный ни единой морщиной, образ стены немедленно возникал в воображении».
Выделение Антуанетты Мезюра нужно для установления ее кровной связи с Адриенной. «Это была настоящая Мезюра..., лицо ее уже предвещало ту особую страсть к господству, расцвет которой являли черты Антуаннеты Мезюра, ее бабки».
Есть несомненный резон в замечании Пикона о том, что персонажи Грина говорят за сотни мертвых, их мертвых: прежде всего они выражают то, что их предки хранили в глубине души из осторожности или благоразумия. Адриенна Мезюра — то звено рода, в котором поток крови промывает и разрушает стену буржуазной семьи. Адриенна выламывается из этой стены, не хочет быть одним из ее молчаливых кирпичиков. Чем устои семьи крепче, тем дольше сдерживают они поток, но тем и страшнее, и разрушительнее его работа. Реалистической трактовке образа Адриенны Мезюра, придан и натуралистический аспект, к социально-бытовой обусловленности героини зримо примешана физиология. Адриенна — характер, но Адриенна же и абстрагируемый автором плод на ветке семейного дерева. Вот она смотрит на свои руки: «Они были белые и округлые, и от них исходил неподдающийся определению аромат свежих плодов, который распространяет вокруг себя молодое, здоровое тело». Иногда наследственное поддается определению, «и Андриенна то с гордостью, то с возмущением заявляет: «Я — Мезюра».
Андриенна Мезюра интересует автора не только как член семьи, но и как индивидуальность, «порывающая с родовой и социальной моралью, хотя этот разрыв ведет к преступлению Адриенны. «Роман делается из греха, — свидетельствует Грин, вводя нас в свою творческую лабораторию, — как стол из дерева. Ничто не выходит из наших рук чистым, но и описание греха может принести пользу... Отбросьте зло. Что останется? Прекрасное, то есть светлое. К нему необходимы тени. Мне могут возразить, что я рискую сбиться с пути. Я принимаю этот риск, каждый должен следовать своему призванию».
Читая эти строки, мы вспоминаем не только гриновских персонажей, но и гринокские описания природы, без труда узнаем характерный авторский почерк.
В романе не акцентируется преступление Адриенны. Она не обдумывала его заранее, как Тереза Декейру. Защищаясь от проявления гнева старика, Адриенна просто столкнула его с крутой лестницы. Смерть Антуана Мезюра легко классифицировать как несчастный случай (так и поступает полицейский комиссар). Однако предварительная фиксация беглой мысли девушки о том, что лестница высока, а пол внизу мраморный, ее нежелание сразу же обратиться к соседям за помощью и, наконец, утреннее запирательство позволяют дать событиям двойную оценку. До сумасшествия Адриенну доводят, однако, не угрызения совести, а муки одиночества и безнадежность, лишь осложненные смутными внутренними укорами.
На упреки в аморальности его романов, Жюльен Грин: отвечает так же традиционно, как традиционны и сами подобные упреки: «Роман не учебник морали, это зеркало, в котором мы видим жизнь...». Попытка самоопределения для героини Грина отражает безысходность, в которую попадает личность, отделившая себя от прежних связей (семейных) и взамен не нашедшая никаких иных.
Натуралистические тенденции придают этой попытки черты предопределенности. Может быть самое прекрасное человеческое чувство, чувство любви, в котором издревле литература видела островок духовной свободы, ведет у Грина не к душевной гармонии, а к дисгармонии, к безумию героини.
Впрочем, это уже беда не одного Грина. В психологическом романе восемнадцатого вежа героям была присуща естественность желаний, которые авторам тоже казались, по выражению Шкловского, «безусловно моральными именно тем, что они естественны». В двадцатом столетии усугубляется, наметившееся еще во время Бальзака, несоответствие между моралью художника и его персонажей. Самоопределение Терезы Декейру и Адриенны Мезюра осуществляется именно в процессе их морального распада. Эту страшную тенденцию Мориак пытается преодолеть страстной проповедью, обращенной к читателю и от себя и сквозь речь своих персонажей, у Жюльена Грина есть только точная фиксация «греха». Такая позиция уже намечает возможность отхода от реалистических основ в сторону метафизики, признание неких вневременных пороков человеческой природы.
После романа «Адриенна Мезюра» Грин продолжает в прежнем ключе роман «Левиафан» (1929), повествующий о человеческих страстях, разламывающих устои провинциальной жизни. Однако и сами страсти приобретают при этом уродливо-гротескные формы. Библейское чудовище «Левиафан» олицетворяет в романе и трясину буржуазного быта, и души героев.
К концу двадцатых годов и писателю, и читателям стало ясно, что нельзя варьировать эту тему до бесконечности, не рискуя впасть в подражание Мориаку, Монтерлану, Жиду и самому себе. Роман «Обжимки» был задуман как выход из этого замкнутого круга.
Замысел романа относится к 1929 году, когда был завершен «Левиафан». С самого начала новое произведение мыслилось как очередной родовой портрет буржуазии: «В этой книге я хотел дать портрет умного, но безвольного буржуа, который спрашивает себя, стоит ли ему спасаться в преддверии революции — может ли он защитить свое «я»? Он сомневается в этом. Он судим своим собственным судом и приговорен к безысходности». Сюжет романа строится Грином в соответствии с заданным тезисом. Богатый рантье Филипп Клери живет в отцовском доме по раз и навсегда заведенному порядку. Он красив, здоров, силен, не лишен способностей, однако все его достоинства остаются втуне. В жизни Клери нет событий. Покупка книги, легкий насморк, вечерняя прогулка составляют содержание его инертного, бесцельного существования. Традиционный треугольник (Филипп, его жена и своячница) замыкает статичный сюжет. Филипп не любит жену, жена давно не замечает присутствия Филиппа, сестра жены, влюбленная старая дева, испытывает к зятю сложные бесплодные чувства. Все трагичное в «Обломках», — справедливо замечает автор романа, — в отсутствии желаний или лучше сказать в отсутствии свершений. Это роман об отсутствии действия». В такой трактовке напрашивается тематическое сопоставление произведения Грина с романом Гончарова «Обломов», но едва возникнув, оно тут же отпадает. И дело не только в том, что это романы разных эпох и стран, что Грин не видит в реальности характеров такой чистоты, как характер Ольги, или такой активности как характер Штольца, но в том, что у Жюльена Грина отсутствует народная точка зрения на безвольных и ленивых господ. Мироощущение Грина переходит на всю структуру романа — на его композицию, принципы сюжетостроения и стиль. Роман строится на замкнутых кругах, имитирующих замкнутость изображаемой жизни («безысходность»). Сюжет, начавшийся было развиваться динамично, вскоре почти останавливается, как пружина, потерявшая завод. Попытка ввести в психологический роман элементы детектива оказываются неудачными. Молодой сильный Филипп Клери, склонившись над парапетом лестницы, наблюдает драматическую сцену, происходящую между пьяным мужчиной и женщиной, которая зовет на помощь. Испугавшись опасности быть сброшенным в воду, Филипп трусливо убегает, мучаясь от ощущения собственной нерешительности, слабости и невольной причастности к возможному преступлению. «В «Обломках», — с горечью констатирует Грин в дневнике, — слишком медленно развивается интрига». Лишь в финале романа герой узнает из газетной заметки, что в Сене выловлен труп неизвестной женщины, пролежавшей под мостом несколько месяцев.
Трудности, вначале представляющиеся автору чисто техническими, имеют на самом деле более глубокие корни. Грин признается, что и в жизни, и в политике он двигается в это время, «как слепой в ночи». И книгу свою он хочет первоначально назвать «Сумерки»: «Чьи сумерки? — Буржуазии безо всякого сомнения. Поразмыслив, я назвал ее «Обломки». Обломок — это и женщина-утопленница в первой главе, обломок — и главный персонаж. Мне кажется, «Обломки» звучит лучше». Закономерно предположить, что на обломках буржуазного мира автор захочет построить нечто новое. Однако в романе не только нет ни малейшего намека на какую-либо позитивную программу автора, но и отрицание не доводится до своего логического либо эмоционального предела. Вялость авторской мысли проникнет в роман и делает его сюжет незавершенным. Хотя Грин и оправдывает эту аморфность стремлением передать течение повседневной и напрекращающейся жизни, сам он чувствует, что ритм романа — «перебои пульса задыхавшегося человека», а персонажи исполнены не правды жизни, а «правды романа», на самом же деле они нарушают законы самой романической структуры, которая не допускает искажений. Тот факт, что роман рисует характеры, объединяющие «дурное» и «хорошее», диктуется его формой, несущей в себе самой эту содержательность, эту эстетическую стихию. Это и дает основание определять роман как своего рода «средний жанр эпоса». Между тем, эпическое начало в романе «Обломки» как раз отсутствует.
Провал романа Грина совпадает с увеличением фашистской опасности в Европе и во Франции, с поляризацией демократических и реакционных сил и с необходимостью сделать политический выбор. Ж. Грин понимает эту потребность времени, что отлично видно из опубликованного им послед войны дневника.
Он точно фиксирует даты. Его тревожат события в Германии. Грин представляет себе масштабы фашистской угрозы. Но если в эти же годы Роже Мартен дю Гар делает свою семейную хронику о семье Тибо политическим романом, чтобы напомнить об уроке истории, то Ж. Грин предпочитает спрятать голову под крыло: «я ненавижу политику, записывает он в своем дневнике. Она угрожает индивидуальной свободе, она угрожает счастью, она мешает мне творить. Ото всего моего сердца, я мечтаю о чистых литературе и искусстве... Весь мир помешался на политике. Кроме меня, который не хочет о ней слышать».
В реальной жизни политика вторгается и в семейные отношения, хотя избранный Грином в 20-е и первую половину 30-х годов кадр семейного романа диктует его определенную ограниченность. Писатели XVIII века еще отождествляли процессы, происходящие в буржуазной семье и в обществе в целом. В двадцатом столетии с его классовыми противоречиями, развитым пролетарским движением, войнами и революциями роль буржуазной семьи многократно уменьшилась. Отвлеченные нравственные проблемы постоянно упираются в ней в проблемы социальные. Это противоречие ощущает и Франсуа Мориак, которому Грин сознательно пытается следовать. В статье «Чем я ему обязан» Жюльен Грин свидетельствует: Франсуа Мориак сделал из меня своего последователя... и не религиозная тема меня так потрясла: моя концепция католической религии... существенно отличается от мориаковской, но читая «Клубок змей» (я смею думать, что это его самая лучшая книга) я впервые увидел возможности воспроизведения современного мира поэтически-реально, что меня так восхищало у драматургов-елизаветинцев и в английском семнадцатом веке.
После «Клубка змей» я отвернулся от всего, что было мной написано до этого, и хотя я не научился писать так, как я хотел бы писать, с помощью Франсуа Мориака я обнаружил по крайней мере цель, стремление к которой меня поддерживает в литературном творчестве».
Очевидно, что Грин делает акцент на форме мориаковского романа, на стиле автора «Дороги в никуда» и «Клубка змей», опуская вопросы содержательности их структуры. Грин даже склонен переориентировку в своем творчестве объяснить посторонним влиянием. Однако дело обстоит гораздо сложнее. Именно вследствие самого характера своего стиля, тяготеющего к прямой оценочности персонажей и событий, Грин должен был выйти из семейной темы к постановке проблемы индивидуальности в коллективе более широком, чем семья (как это произошло в «Семье Тибо» Роже Мартин дю Гара), либо замкнуться в неизбежном повторении идей, ситуаций, избранных человеческих типов. Таким последним перепутьем, на котором Ж. Грин еще колеблется, и стал его роман «Обломки» (1932).
После этого неудачного произведения жанр семейной хроники и реалистического психологического романа на семейную тему оказывается исчерпанным для Жюльена Грина, сколь бы он ни декларировал верность мориаковской форме. Правда, Грин не порывает окончательно с идеей передачи наследственных признаков рода, он вкрапливает в повествование умелое изображение социальной среды, он остается мастером бытописания, он даже подмалевывает кое-где реалистический фон, но сквозь этот реалистический пейзаж или портрет то и дело проглядывает ирреальность. Таковы его романы «Ясновидящий» (
[…]
Увлечение Грина буддизмом придает его субъективизму специфическую окраску. Грин известен сегодня как последователь идеалистических философских течений — индуизма и метемпсихоза. И если Раже Мартен дю Гар делает девизом своего героя термин «устоять», то Жюльен Грин проблему всякой жизни видит в том, чтобы «ускользнуть». Подобная позиция закономерно рождает свою систему образных средств. Жюльен Грин создает стиль передающий беспокойство, в которое погружены его персонажи, вводит в роман элементы мистики, сложные символы... Таким символом предстает в романах Грина «Лестница»» олицетворяющая смутную угрозу и беспокойство.
Анализ романов Жюльена Грина дает представление не только об эволюции метода писатели, но о непреложности влияния мировоззрения художника на принятую им систему художественных средств, о взаимовлиянии метода и мировоззрения.
Л-ра: Метод и мастерство. Вып. II. Зарубежная литература. – Вологда, 1970. – С. 167-184.
Произведения
Критика