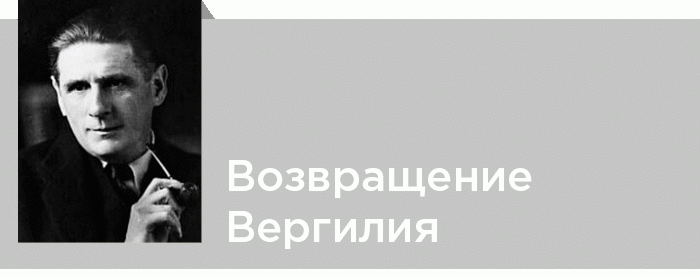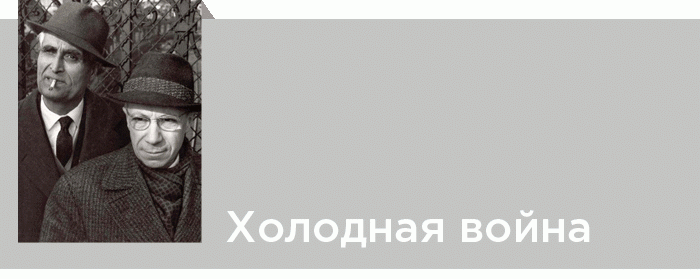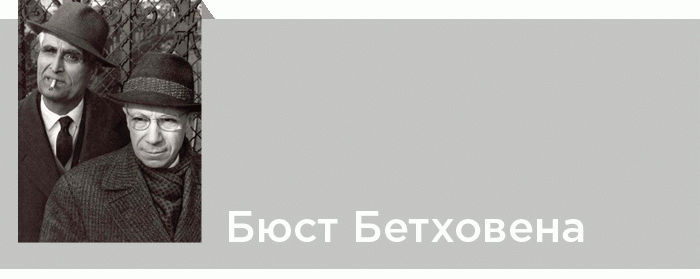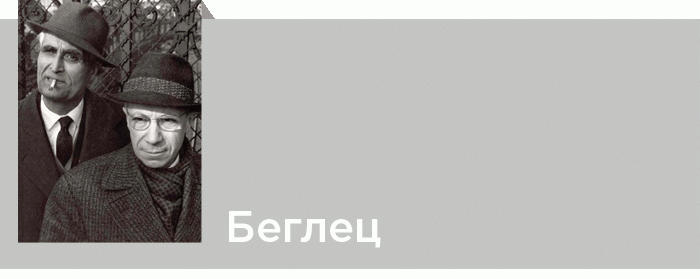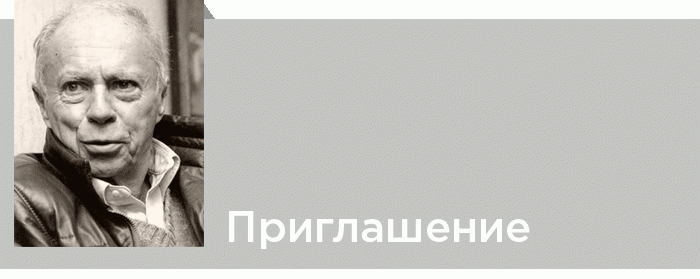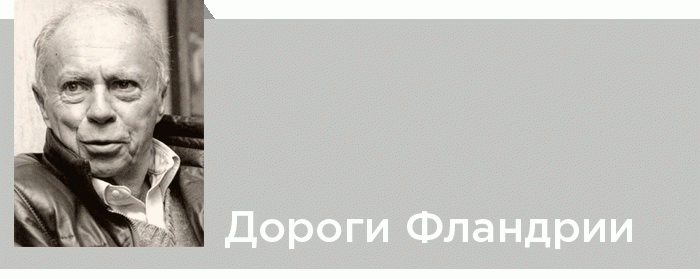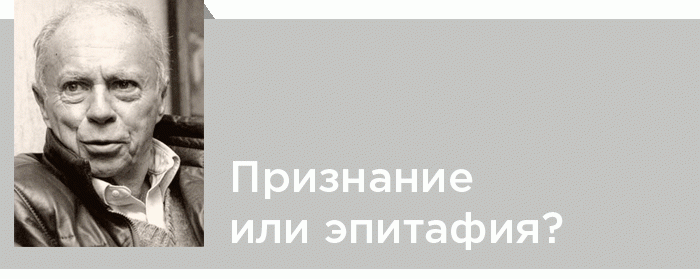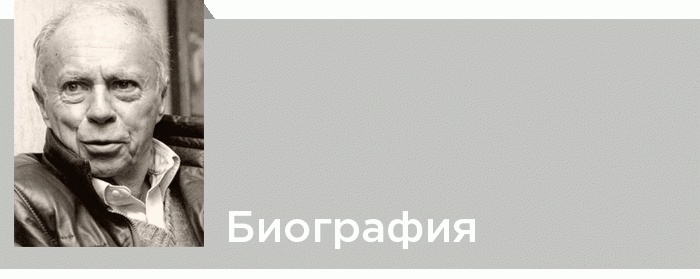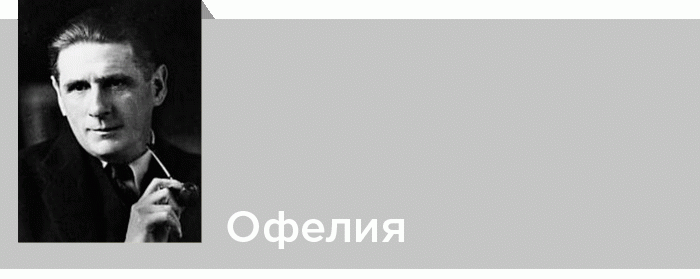Клод Симон: встреча на пороге текста
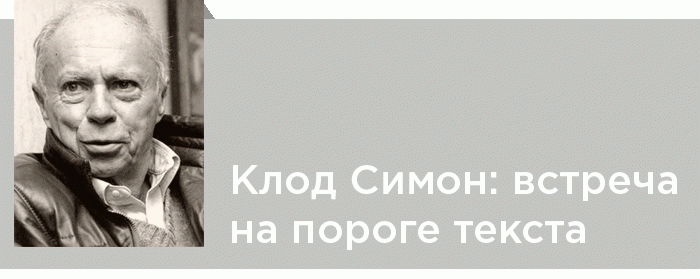
А. Вишняков
[…]
В начале 60-х годов, когда «Ассамблея еретиков» (так иронически называли Натали Саррот и Ален Роб-Грийе то, что критики окрестили Новым Романом) билась за место под солнцем, получила известность фотография, запечатлевшая мятежных авторов возле их цитадели — парижского издательства «Минюи»: стоящие у стены люди (среди которых издатель Жером Линдон, Роб-Грийе, Саррот, Мишель Бютор, Сэмюэль Беккет), решительно глядящие в объектив. Менее известен неканонический, но очень характерный снимок, сделанный тогда же: та же мизансцена, но все фигуранты умудряются смотреть в совершенно противоположные стороны. Сбоку, особняком, стоит невысокий мужчина. Это — Клод Симон.
Парадокс — едва ли не ключевое слово к судьбе и творчеству родившегося в 1913 году Симона. Старейший из ныне живущих писателей Франции, Нобелевский лауреат (1985) — единственный для французов за последние 30 с лишним лет — не пользуется особой любовью соотечественников. Почти единодушной реакцией на его Нобелевскую премию во Франции было раздраженное недоумение. Сам писатель не был этим удивлен. Он всегда держался на особицу. Экстаз слияния, единения ему чужд, он всегда от всего дистанцируется — от родных, приятелей детства, юношеских политических симпатий, анархистов в Испании, от «товарищей по оружию» во время войны — как рядовых, так и офицеров-аристократов, — от подпольщиков-сопротивленцев, от собратьев-новороманистов, интеллектуалов и т. д.; он — всему причастен, но ничему не свой. Пожалуй, его воинское звание brigadier (и не офицер, и не солдат) сопровождает писателя и за пределами дорог Фландрии.
Не менее сложна и извилиста его художественная эволюция, хотя чем больше вчитываешься в его произведения, тем сильнее убеждаешься в правоте известного утверждения, что писатель всю жизнь пишет одну и ту же книгу. Обычно эту эволюцию представляют примерно так: в 50-е годы — традиционный романист, выспренно и вымученно рассуждающий об истории, смерти, времени, поклонник Фолкнера и Достоевского, пытающийся растить их семена на французской послевоенной почве, в 60-е — новатор, ищущий правды памяти и восприятия, в 70-е — решительный противник реализма, автор самопорождающих (ся) текстов — любимого объекта исследований автора «теории генераторов» Жана Рикарду и его последователей. В 80-е и 90-е годы начинается, как полагают, постепенный, — после экспериментов 70-х годов — возврат к доформалистской манере, ее дальнейшее, иногда ироническое, развитие.
Не буду спорить с этой — не более и не менее, нежели любые другие, — все упрощающей схемой, тем более что и сам я (ограниченный рамками статьи и почти полным отсутствием не только статей и переводов, но и упоминаний Симона на русском языке) решил прибегнуть для обобщающего, во многом вводного для русскоязычного читателя, разговора о Симоне к самоограничивающей схематизации: важнейшие (и даже важнейшие — не все!) особенности поэтики Симона и его человеческой и художественной биографии я попробую показать через анализ главной из рамочных (или как их назвал Ж. Женетт — пороговых) структур текста: названий всех его книг.
При взгляде уже на первые произведения бросается в глаза весьма отдаленное, подчеркнуто парадоксальное, алогичное отношение, которое имеют их заголовки к содержанию. В случае с «Шулером» (Le Tricheur, 1945) эта парадоксальность, как бы объясняясь эпиграфом («Помогать случаю: вести шулерскую игру в карты», то есть герой книги — не карточный шулер, а игрок à la Достоевский, пытающийся переиграть судьбу), на самом деле лишь углубляется, ибо существительное «шулер» и по-русски, и по-французски однозначно, как однозначно неотвратимо и поражение героя в этой игре. Буквалистское понимание (и перевод) названий симоновских произведений становится нередко для автора поводом к началу парадоксальной и особенно в ранних книгах — провокационной игры с читательскими ожиданиями. Так и заглавие этого первого его романа было бы, возможно, правильнее по прочтении понять/перевести как «Играющий в прятки с судьбой».
Метафорическое название сборника лирических автобиографических (про семью, войну, поездку в СССР и любовную историю с юной комсомолкой) эссе «Натянутый канат» (
Не менее двусмысленно и парадоксально название третьего романа Симона, позаимствованное у известного балета на музыку Стравинского: «Весна священная» (Le Sacre du Printemps, 1954). Связь названия с основным корпусом книги (действие которой, как специально — в первый и последний раз у Симона — оговаривается, происходит в декабре) становится более понятной, если вспомнить, что традиционный перевод с французского названия этого дягилевского балета не совсем точен. В оригинале, прославленном «Русскими сезонами», он называется «Весеннее увенчание (освящение, коронация)» и посвящен языческим мистериям. Именно эта — мистерийная, инициальная, эзотерическая — нота, почти не ощущаемая в суховатой, в духе Камю, истории не сложившейся первой юношеской любви, создает некий фон двум основным сюжетным линиям книги.
Первая книга Симона, которой посвящают обычно хотя бы несколько строк, — роман «Ветер» (Le Vènt: Tentative de restitution d'un retable baroque, 1957), имеющий в первый и последний для Симона раз подзаголовок (именно ради него, как правило, и упоминают этот роман): «Попытка воссоздания барочного ретабло». Никогда больше названия симоновских книг не будут столь откровенно аллегоричны и в то же время просты, как в эпоху романов-погодков: «Ветра» и «Травы» (L’Herbe, 1958). Нередко можно встретить утверждение, что наиболее емкий символ симоновской поэтики — акация. Но «ветер» как эмблема слепой, никогда не стихающей, иррациональной силы и «трава» как воплощение ризомоподобного, медленного и столь же неумолимого прорастания ничуть не хуже акации — в самом деле одного из лейтмотивов симоновской поэтики.
Свой самый известный роман — «Дороги Фландрии» (
[…]
Ирреальность, выпадение из нормы, всегда интересовавшие Симона, нашли оригинальное воплощение во фламандских топонимах и на штабной карте. «Дороги Фландрии» эксплицитно — что бывает нечасто у этого скрытного автора — предлагают еще один ключ к восприятию художественного метода Симона: текст как карта, синтезирующая реальность и различные варианты ее воспроизведения.
«Отель» (Le Palace, 1962) стал первым романом Симона, название которого недвусмысленно на первый взгляд соответствует его содержанию. Осью всего его разворачивания стал отель в Барселоне, которую бывший студент — главный герой и повествователь — посещает первый раз в 1936 году, во время анархистского восстания, а второй — много лет спустя, уже при франкистском режиме. Первый раз испанский опыт (второй по важности — после мая 1940 года — период жизни Симона) вошел в его творчество в «Натянутом канате», затем — в несколько беллетризованной форме в «Весне священной». Позже, в «Истории» и в «Георгиках», этот пласт его биографии стал одной из важнейших тем.
Но вернемся к однозначности, чьим последовательным противником был Симон всю жизнь. Уже говорилось об обманчивой точности названия предыдущего романа. Подобная ироническая игра с эфемерной единственностью сиюминутного значения слов, важнейшим свойством которых, наряду с неограниченными комбинаторными ресурсами, по собственному признанию Симона, для него всегда была их полисемия, будет проявляться и в дальнейшем, и не только в выборе названия для книги.
Итак, роман называется «Отель». Но парадокс заключается в том, что в момент первого посещения бывшим студентом — это уже не отель, а революционный штаб, где шелковые обои с чувственными пастушками и галантными кавалерами завешаны революционными декретами, а на недоразломанных канапе сидят мрачные, заросшие черной щетиной анархисты. В момент второго посещения, когда у героя создается впечатление, что горожане постарались изгнать, как кошмар, из памяти все связанное с тем временем, перед ним процветающий банк, на котором не найти и следа огромных портретов Троцкого и Маркса, висевших когда-то на его фасаде. Таким образом, отель, в реальности текста не существовавший, — это некое фикционально-символическое единство, порождающее текст и порождаемое им. Как было уже не раз до этого, название у Симона уклоняется от выполнения прямой номинативной функции, становясь своеобразной mise en abyme (зеркальной конструкцией) всего текста, метафорически переосмысленным генератором письма, черпающим энергию для развития в парадоксальности взаимоотношений с основным корпусом текста.
Апогеем иронически остраненного двусмысленного названия стал заголовок следующего романа Симона — «История» (Histoire, 1967). Замечательную характеристику названия этого романа дала В. Госель: «...его дистанцирование от привычных для нас моделей повествования делает несколько удивительным приложенное к нему название “История” в смысле рассказа о вымышленных событиях <...> Однако парадоксальность названия происходит в первую очередь из-за его полисемии <...> поскольку “история” может обозначать как целостность произошедших в действительности фактов, могущих быть предметом повествования, так и повествование о вымышленных событиях. Кроме того, разве не повествует эта история и об Истории?»
Изящная деталь парадоксальной неоднозначности этого названия — тот шрифт, которым набрано название романа, — ИСТОРИЯ, делающий невозможной окончательную и однозначную идентификацию его смысла: и не История (с большой буквы — предмет школьных учебников), и не частная история конкретного человека, приехавшего в город своего детства для урегулирования наследственных дел после смерти родственника, и не история в значении вымысел (что-то вроде наших россказней), и не история внутреннего путешествия повествователя по сокровенным глубинам его души, памяти, прошлого его рода. Сила этого романа в том, что вышеперечисленные вопрошания — не риторические фигуры речи, а различные грани этого удивительно мощного и цельного романа, не уступающего, на мой взгляд, «Дорогам Фландрии» и «Георгикам» по значимости и о котором сам Симон с присущей ему спокойной искренностью, часто озадачивающей его газетных или университетских собеседников, однажды сказал, что ему очень хотелось писать, но он не знал о чем. И вот это большое дыхание (вспомним мечты Толстого о «романе большого дыхания»), виртуозное балансирование на грани между Хаосом и Порядком, — составляет очарование «Истории».
С «Фарсальской битвы» (
Не случайно вторая, основная, часть этого триптиха называется «Лексика». Параллелью неустанным — и безуспешным — поискам повествователем места битвы войск Цезаря и Помпея, а также пассажа о ревности в эпопее Пруста разворачивается история поиска им же начальной фразы для собственной книги. В первый и последний раз симоновский лейтмотив странствий по миру слов стал центром книги. Радикальный формализм этой «битвы за фразу» позволяет увидеть в самом обнаженном виде некоторые особенности метода Симона и уже поэтому заслуживает пристального внимания.
Название следующего романа — «Тела-проводники» (Les corps conducteurs, 1971) — возобновляет традицию ранних романов с их отсутствием видимой внешней связи с основным текстом книги. Название из области физики не имеет ничего общего с тем, в чем предстоит разбираться читателю. Но, как часто бывает у Симона, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Возможно, «Тела-проводники» — это книга, в которой наиболее ярко проявилась одна из важнейших особенностей поэтики Симона: для него не существует реальности и вымысла как таковых. В его собственной математике (он иногда напоминает в интервью, что он самоучка и его единственный диплом — это математический bac — экзамен на степень бакалавра, сданный в юности) безраздельно царит формула (выведенная, если не ошибаюсь, Р. Сарконаком): réel=fictif=textuel.
Попытки, особенно частые после выхода «Дорог Фландрии», представить его как писателя памяти в фолкнеровском духе, как и рикардистские текстуальные схемы и диаграммы, выносящие за скобки два первых элемента этой триады, содержат лишь часть истины. Именно на текстуальном поле в поэтике Симона решается все. Он часто повторяет, что книга рождается в момент написания и только эта реальность — не описанная, не придуманная, пусть даже и таким умным формалистом, как Рикарду, а пишущаяся, сама себя по собственным законам созидающая — интересует его.
Симону близко бодлеровское понятие «соответствий», о чем он однажды сказал. Но textuel Симона — это не просто система соответствий, а такая целокупность, которая находится в постоянном процессе комбинаторики. Именно динамическую функцию подчеркивает (наряду с материальностью, телесностью, играющей большую роль во всем Новом Романе и к которой отсылает первое слово заглавия) второе слово заголовка — проводники, проводящие. «Тела-проводники» — это не «роман о больном человеке за границей» (Симона очень возмутила подобная трактовка матрицы «Тел» — «Слепого Ориона» (Orion aveugle, 1970), и он ослабил сюжетную когерентность окончательного текста «Тел-проводников», выведя на первый план комбинаторную машинерию письма), а динамический комплекс «взаимодействий и отсылок, в котором все иллюстрации (то есть описания реальности. — А. В.) будут всплывать на поверхность текста каждая в свое время. Образы, по определению неподвижные, оживут, в то время как “реальные” сцены замедлятся почти до полной статичности <...> в этом непрерывном présent, представляющем их как сюиту невычлененных образов». Именно комбинаторные возможности слов, образов и письма стали основой этой книги, в которой очень выпукло проявились аналитизм и синтетизм симоновской поэтики.
Роман «Триптих» (Triptyque, 1973) своим названием подчеркивает не только одну из ярчайших композиционных особенностей поэтики Симона - его (ее) тотальную (от цепочек эпитетов до строения романа) склонность к троичным конструкциям, но и всегдашнюю страсть писателя к живописи. Роман живописен и музыкален в полном смысле этих слов: звуки, слова, синтагмы, образы соседние и удаленные — вступают в напряженные, контрапунктические (не случайно роман сравнивали с фугой!) отношения — то сливаясь, то сталкиваясь, то пересекаясь, то взаимно накладываясь. Ни в одном другом романе Симона не проявляется столь мощно еще одна черта его поэтики — льющаяся, синкретическая пластичность его фразы: главные темы (или тематические генераторы, если угодно) прорастают сквозь створки этого триптиха и синтаксические рамки: предложение начинается описанием одной темы, затем следует некий «переходный модуль» (слово, образ, синтаксическая конструкция), и фраза заканчивается началом описания уже другой, никак в «объективной реальности» не связанной с первой. Кстати, и этих тем-генераторов, вопреки читательским ожиданиям, не три, а — четыре!
Традиционный перевод следующего романа — «Предметный урок» (Leçon de choses, 1975) — хотя и верен буквально, но не соответствует содержанию книги. Один из ее героев (аватар вечного alter ego Симона — Жорж? Бывший студент? Он? Я? — из его предыдущих книг), ожидая атаки немцев, листает подобранный на полу школьный учебник о том, как и из чего (важно это сочетание называния предмета, его функции и процесса, осуществляемого с его помощью) строится дом. Отказываясь в моем переводе — «Урок ручного труда» — от номинативной функции обозначения материалов и оборудования, и в самом деле присутствующей, но в процессе вчитывания ослабевающей, я стараюсь передать активную, ремесленническую, созидательную, если угодно, функцию, составляющую главное содержание Книги, весьма далекую от пресловутого «шозизма». В таком случае становится ощутима глубокая метафора этого названия, запускающая весь механизм этой небольшой, но очень «плотно» написанной книги, прекрасно показанная С. Сиксом: «Текст представляет собой метафору себя самого: не стоит ли под объявленной темой урока “Как строится дом” прочесть, на манер палимпсеста, другой урок: “Как изготавливается роман”? Принцип собери картинку, паззла, который надо собрать, нашел здесь свое высшее выражение».
Удивительно, но, несмотря на весь комбинаторный аналитизм, сделанность любого симоновского текста, «Урок» — единственное произведение Симона, использующее сравнение строительства текста со строительством дома. Зато неудивителен неутешительный, как всегда, итог этого сопоставления: просто и последовательно этот процесс идет лишь в школьном учебнике, а в реальности текста перед нами предстают либо руины, либо недопеределанные постройки, либо здания, обреченные на неминуемое разрушение в ходе боевых действий. Из этих руин вырастает единственное завершенное (и совершенное, как фуги любимых Симоном Баха и Бетховена) строение — текст романа, подтверждая лишний раз убежденность своего автора, что из всех человеческих деяний наименее бессмысленное — творчество.
Самый большой роман Симона носит название «Георгики» СLes Géorgiques, 1981). Напрашивается как минимум три его объяснения. Во-первых, как уже было с «Гулливером», «Весной священной», это прямая интертекстуальная отсылка к одноименной лироэпической поэме Вергилия, легче объяснимая и интерпретируемая, но несущая в себе явно ощутимую примесь иронии: в отличие от пропитанного оптимизмом и жизнелюбием произведения Вергилия с его точными правилами ведения сельхозработ, перед нами безуспешные попытки героя, пытающегося выполнить аграрные заповеди Вергилия, презрев более общую: «Счастливы те <...> кто всяческий страх и Рок, непреклонный к моленьям, // Смело повергли к ногам и жадного шум Ахеронта. // Но осчастливлен и тот, кому сельские боги знакомы <...> // Ни неимущих жалеть, ни завидовать счастью имущих // 3десь он не будет <...> Тот веслом шевелит ненадежное море, а этот // Меч обнажает в бою иль к царям проникает в чертоги <...> А земледелец вспахал кривым свою землю оралом, — // Вот и работы на год!..»
Во-вторых, во французском языке слово géorgiques означает, как правило, произведения, связанные с описанием работ землепашца, и в этом романе Симон, впервые после «Травы» (герой которой — Жорж — отказывается от умственного труда, чтобы вернуться к земле, с которой когда-то дед — неграмотный крестьянин — вытолкнул его отца, ставшего университетским профессором), обращается к очень важной для него, разводящего в Сальсе на юге Франции виноград, теме «земля и люди» (используем здесь советский штамп).
В-третьих, перед нами почти нескрытая аллюзия на своеобразнейшее порождение поэтики Симона — лирического героя многих его книг Жоржа (Georges — Géorgiques), ставшего, наряду с его «парой» дядей Шарлем, проводником многих важных положений поэтики Симона. В «Георгиках» Жорж появляется в последний раз, и можно сказать, что этот роман — прощание и с ним, и с тем миром, создание которого писатель начал в 1958 году. И с этой точки зрения «Георгики», без сомнения, — увенчание цикла, создававшегося без малого четверть века и в который помимо них вошли «Трава», «Дороги Фландрии», «История», «Фарсальская битва», «Триптих», «Урок ручного труда» и через испанскую тему — «Весна священная» и «Отель». «Георгики» — компендиум не только тематических, проблемных и сюжетных переплетений практически всего полувекового труда Симона. Это и высшая, синтезирующая точка всех его манер, от ранних (в духе Бальзака, Сартра, Достоевского или Фолкнера) до самых крайних его формалистских экспериментов. Думается, что именно этот роман четырьмя годами позже оказал решающее влияние на заключение Нобелевского комитета.
Последние четыре книги Симона — «Приглашение» (L’Invitation, 1987), «Акация» (L’Acacia, 1989), «Ботанический сад» (Le Jardin des plantes, 1997), «Трамвай» (Le Tramway, 2001) — образуют своего рода автобиографическую тетралогию с мемуарными, публицистическими (что удивительно для Симона — врага любой позы и декламации, просто перед нами — опять! — прием, вывернутый наизнанку, что особенно хорошо видно в сцене неподписания героем воззвания к человечеству — как раз образца нормальной публицистики) и даже памфлетными (особенно в «Приглашении» — возможно, под влиянием «Возвращения из СССР» Жида, параллели с которым — и Симон это понимал — напрашиваются сами собой) элементами.
[…]
Повесть о сиротском детстве, смерти матери, собственном старении «Трамвай» впервые ввела в круг симоновских заголовков конкретный предмет, что можно считать еще одним парадоксом писателя, ибо сами его тексты, наряду с утонченной психологичностью и эстетизмом, всегда вбирают в свою сердцевину вещный, осязаемый аспект действительности. Предметы у Симона, как у горячо им чтимых Сезанна и Пикассо, вопреки — или даже благодаря — своей неумолимо заурядной реальности, отбрасывают метафизическую тень, как это получается с трамваем, возившим героя в детстве из религиозного коллежа в родовое гнездо.
«Ботаническая» перекличка названий двух других книг вряд ли случайна. Они — как две створки диптиха — отражаются одна в другой не для того, чтобы повторить, а для того, чтобы парадоксально развить, углубить идеи друг друга. Акация, как уже говорилось, имела огромное значение во всей поэтике Симона как ее неисчерпаемая метафора, что парадоксально подтвердил и одноименный роман, завершающийся буквально тем же описанием акации, которым начинается «История» 1967 года, лишний раз напомнив, что в письме нет ни прошлого, ни будущего, а лишь бесконечно разворачивающееся, самодополняющее, самоопровергающее, вечное и вневременное настоящее.
А «Ботанический сад» впервые ввел в круг проблематики Симона образ сада как того переходного модуля, в котором сталкиваются, находя (или нет) гармоническое сочетание, два фундаментальных понятия философии, эстетики и этики: Натура и Культура, хаос мироздания и организующее усилие человеческой воли и духа. Примером такого гармоничного, по-классицистски ясного и по-симоновски мощного сочетания и стал «Ботанический сад», видный из окон квартиры Симона на площади Монж.
[…]
Драма Нового Романа в нашей стране состоит в том, что он продолжает оставаться — в силу почти полной непереведенности — terra incognita для любителей литературы, не знающих французского языка. Положение усугубляется нередкими несуразностями в оценке Нового Романа, продолжающими бытовать в отечественной науке. Одно из таких суеверий — мнение о неудобочитаемости многих Новых Романов, и в частности — книг Симона.
В этой связи хочется дать слово двум читателям Симона; первый — известный швейцарский ученый, специалист не только по Симону, но и по не любимому им Бальзаку — Люсьен Дэлленбак: «...да о симоновском ли тексте говорили провозглашавшие его рассудочным, нудным, трудным, чтобы не сказать проще — нечитабельным? Я напрасно искал подобный текст, все, что мне открывалось, оказывалось захватывающим, конкретным, сущностным, физически ощутимым, насколько это доступно языку. Это было <...> нечто другое, отличное от того, чем оно, по общему мнению, было, значительно более богатое <...> нежели представлялось его первым комментаторам, — феноменологическим, формалистическим, структуралистским или продуктивистским».
Второй читатель — это я сам, в то время обычный студент, не читавший ни Джойса, ни Фолкнера, ни Пруста, перед которым внезапно открылся неведомый мир, живущий по каким-то своим, непривычным, законам, таинственный и влекущий. Начав читать «Дом свиданий», «Планетарий», «Дороги Фландрии» и «Историю» как материал для курсовой, я немедленно попал под их гипнотическую власть, несмотря на свое полное невежество в вопросах модернизма, а возможно, и благодаря ему (вспомним замечание Роб-Грийе о нежелательности «литературной образованности»). В Новых Романах, особенно 50-х и начала 60-х годов, бесспорно, есть нечто, позволявшее обычному читателю воспринять их достаточно адекватно замыслу автора.
Здесь стоит попытаться понять, «почему Новый Роман изучается где угодно — в Америке, Японии, только не во Франции». В самом деле, почему поэтика Нового Романа, и Симона в частности, оказывает — во всяком случае, иногда складывается такое впечатление — на иностранных читателей большее воздействие, чем на носителей языка. Опять обращусь к собственным впечатлениям. Известна история с «неприсуждением» «Дорогам Фландрии» Гонкуровской премии, когда жюри отдавало себе отчет в высоких достоинствах книги, но не смогло побороть раздражения в связи с «издевательством над пунктуацией». Я же даже не заметил никаких аномалий, покоренный мощью этого потока. Далее, можно вспомнить, что для иностранца атом французской речи — слово, глазами воспринимаемое гораздо лучше, чем в потоке речи. В письме Симона слово — тоже атом, оказавшийся, как и его прообраз, расщепляемым, и именно на уровне слова (хотя не на нем одном) разворачиваются многие эффектные приемы симоновского письма: смакование звучания и написания, каламбуры и переливы парономазии, освежеванье (нередко — через освежеванье) затертых смыслов и многое другое.
Желая оттолкнуться от традиционного способа написания романа, новороманисты смогли взглянуть на родной язык как на иностранный, со стороны, свежим взглядом. Именно эта свежесть, ощущение влекущей новизны языка, накладывающейся на новизну формы, привлекает не-французов и к барочному разрастанию Симона, и к кристаллическим структурам Роб-Грийе, и к психоаналитическим этюдам Саррот, и к по-чеховски лапидарным композициям Дюрас, и к аллегорическому реализму Бютора, и к сказовому кружению-хороводу Пенже.
В этой связи хочется привести пространный фрагмент, посвященный Новому Роману, из интервью Симона 1977 года: «Мы все имеем <...> некоторое количество более или, менее отчетливо сформулированных идей, впрочем, более похожих на отрицание, отказ. Мы были едины в мысли (или ощущении, если угодно): “Это (имеется в виду определенный тип романа. — А. В.) просто больше невозможно, невыносимо...” Исходя из этого, естественно, что каждый из нас пошел своим собственным путем (и это прекрасно, поскольку в противном случае все мы начали бы писать один и тот же роман, что, согласитесь, было бы довольно скучно). Например, Роб-Грийе хочет безжалостно (я бы сказал — с каким-то суеверным страхом) отказаться от метафоры, в то время как все мое творчество основано на метафорической природе языка. Удивляюсь, что никакое исследование не занялось подобными явлениями. Жан Рикарду великолепно и основательно показал, в чем традиционный роман стал чем-то немыслимым, он осуществил теоретическое осмысление проблемы <...> Но почему бы не показать, что этот добровольный отказ от изношенной романной формы (если вспомнить термин Тынянова) давал выход не на один, а на бесконечное множество путей? <...> Например, совсем нет описаний у Н. Саррот, но зато у нее много больших диалогов, изобилующих очень тонкими психологическими наблюдениями. Бютору удалось превратить путевой очерк в грандиозную симфонию <...> Творчество Пенже — сама чувствительность полутонов и меланхолического, присущего лишь ему, юмора <...> Разве все это, весь этот огромный веер — не противоположность представляющейся некоторым догматичной окоченелости?»
[…]
Л-ра: Вопросы литературы. – 2003. – № 6. – С. 202-228.
Произведения
Критика