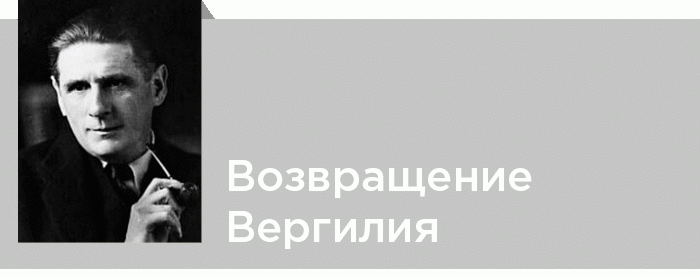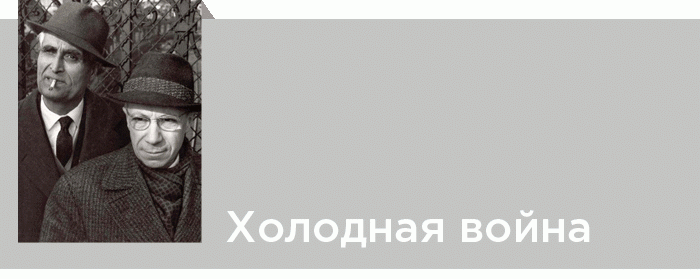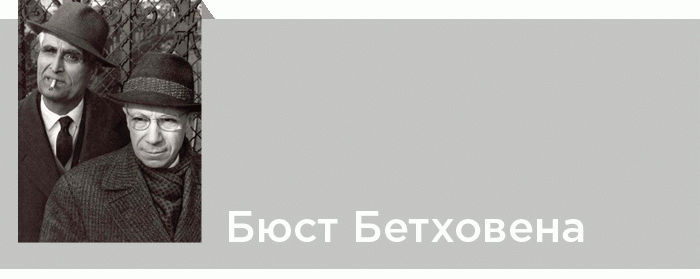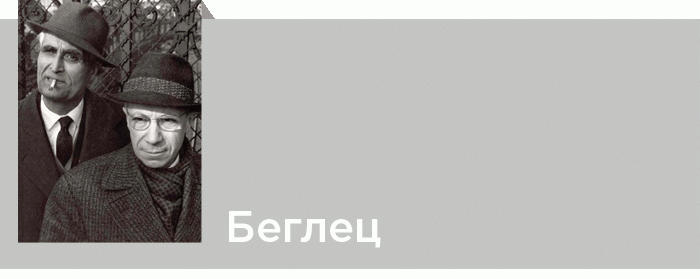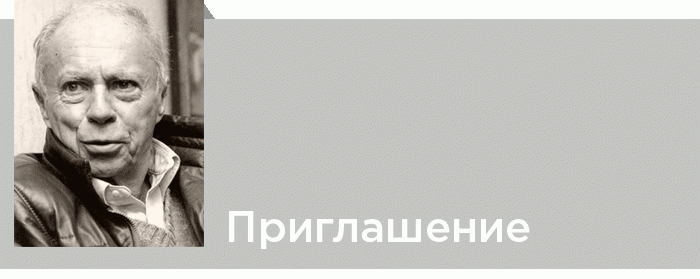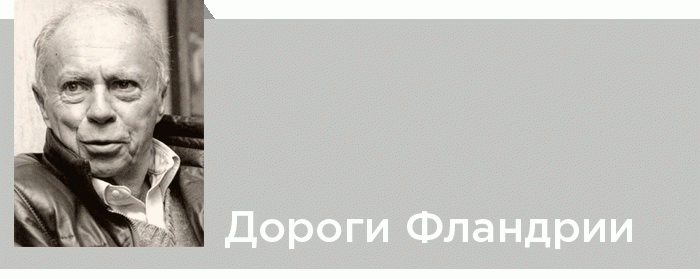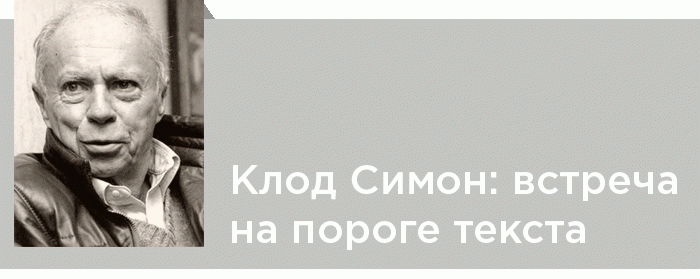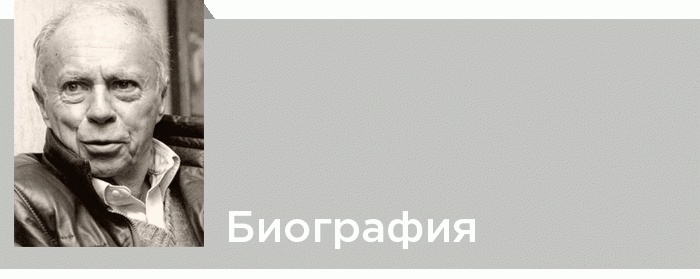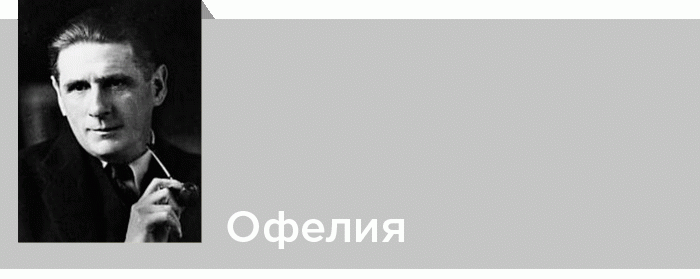Признание или эпитафия? По поводу одной международной премии
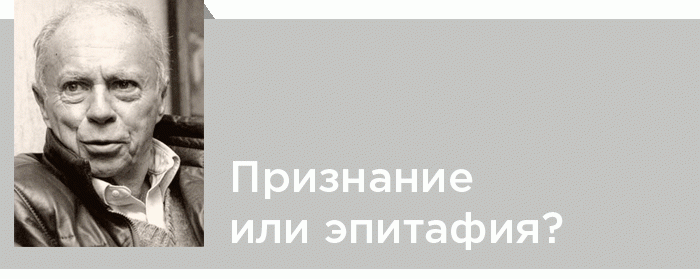
А. Строев
Присуждение Нобелевской премии по литературе 1985 года французскому прозаику Клоду Симону явилось событием неординарным и неоднозначным. Состоялось признание не только его творчества, но целого художественного и идеологического явления — «нового романа», признание почти через пятьдесят лет: первый образец жанра — «Тропизмы» Натали Саррот — вышел еще в 1939 году. Громко заявив о себе в 1950-е годы, «новый роман» претендовал на роль литературного авангарда, сейчас он уже воспринимается скорее как факт истории литературы.
Чем же можно объяснить выбор Шведской академии? Ведь, как сказал Клод Симон в своей нобелевской речи 9 декабря 1985 года, и другие могли быть удостоены этой чести.
На этот раз спор за премию велся в первую очередь между писателями Франции (причем большинство кандидатур выставлялось не в первый раз) — Клодом Симоном, Натали Саррот, Маргерит Юрсенар, Рене Шаром, Мишелем Турнье (за него лично «болел» Франсуа Миттеран) — и Африки — членом Французской академии сенегальцем Леопольдом Седаром Сенгором, нигерийцем Боле Шойинкой, Надин Гордимер (Южная Африка). Если одним нужно было заставить 18 академиков забыть о том, как 21 год назад Жан-Поль Сартр отказался от Нобелевской премии еще до ее официального присуждения, то другим едва ли не впервые представились реальные шансы добиться успеха.
По-прежнему среди претендентов называли аргентинца Хорхе Луиса Борхеса, по мнению многих, лишь по недоразумению так и не ставшего лауреатом. Обсуждались также кандидатуры Гюнтера Грасса (ФРГ), мексиканского поэта и эссеиста Октавио Паса, Чингиза Айтматова, чьи шансы, судя по французской прессе, котировались, весьма высоко.
Победа Клода Симона позволила Франции установить своеобразный рекорд по числу Нобелевских премий: 43 лауреата, из них 12 — по литературе (1901 — первый год присуждения премий — Сюлли Прюдом, 1904 — Фредерик Мистраль, 1915 — Ромен Роллан, 1921 — Анатоль Франс, 1927 — Анри Бергсон, 1937 — Роже Мартен дю Гар, 1947 — Андре Жид, 1952 — Франсуа Мориак, 1957 — Альбер Камю, 1960 — Сен-Жон Перс, 1964 — Жан-Поль Сартр).
Его искусство состоит в умении раскрыть «...то, что живет в нас, хотим мы этого или нет, понимаем мы это или нет, верим мы в эго или нет».
Эти общие слова мало что говорят о творческой индивидуальности Клода Симона — действительно крупного и значительного писателя, они вполне могли бы подойти и для характеристики большинства других претендентов. Представляя писателя перед вручением ему Нобелевской премии, непременный секретарь академии Ларе Юлленстен отметил, что Комитет руководствовался чисто литературными, а отнюдь не политическими или дипломатическими мотивами (перед вынесением решения ходили слухи, что нельзя в этом году отличать гражданина страны, виновной в гибели корабля борцов за мир «Рейнбоу Уорриер»), далее он упомянул об одиннадцати предыдущих французских лауреатах, отметив, что «Академия глубоко уважает те сугубо личные причины, которые заставили Ж.-П. Сартра отказаться от премии».
И именно эти вежливые заверения заставляют подозревать, что присуждение премии Клоду Симону во многом объясняется намерением после смерти Ж.-П. Сартра «простить» Францию, выбрав, однако, его литературного и идейного антипода.
На решение Нобелевского комитета французы отреагировали сдержанно, если не сказать прохладно. Официальные поздравления (президента республики и министра культуры) отмечали самобытность писателя, то, что «благодаря ему и в его лице вся французская литература сегодня удостоена высокой чести».
Критики спешили напомнить читателям, что у Клода Симона вышло уже 16 книг (первая, «Плут», — в 1945, последняя — «Волосы Береники» — в 1983), утешить их, что нет пророка в своем отечестве и что лауреата лучше знают за рубежом (его перевели на 18 языков, в том числе на русский — роман «Дороги Фландрии» был опубликован в 1983 году издательством «Художественная литература» вместе с произведениями М. Бютора, А. Роб-Грийе и Н. Саррот), нежели на родине.
Некоторые подчеркивали «пограничное» положение Клода Симона: родился он на Мадагаскаре (в 1913 году), большую часть времени живет в деревушке на юге Франции, необычайно скромен, не участвует ни в каких литературных интригах, не выступает по телевидению.
Как проницательно писал критик Д. Сальнев в опубликованной в «Монд» статье «Боязнь быть обманутым», пренебрежительная реакция, безразличие объясняются, во-первых, заниженной национальной самооценкой: утрата Францией позиций великой державы вызвала и несколько скептическое отношение к своей культуре. Вторая причина — падение престижа литературы в современной Франции. Сейчас нет писателей, которых можно было бы поставить вровень с Франсом, Ролланом, Прустом, Клоделем, Камю, Сартром, Арагоном.
Роль «властителей дум» перешла к философам, к историкам культуры (таким, как Мишель Фуко и Клод Леви-Стросс), критикам и литературоведам (Ролан Барт). Современный писатель нередко предстает как отшельник-экспериментатор, борющийся со словом наедине, вне «массовых коммуникаций». Третья причина: изменение литературной ситуации, участившиеся атаки «реалистов» на «формалистов», отрицание литературного переворота 1950-1960-х годов.
Наиболее ярко эта тенденция проявилась в разгромной статье Анджело Ринальди в «Экспрессе», отрекомендованного в редакционной врезке «знатным иконоборцем».
«Присуждение Нобелевской премии самому скучному и искусственному писателю после Казимира Делавиня (1793-1843), — писал критик, — это второй после дела „Рейнбоу Уорриер" удар по национальному престижу, одновременный подрыв французской армии и литературы, двух вековых опор страны, ее гордости».
«Не проникли ли советские агенты в Шведскую академию и пацифистские организации?» — бьет тревогу А. Ринальди. Для него писания «крестьянина» — «натужный труд, исключающий всякое изящество».
Он называет Клода Симона «...эпигоном Фолкнера, прошедшим школу Роб-Грийе, гораздо более достойного представителя псевдосовременной литературы», эпигоном тех, кто создавал теории прежде романов.
«Премию получила голая форма, за которой нет ничего, кроме потуг автора скрыть пустоту».
После автора «Астреи» Оноре д'Юрфе (1568-1625) не было писателя, — утверждает он, — «столь погрязшего в условностях»... «Неужели шведские академики хотели подтвердить слух, что роман окончательно умер?»
На большую часть этих обвинений, или, вернее, оскорблений, отвечал сам Клод Симон в своей нобелевской речи. Но попробуем понять, что стоит за ними, нет ли в них, к сожалению, доли истины? Какое место занимает «новый роман» в современной французской культуре, как изменились его лозунги и он сам за 30 лет?
«Новый роман» возник как отрицание традиционного реалистического романа и претендовал на роль литературного (и даже литературоведческого) авангарда, выразителя главенствующей тенденции культуры XX века. Этот художественный переворот живопись, по мнению Клода Симона (в молодости серьезно ею увлекавшегося), осуществила еще на рубеже столетия, когда главным в картине стал не избранный сюжет, не сам предмет, а способ его изображения, взаимодействие цветовых масс. Поставив во главу угла сам процесс творчества (согласно знаменитой формуле Жана Рикарду, «роман — не описание приключений, а приключения письма»), «новый роман» отказался от линейного сюжета, неизменных персонажей и всезнающего автора, от прошедшего времени: существует лишь Настоящее, тот миг, когда пишется (читается) фраза. Вначале, в 1950-е годы, это нарочито стертое, внешне бессвязное описание повторяющихся событий воспринималось читателями и критиками как крайняя степень натурализма, пошли в ход термины «вещизм», «школа взгляда».
Вскоре выяснилось, что в новом романе «наивного реализма» не больше, чем в театре абсурда, что у того и другого направления много общего (недаром С. Беккет был классиком их обоих). Но в романе использовались не драматические, а поэтические способы соединения материала (семантические и звуковые рифмы, лейтмотивы, реализация метафор), принципы музыкальной композиции (12-тоновая музыка А. Шёнберга), живописной (одновременное совмещение различных изображений предмета в кубизме).
Однако в тот период, когда «новороманисты» превратились в литературных мэтров, пытающихся диктовать свои законы не только современникам, но и предшественникам (Ж. Рикарду предложил любопытный опыт «новороманного» прочтения Флобера и Пруста), когда их принялись активно издавать за рубежом, культурная ситуация во Франции начала меняться. С одной стороны, игра чистыми повествовательными структурами стала заводить в тупик, да и просто приедаться — тем более что «структуралистские» романы Ф. Соллерса (критикующего «новый роман» с «ультралевых» позиций) пошли по этому пути еще дальше. И тогда превращение письма в производственный процесс со строгим соблюдением технологии сделало автора ненужным — его мог заменить компьютер. В поисках выхода «новый роман» ищет иной исходный материал, превращается на время в детектив, мемуары (вышли воспоминания Н. Саррот, А, Роб-Грийе).
С другой стороны, произошло постепенное тиражирование приемов, они сделались достоянием всей литературы, проникли даже в массовую культуру, то, что было новаторством, стало восприниматься как канон.
Для нового поколения писателей «новый роман» предстает как система не возможностей, а пут и запретов. Так, прозаик Тони Картано, поздравляя в газете «Монд» Клода Симона с присуждением Нобелевской премии, определяет его творчество как «современное барокко». И ценность его видит в том, что сквозь раздражающие читателя формальные ухищрения восстанавливается единый логичный рассказ, встают верные проблемы: война, любовь, воспитание, жилье, еда, работа... Сложность поэтики прочитывается как навязчивые, повторяющиеся приметы стиля: сверхдлинные, многостраничные фразы без знаков препинания, «вечное настоящее время, разрушенная хронология, устойчивые мотивы: страх смерти, поражение, самоубийство, поиск своего «я», своих предков».
Творческие принципы Клода Симона мало изменились с 1957 года, когда в издательстве «Минюи», оплоте «новороманистов», вышла его книга «Ветер». Он меньше других своих коллег склонен к теоретическим построениям, его интервью во многом повторяют одни и те же мысли. Поэтому дабы точнее определить его позиции, место среди «новороманистов», мы позволим себе суммировать его последние выступления в газетах, беседы с репортером журнала «Нувель обсерватёр» и прочитанный осенью 1984 года в Москве, в Государственной библиотеке иностранной литературы, доклад, который автору этих строк довелось слышать.
«Меня всегда поражало, — говорил Клод Симон, — то бесчисленное количество воспоминаний, представлений, образов, которые, как пишет Толстой в «Войне и мире», являются человеку в одно мгновение». Это фрагментарное восприятие мира романист преодолевает, том, как перенести в вынужденно линейное письмо возникающие одновременно картины подсознании».
Слово он как бы «заряжает Историей».
Сюжеты отдельных романов, движение истории в трактовке Клода Симона (повторение событий во всех поколениях его семьи, ярко описанное в «Дорогах Фландрии» и «Георгиках»), совокупность книг, подчиненных двум темам (судьба и творчество), образуют своеобразную спираль.
«Я создал свой мирок, где встречаешь одних и тех же персонажей. И каждый следующий роман приносит дополнительную информацию. Так и называется моя новая книга - «Дополнительная информация» (уже написано 200 страниц). Но конечно, заглавие иронично — информация не может быть исчерпывающей, нельзя сказать все, как мечтал Бальзак».
Клод Симон никогда не был поклонником Стендаля, Бальзака, даже Флобера, он не выносит романы «нравов» или «характеров», порицает их за «утилитарность и дидактичность». Подлинный мир прозы, по его словам, ему открыли Толстой, Чехов и в первую очередь Достоевский.
«Любой, даже второстепенный персонаж Достоевского — бездна вопросов по сравнению с Жюльеном Сорелем, Цезарем Бирото, Эммой Бовари».
Его привлекает сильная биографическая традиция французской литературы: Руссо, Щатобриан, Пруст. Из зарубежных писателей он перечитывает («В моем возрасте, как сказал Андре Жид, уже не читают, а перечитывают») Конрада, Джойса, Пруста.
Тридцать лет назад лозунги «новороманистов» воспринимались как бунтарские, сейчас они выгладят устаревшими. Ниспровержение реалистической условности обернулось диктатом еще более условных литературных правил. Поэтому чем полемичней (в нарушение канонов) старался сделать свою сорокаминутную нобелевскую речь Клод Симон, тем традиционней она прозвучала:
«Как всякий писатель, я испытываю от признания почти детскую радость, к которой примешивается чувство гордости за то, что я привлек внимание к моей стране — моей стране в горе и в радости, где как вечный протест сохраняется осмеиваемы, презираемая, преследуемая духовная жизнь. Лишь благодаря ей выживают, преодолевая небрежение или даже враждебность властей, вечные человеческие ценности, находящиеся ныне под угрозой».
Клод Симон решил дать бой критикам, называвшим его трудным, скучным писателем, нарочито удивлявшимся выбору Шведской академии, и в первую очередь А. Ринальди. Ему лестно, что они квалифицировали его произведения как «революционные, подрывающие устои».
Но при этом он, конечно, не литературный анархист, как Рикарду и Соллерс (в какой-то степени — Роб-Грийе), считающие производство текстов «террористическим актом против буржуазной культуры и идеологии».
Клод Симон считает себя «революционером романной формы», он «менее всего следовал приемам и установленным правилам тех, кто идет по этому пути, всегда ждут упреки».
Он приводит свой излюбленный пример: живопись импрессионистов казалась «бесформенной», а «восхищенные внуки выстаивают бесконечные очереди в музеи».
«Как объяснить, — вопрошает он, — что для современных критиков обесценилось понятие литературного труда? Что им кажется убийственной насмешкой сказать о писателе, что он «пишет с трудом»?
А Клод Симон действительно «пишет с трудом». Для него чрезвычайно важен этот процесс борьбы со словом, проверки его звучания, вызываемых им ассоциаций. Само письмо порождает все новые и новые смыслы, гораздо более глубокие, чем первоначально предполагал автор. Поэтому и определение «искусственный» Клод Симон воспринимает как положительное — то есть «искусно сделанный продукт человеческого труда, а не природы». Новый роман требует от читателя активного сотворчества, даже соавторства, а отнюдь не пассивного восприятия.
Нет, роман продолжает существовать, утверждает нобелевский лауреат, отжила свое лишь литературная модель, созданная в XIX веке.
В полемическом задоре Клод Симон сознательно идет на упрощения: «Ну, конечно же, старый роман умер, несмотря на то что в привокзальных киосках продают и еще долго будут тысячами продавать и покупать развлекательные или устрашающие приключенческие истории со счастливым или грустным концом, с заглавиями, обещающими открыть абсолютную истину: «Удел человеческий», «Надежда» или «Дороги свободы».
Напомним, что именно «рассказ об уделе человеческом» сочла Шведская академия главным достоинством Клода Симона — и, думается, не без оснований. За внешне бесстрастными описаниями в его книгах встают определенная философия истории, раздумья о предназначении каждого человека.
Далее писатель изложил уже известную нам теорию «фрагментарного романа». Цель его — «не доказать, а показать, не объяснить, а открыть».
Современный роман, полагает он, защищает свое право на существование, уже не обращаясь к «значительным сюжетам», но стремясь, как музыка и живопись, передать гармонию.
И, вновь декларируя антидидактичность литературы, Клод Симон хочет опереться на свой жизненный опыт (вспомним об автобиографичности его творчества): «Я уже стар, и, как у многих обитателей нашей старушки Европы, первая половина моей жизни прошла довольно бурно... Я был свидетелем революции, я воевал в убийственных условиях (я попал в один из тех полков, которыми штаб заранее, хладнокровно пожертвовал и от которых через неделю практически ничего не осталось).
Клод Симон сражался в Испании на стороне республиканцев, в начале второй мировой войны служил в кавалерийской, шестом драгунском полку.
«Я был в плену, узнал голод, изнурительный лагерный труд, бежал, тяжела болел, много раз был на грани смерти. Я общался с самыми разными людьми — со священниками (у них он воспитывался.— А С.) и поджигателями церквей, с мирными буржуа и анархистами, с философами и неграмотными. Я делил свой хлеб с бродягами, я объездил весь мир, и все же за эти 72 года я не увидел в нем никакого смысла: смысл его в том, что он существует.
Как видите, мне нечего сказать людям, как этого требовал Сартр. Кроме того, если бы мне открылась какая-то важная истина — социальная, историческая, религиозная, мне показалось бы по меньшей мере смехотворным прибегать для ее изложения к вымышленному повествованию...»
Читатель может (и не без оснований) обнаружить здесь противоречие: ведь, как правило, богатый жизненный опыт помогает писателю сказать что-то свое, новое, пользуясь, естественно, языком искусства. Но Клоду Симону важно в первую очередь отстоять тезис об «абсолютной свободе творчества».
Полемику с экзистенциализмом «новороманисты» начали еще тридцать лет назад, создавая и утверждая свою идеологическую и эстетическую программу. Потому-то так уверенно задал Клоду Симону вопрос репортер из «Нувель обсерватёр» накануне его отъезда в Стокгольм: « у вас есть и нелюбимый писатель, Сартр?» — «Если только его можно назвать писателем... Я не против «ангажированной» литературы, но я не несу послания людям, не указываю им «дороги свободы». Если писатель своей книгой сумеет немного изменить мир — это и будет настоящая «ангажированность».
Конечно, эта прокламируемая аполитичность — во многом следствие установки на самоценность и самодостаточность художественного произведения. Сам же Клод Симон любит напомнить, что он выступал против расизма и милитаризма и его даже привлекали к суду «за оскорбление французской армии». Но отсутствие ясной политической позиции может обернуться консервативностью взглядов, привести к безответственным высказываниям.
Выступая в январе 1986 года в Нью-Йорке на скандально известном 48-м международном конгрессе ПЕН-клуба, посвященном теме «Воображение писателя и воображение государства», новый нобелевский лауреат не смог преодолеть инерцию заданного тезиса о враждебности власти и подлинного художественного творчества, отдай дань поветрию культур анархизма. Для Клода Симона любое государство, отстаивающее политические взгляды и художественные вкусы большинства населения, способствует производству массовой псевдолитературы. Главную задачу писателя он видит не в противоборстве с официальной идеологией и культурой (антибуржуазные произведения Сартра, по его мнению, сыграли роль предохранительного клапана, способствовали в конечном счете «укреплению атакованной социальной системы»), а в разрушении традиционного языка искусства, тех форм, которые отражают и закрепляют иерархическую структуру общества.
«Что может быть безобиднее описания одного дня банального дублинца или совсем уж банальной светской жизни завсегдатая салонов сен-жерменского предместья?.. Но стоило Джойсу написать шестьдесят страниц без знаков препинания, стоило Прусту утвердить, вопреки правилам «хорошего стиля», длинную фразу с многочисленными вводными предложениями, как общество увидело в этом (и вполне справедливо) угрозу своим основам, порядку, иерархии...»
Утверждая свою незыблемость, общество стремится представить новаторские произведения как плохо написанные, непонятные и — тягчайший грех — скучные (здесь, конечно, Клод Симон защищает не столько Джойса и Пруста, не удостоившихся, кстати сказать, Нобелевской премии, а самого себя), но помешать им занять подобающее место в истории культуры оно — не в состоянии. Ведь подлинные новаторы, продолжает писатель, творили отнюдь не на пустом месте — они опирались на мощный фундамент, наследуя и продолжая традицию обновления искусства, которое,
«по определению Р. Барта, всегда вопрос и никогда — ответ».
Итак, присуждение Нобелевской премии «новороманисту» утвердило литературную репутацию уже исторического феномена. Претензии «нового романа» на то, чтобы стать универсальным жанром XX века, «отменить» предшествующие романные разновидности, оказались несостоятельными.
Очевидно, что сосредоточенность на процессе «порождения текстов» может привести либо к «зауми», либо к «компьютеризации» литературы. Потому-то в 1980-е годы «новороманисты» (особенно молодое поколение) все энергичней стали искать новые формы и художественные приемы, усиливать занимательность (или даже ироничость) повествования, вводя детективную интригу, фантастику, сказку, документ, разрабатывать лирические и драматические жанры. «Новый роман» начал сближаться с основным потоком развития литературы, на который он действительно оказал существенное влияние. Таким образом, границы романа как жанра расширились и в то же время обозначилась четче: роман может стать «практической поэтикой», строиться на игре приемов, «порождающих тем», но не сводиться к ним.
Выбрав Клода Симона, Шведская академия формально поставила его в один ряд с великими писателями XX века: Т. Манном, У. Фолкнером. Но только формально... Нобелевская премия не возвышает ее обладателя над многими из тех, кто так и не удостоился ее.
Л-ра: Иностранная литература. – 1986. – № 11. – С. 214-218.
Произведения
Критика