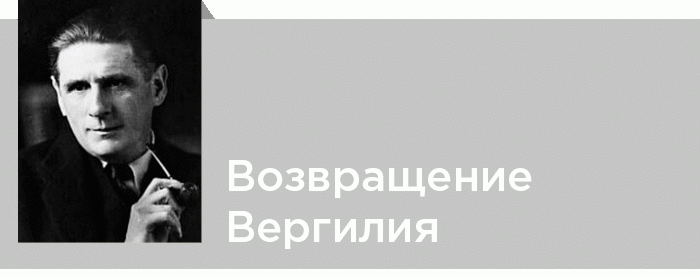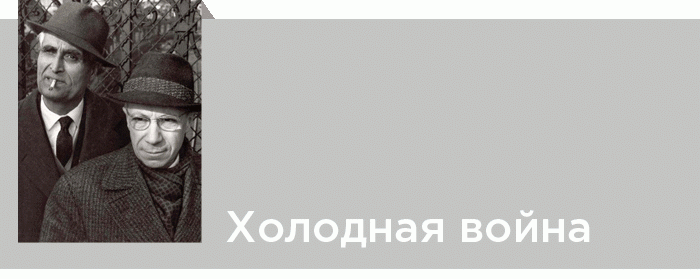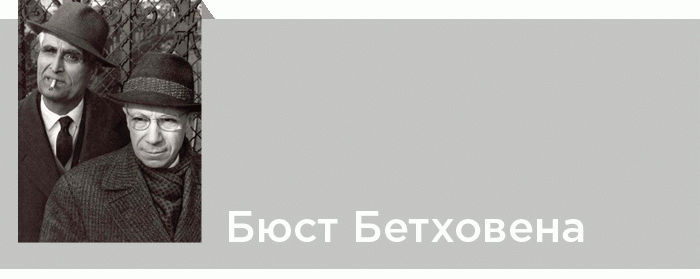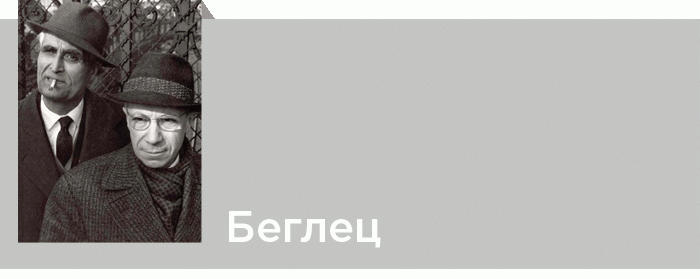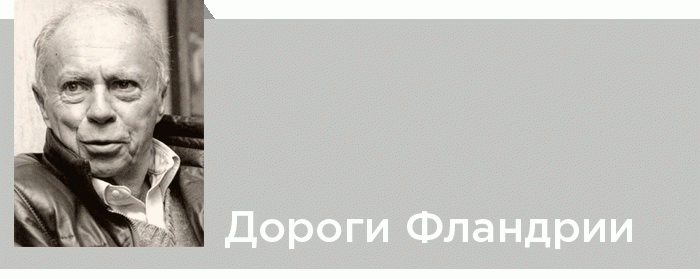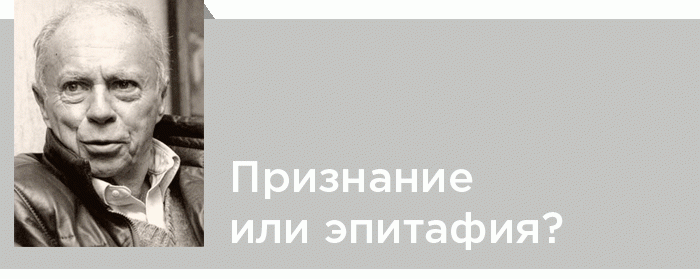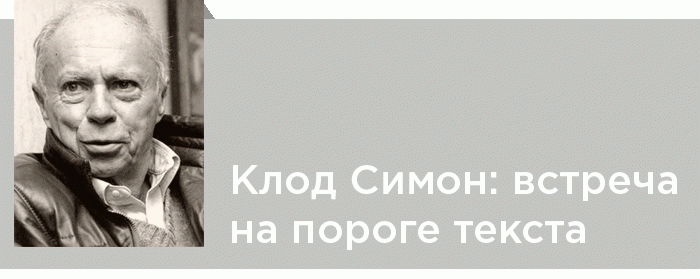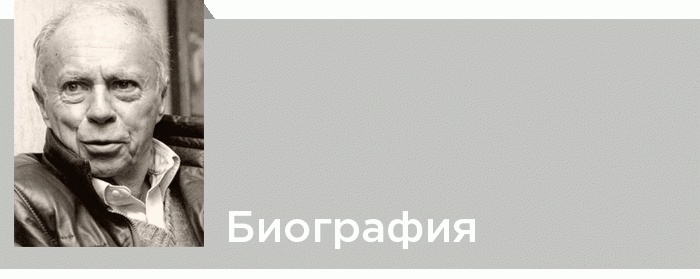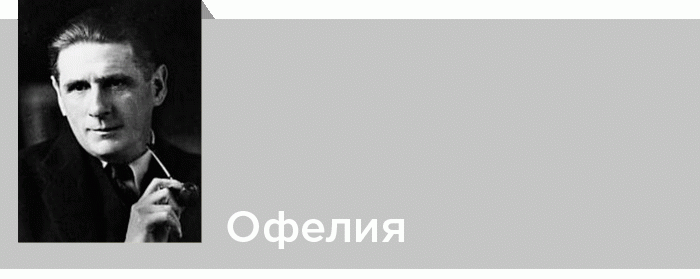Клод Симон. Приглашение
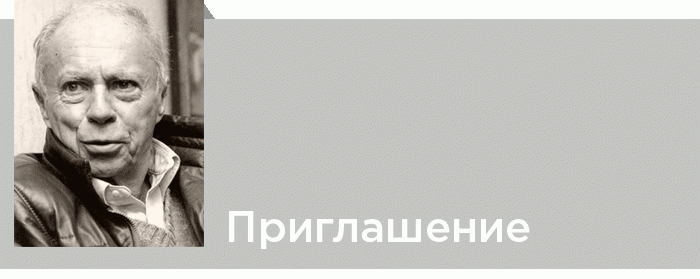
(Отрывок)
В Истории единственным постоянно действующим фактором является географический.
Бисмарк
Как правило (то есть с момента их прибытия в эту страну десять дней назад), каждого из них в сопровождении переводчицы возили в отдельной машине, из тех больших черных автомобилей, где заднее стекло закрыто сборчатыми шторками, однако на этот раз их посадили в какой-то автобус, который покатился за полицейской машиной, не развивая слишком уж большой скорости, но и не забывая включать мигалку на перекрестках, затем остановился перед заурядного вида зданием, и пятнадцати пассажирам предложили выйти. Один за другим они вошли в дверь, пересекли вестибюль, поднялись на два лестничных марша, проследовали по коридору и оказались в зале, где их ожидал генеральный секретарь.
Вероятно, один или несколько охранников в форме стояли снаружи, как это обычно бывает у входа в правительственные здания, но они их не заметили, во всяком случае, обратили на них не больше внимания, чем обращаешь обычно на швейцаров или рассыльных в гостинице (такая же коричневая форма, отделанная красной или голубой тесьмой, такие же фуражки, такой же праздный и отсутствующий вид), когда выходишь из такси, спеша на неотложную встречу. В вестибюле и на лестнице, то ли направляя их движение, то ли наблюдая за тем, как они проходят, стояли какие-то люди, по виду чиновники или сотрудники аппарата, одетые в темно-серые костюмы, молодые, сдержанные, деловые, которых всегда можно встретить в такого рода местах: министерствах, резиденциях глав государств или штаб-квартирах крупных организаций.
Пятнадцать гостей составляли пеструю группу, где средний возраст приближался к шестидесяти годам, а национальности и профессии были разнообразны; некоторые здесь (в особенности самый молодой, уроженец Средиземноморского побережья) отличались утонченным изяществом, у других (один при ходьбе опирался на палку), не выделявшихся ни внешностью, ни одеждой, был чопорный, немного усталый и в то же время удовлетворенный вид — так выглядят участники международных встреч или конференций, запечатленные на фотографиях в прессе; в этой группе (так сказать, ради оправдания самого ее существования или, быть может, просто в качестве экзотического, декоративного элемента) находились три человека, отличавшиеся от других не только цветом кожи, но и одеждой, причем у того из них, кто более всего бросался в глаза, была голова гладиатора-нубийца, словно отлитая из бронзы, прямой нос и тонкие, хотя и несколько оплывшие черты лица, ослепительно белые зубы; костюм его состоял из небесно-голубой туники и такого же цвета узких брюк, торс был задрапирован длинным шарфом из белой хлопчатобумажной материи, а к груди с одной стороны прикреплена большая орденская планка наподобие тех, что носят генералы; двое других (два брата), напоминавшие проповедников евангелических сект или скорее выступающих в дуэте темнокожих артистов, одинаково хорошо умеющих петь, играть на трубе или с пулеметным треском отплясывать степ на освещенных прожекторами сценах мюзик-холлов, были одеты в темное, от узких лаковых туфель для чечетки до тонких свитеров-водолазок, к завернутым воротникам которых, казалось, были приставлены их словно отрубленные эбеновые головы, слегка откинутые назад, как бы поддерживаемые подбородником или ортопедическим аппаратом, известным под названием «минерва», но при этом вертевшиеся с птичьей живостью или, скорее, резкостью и в данное мгновение обращенные влево, когда, двигаясь в цепочке вместе с другими приглашенными, они друг за другом поворачивали направо, стоило им переступить порог двери, находившейся в глубине (и при этом несколько сдвинутой к боковой стене) средних размеров зала, похожего на комнату для совещаний, вытянутую более в длину, чем в ширину, где в центре располагался стол таких же пропорций, на котором в соответствии с местами, отведенными гостям, были расставлены стаканы и бутылки минеральной воды, и величественный гладиатор-нубиец, по-прежнему задрапированный в свою незапятнанно белую тогу, держался третьим, а элегантный дипломат-средиземноморец, возглавлявший колонну, шел вдоль стола и наконец достиг его оконечности, где стоял, немного отступив назад, человек, который собрал их здесь.
Их не представили. Может быть, секретарь (или то был писатель, разославший им письма с приглашениями), стоявший рядом с хозяином, каждый раз шептал ему на ухо имя гостя, которому он пожимал руку. А может быть, этого и не было. Может быть, его это не интересовало (то есть ему не так уж важно было знать, как зовут каждого из приглашенных и что он собой представляет: вероятно, ему достаточно было того, что они здесь и что, как ему сказали, это были люди, в своих странах весьма известные), может быть, он заранее пробежал глазами список (список, в котором среди прочих, помимо темнокожих артистов и сногсшибательного гладиатора-нубийца, значился и актер, сыгравший в одном из фильмов роль Нерона и бывший вторым мужем красивейшей женщины мира) или просто велел соответствующим службам подготовить краткую записку (он только что вернулся назад после встречи с главой другого государства, чьего слова также было достаточно для того, чтобы разрушить добрую половину земного шара: еще один актер, человек, который вступил на эту стезю не потому, что обладал дарованием или специальными знаниями, но потому, что в третьеразрядных кинолентах, надев ковбойскую шляпу и широко улыбаясь, скакал на лошади), так что в продолжение некоторого времени слышно было только шарканье подошв по полу, меж тем как пятнадцать мужчин, направляемых сотрудниками аппарата, пройдя вдоль стола один раз, теперь двигались вдоль него во второй раз, в противоположном направлении, вторично преодолевая расстояние между дверью и тем, с кем они только что поздоровались, дожидаясь, чтобы следовавшие в хвосте шествия заняли свои места с другой стороны стола, а затем, подчиняясь знаку хозяина и следуя его примеру, отодвинули стулья, сели, и приглушенный звук, который издавали, проезжая по полу, ножки стульев с кусочками резины на концах, еще не успел угаснуть, как человек, который мог разрушить полмира, уже заговорил мягким, приветливым и даже несколько игривым голосом, приветствуя своих гостей.
Прошло уже немало времени после того, как отзвучали финальные раскаты медных духовых инструментов, как затих грохот литавр и вновь закрылся занавес, а зал с пятью ярусами белых с золотом балконов, расположенных подковой, с ложами и креслами, обитыми темно-красным бархатом, и с гигантской люстрой все еще трещал от шума аплодисментов, похожего на стук града по крыше, который захлестывал все вокруг, топил в себе доносившиеся с разных сторон возгласы восторга, ненадолго ослабевал, вновь набирал силу, разбухал, наполнял обширное пространство ужасающим треском, вселял смутную тревогу, словно широкий водопад, где с небольшой высоты низвергаются тысячи тонн воды, почти угрожал, и сквозь его завесу воплями отчаяния, тревоги, даже ярости казались крики «браво!», нараставшие всякий раз, когда занавес раздвигался вновь и в бледных полосках прожекторов к центру сцены приближался крошечный силуэт, нечто вроде потустороннего видения, сверкавшего не потому, что на него были направлены ослепительные лучи, но за счет собственного внутреннего свечения: казалось, что это не плоть, мышцы и кожа, но фрагмент какой-то фосфоресцирующей субстанции, нечеткими, расплывающимися, присыпанными пылью контурами которого обрисовывалось не столько тело, переливчатые складки шелка, сколько некая последовательность поз: легкий наклон вперед, сгибание ноги в колене, грациозное прикосновение к одному из букетов, которые подобно странным метательным снарядам сыпались на сцену там и сям, словно под воздействием пружин, скрытых в насыщенной шумом и движением полутьме, падали в резком свете рампы вокруг первой балерины театра с запрокинутым лицом, обращенным к колосникам, простертыми вперед руками и разведенными ладонями, которая благодарила публику еще одним поклоном, затем исчезала, тяжелый кроваво-красный занавес вновь закрывался, его тяжелые половинки устремлялись навстречу друг другу, сталкивались, откатывались назад, как волны, опять раздвигались, смыкались, еще мгновение колебались и затем застывали; рукоплескания и крики, теперь приглушенные, все же доносились до слуха пятнадцати гостей, отдаленные, наслаивающиеся друг на друга, почти сходящие на нет, затем возникающие снова, крепнущие, требовательные, меж тем как их вели по лабиринту колонн, белого мрамора, лестниц и галерей, где, казалось, бродили безутешные тени покойных великих княгинь и камергеров, пока, наконец, они не вошли в дверь, за которой глазу внезапно открывалось пространство, не имеющее ни границ, ни привычных измерений, так что, заливая пустой пыльный пол и опущенный занавес (с этой стороны тоже пыльный и сероватый), слепящий свет нескольких электрических ламп, свисавших там и сям с потолка, терялся в неясном мраке, где смутно угадывались картонные ветви с листьями, какие-то каркасы, раскрашенные холсты, слабо колеблемые порывами пронзительного сквозняка, время от времени надувавшего и огромный занавес, сквозь который вновь стал слышен гул — сейчас более близкий, но долетавший словно из другого мира — последних вызовов, последних аплодисментов, теперь звучавших в унисон, упорных, но все-таки понемногу редевших, так сказать, разваливавшихся, распадавшихся на отдельные звуки, все менее и менее энергичных и, наконец, стихших, уступивших место мирной какофонии (хотя они (пятнадцать гостей) услышали ее сразу, как только переступили порог двери, ведущей за кулисы) ударов молотка и шума сталкивающихся или перетаскиваемых вещей, вроде той, что обычно царит на лесах, возведенных около демонтируемых зданий или, скорее, на местах катастроф, природных или иного происхождения; и в центре этого пространства, также сероватая, будто припорошенная пылью (или, вернее, слепленная, материализовавшаяся из нее и готовая вновь стать ею), которая, словно дождь праха, равнодушно сыпалась на холсты декораций, на кисейные облака, на фальшивые лучи лунного света, на рабочих сцены, на пол, стояла старая женщина, на сгибе локтя державшая букет выцветших цветов: почти карлица, хрупкая в своих неосязаемых одеждах цвета пыли, изможденная, с торопливо наброшенной на плечи шалью, вязанной крючком, вроде тех, что обычно носят консьержки или обитательницы домов престарелых.
Он никогда бы не подумал, что она так стара. Даже когда вспоминал, что ему об этом говорили. Даже когда он смотрел на нее, фосфоресцировавшую в пыльном облаке света, в маленький театральный бинокль из числа тех, что были оставлены для них (вместе с разложенным по тарелкам сухим печеньем и обязательными бутылками минеральной воды, которые в этой обстановке выглядели, пожалуй, комично, вызывающе насмешливо) на столе в парадной гостиной, находившейся за ложей — правительственной ложей в центре второго яруса, широкие позолоченные кресла которой были обиты тем же красным бархатом, что и стены, те кресла (они, по-видимому, были изготовлены в середине прошлого века и недавно поновлены дешевой краской, имитирующей позолоту, а не покрыты, как прежде, сусальным золотом), где, возможно, сидели императоры и разубранные бриллиантами императрицы, где сейчас, когда он шел сюда, сидел один из двух могущественнейших в мире людей, где до него сидели впавшие в детство старцы, а до впавших в детство старцев — человек с разбойничьими усами, с отеческой улыбкой бандита, с философией и нравственностью убийцы, по чьему приказу, отданному из властолюбия, жестокости, забавы, страха или просто по глупости, были арестованы, избиты, приговорены, сосланы на каторгу и отправлены на смерть, по решению суда или без оного, миллионы человеческих существ, мужчин, женщин, детей и стариков; он тоже сидел здесь в торжественные дни, и за его возгласами «браво», его грубыми шутками, за тем, как сдвигались его брови, с тревогой следили или, вернее, подсматривали даже те, кто принадлежал к его ближайшему окружению, сидел рядом с ним, дрожа, изнемогая от ужаса, в других позолоченных креслах, а он тем временем, приложив к глазам такой же театральный бинокль в перламутровом или слоновой кости корпусе с медной оправой, смотрел, как на этой же сцене происходило нечто весьма близкое к тому, что только что видели они (пятнадцать гостей), то есть нечто такое, что бедняку-семинаристу (каковым он был до тех пор, как сделался бандитом) должно было, вероятно, представляться верхом красоты, изящества и гармонии, на что его наследники в течение сорока лет после его смерти, словно бы под влиянием некоего шекспировского ужаса или суеверия (на этот счет имелись законы, указы, тщательно разработанные предписания, основанные на обстоятельной философской тарабарщине, до малейших подробностей регламентирующие, как следует играть на корнет-а-пистоне и держать кисть), продолжали выделять средства, ставшие целью и смыслом существования танцовщиков, музыкантов и художников-декораторов.
И, вероятно, она же — то есть та, которая сейчас была старухой, такой древней, что в те времена она, простая балерина, а может, уже и восходящая звезда на театральном небосклоне, должно быть, принимала на этом же пыльном полу те же самые позы, застывшие, условные, наклоняла голову, улыбалась, делала пируэты, напрягая и расслабляя железные мускулы под шумные рукоплескания бандита с железной фамилией, грациозно выпрямив стан, округляла руки, тогда девические, а сейчас лишенные плоти, напудренные и бледные, которыми она, повиснув на прикрепленном к колосникам невидимом стальном тросе (ноги, отказывавшиеся ей служить, были скрыты за картонным облаком), поднимаясь и опускаясь по прихоти блоков и ремней, лишь слабо помавала, подражая взмахам крыльев раненой чайки, слегка наклоняя вперед верхнюю часть туловища, опуская голову то на одно, то на другое плечо под жалобное пение флейт оркестра, а затем, спустившись со своих небес, поддерживаемая или, скорее, переносимая коренастым партнером, едва намечала, выпятив грудь, и до отказа вытянув ногу, обессиленная и проникнутая пафосом, воздушные, скользящие прыжки, благодаря которым она в свое время стала знаменитой и удостоилась чести получить из рук глав государств во всех столицах мира столько же высших орденских знаков, крестов, лент, звезд и наград, сколько какой-нибудь победоносный маршал, и наконец исчезала в буре криков «браво!» и громе литавр, на этом фоне выделялся звук пистолетного выстрела, который бросал на авансцену тело танцевавшего с ней партнера, и тот, многократно повернувшись вокруг своей оси, замирал, сложив руки на груди крест-накрест, запрокинув голову и едва не касаясь ею огней рампы, публика при этом поднялась с мест, возгласы восторга, крики «браво!» слились в один мощный гул, нубийский гладиатор в своей роскошной небесно-голубой тунике также встал, забросив на плечо край белой тоги, громко хлопая в ладоши, овации достигли апогея, гул голосов по-прежнему поднимался из партера, с балконов, исполненный чего-то неизъяснимо странного, тревожного, что всегда слышится в криках, которые исторгает у человека или животных преизбыток наслаждения, боли, гнева или ужаса.
И вслед за этим — ничего. Ничего, кроме обширного пространства с неясными очертаниями, пыльных декораций, серых, уже отданных на растерзание рабочим, звонко стучавшим молотками, чьи отзвуки терялись в необъятном и холодном мраке. Словно бы еще раньше, чем стихли аплодисменты, чем артисты закончили выходить к публике, чем погасли прожекторы и занавес опустился над феерией (феерия, оглушительно громкий балет, в афишах цвета абсента, с кириллическими буквами, называвшийся так же, как пьеса, сочиненная около ста лет назад обаятельным близоруким человеком, который вместе со своей меланхолией, худобой, бородкой, пенсне и больными легкими прогуливался под пальмами, в тенистых уголках морских и бальнеологических курортов, колесил по Европе, тоже больной, зачеркивал каждую реплику, каждую паузу, так что на листках с ролями, которые получали от него актеры, оставались одни ремарки — «шепотом», «вполголоса»: Европа, старый континент философов, музыкантов и художников, писавших подернутое дымкой солнце, весь сморщенный, обветшалый; им управляли монархи с бородками или бакенбардами, господа со складными цилиндрами на головах; к нему подбиралось нечто оглушительно громкое, еще более ужасное, чем грохот медных инструментов и раскаты литавр…), рабочие, следуя приказу, немедленно, в спешном порядке принялись уничтожать декорации, вплоть до мельчайшей детали, как будто нужно было, чтобы от искусственных деревьев, искусственных кустарников, садовых скамеек и кресел, романтического лунного света, облаков ничего не осталось и чтобы она (старая дама, звезда прежних лет со скользящими прыжками фавна, знаменитость эпохи семинариста, сейчас имевшая к танцу не больше отношения, чем потерявшая голос певица — к пению) могла исполнить вторую часть своей роли (своей судьбы?): а именно то, что она еще могла держаться на ногах, опираясь только на свою костюмершу, почти такую же старую, как она сама, застывшую рядом с ней подобно наперснице в классической трагедии (трагедия, трагизм, который тщетно пытались передать удары большого барабана и оглушительный рев меди в оркестре), то есть могла стоять здесь, внушающая ужас, иссохшая, в центре необозримой пустой сцены, края которой терялись в тени: будто покинутая всеми королева, какой-то дикарский истукан, не падая лишь благодаря крайнему, за пределами усталости, напряжению сил, еще стараясь выровнять дыхание, держать грудь, костлявую лесенку грудины, которая быстро поднималась и опускалась в вырезе корсажа, с каким-то словно потерянным выражением на лице, как будто бы здесь продолжалась агония, которую она недавно изображала, потерянная, смотревшая глазами маленького затравленного животного, обведенными большими черными кругами сценического грима, размытого потом, и еще находя в себе силы улыбаться, когда ее окружали пятнадцать гостей, которым она по очереди пожимала руки, слушая (или не слушая) комплименты, благодаря каждого одинаковой механической мертвой улыбкой, изможденная, в рамке походивших на шрамы борозд на испорченной косметикой коже, словно вырезанная из картона, как будто жизнь уже давно удалилась из нее, глаза блестели, как бывает только от слез — или, быть может, от света самой близкой из слепящих электрических ламп, которые медленно раскачивались на сквозняке, попеременно растягивая и сжимая тени на крошечном морщинистом личике, вряд ли превосходившем величиной лица детских мумий, покрытые прахом, с еще сохранившимися на скулах следами кармина.
Долгое время видна была только луна, не совсем круглая, слегка сплюснутая слева, молочно-белая или, скорее, серебристая, похожая на лампу, перемещавшаяся, казалось, с той же скоростью, что и самолет, словно приросшая к нему, иногда немного поднимавшаяся или опускавшаяся, а затем снова занимавшая свое место, или, скорее, как будто самолет и она застыли без движения, повисли в беззвездной ночи, в то время как в тысячах метров под ними медленно плыли невидимые во мраке чудовищные земные просторы, которыми были связаны два континента, два мира, не лежащие лицом друг к другу по обе стороны какого-нибудь моря, какого-нибудь вечно изменчивого океана, но склеенные наподобие тех двухголовых существ, сиамских близнецов, которых показывают на ярмарке, сросшихся спинами, осужденных никогда не видеть друг друга и в то же время дышащих или переваривающих пищу посредством какого-нибудь общего органа, неделимого, болезненно увеличенного, с толстой оболочкой (а на обратном пути, днем, им предстояло увидеть это, так сказать, противоположность текучей, подвижной стихии: целыми часами — нечто однообразно охристое, однообразно плоское, над которым висели подобные четкам, параллельные цепочки маленьких круглых, неподвижных облаков, удвоенных своими тенями, также неподвижными, нечто с разбросанными там и сям озерами или, скорее, лужами, уже упрятанными, хотя стоял всего-навсего октябрь, в ледяные чехлы, и без единого города, деревушки, фермы, дороги или даже тропинки, лишь прочеркнутое с запада на восток единственным полотном железной дороги, которое тянулось, покуда хватало глаз, абсолютно прямое, не огибавшее холмов, не следовавшее прихотливым изгибам долин, вытянутое по шнурку, идущее из ниоткуда и ведущее в никуда: корка, мертвая, пустая, бесплодная необъятность, безнадежно пустая, безнадежно бесплодная и безнадежно неподвижная).
И наконец (самолет летел уже три часа — самолет, зафрахтованный специально для пятнадцати гостей, их пятнадцати переводчиц и пяти или шести сопровождающих, про которых не было в точности ясно, находились ли они здесь для того, чтобы их опекать, надзирать за ними или же надзирать друг за другом, самолет, вылета которого они дожидались без малого два часа (до этого прождав еще около часа (что в сумме составляло три: как если бы ожидание (ожидание загадочных распоряжений, отменяемых другими распоряжениями, не менее загадочными, которые, в свою очередь, также отменялись) было, так сказать, неотъемлемой и неизбежной частью утвержденной программы) в гостиничном холле с державными колоннами, ковровым покрытием и редко расставленными облезлыми креслами, автобус, который должен был за ними приехать) в роскошном зале ночного пустынного аэропорта (штампованная роскошь, звонкая и дешевая, как ее понимают проектировщики аэропортов повсюду в мире, с той лишь разницей, что здесь в ней было что-то наивно помпезное: мрамор, поддельные восточные ковры вроде тех, что можно видеть в цветных каталогах больших универсальных магазинов, люстры, стеклянные столики и бронзовые пепельницы), но хотя бы сидя в глубоких креслах, по-прежнему находясь под наблюдением (или в присутствии) сопровождающих, которые стояли вокруг того, кто казался главным, и были погружены в одно из своих вечных таинственных совещаний вполголоса; они перебивали друг друга, замолкали всякий раз, когда один из двух черных артистов поднимался, пересекал просторный холл из конца в конец своей танцующей походкой, покачивая бедрами, грациозно поводя кистями рук (на одном запястье у него был завязан шелковый шейный платок) и пробегая по нижней губе синеватым языком, на мгновение исчезал, затем появлялся снова и, возвратившись, садился на диванчик, где его ждал брат, их резкие голоса опять взмывали вверх, руководитель сопровождающих вновь обретал спокойствие, двадцать голов отворачивались, хотя какая-нибудь молодая переводчица еще посматривала недоверчиво в сторону диванчика, откуда периодически доносились непонятные и громкие взрывы хохота, при звуке которых два экономиста и дипломат-средиземноморец, составившие свои кресла ближе друг к другу, тоже поднимали головы, бросали на артистов быстрый взгляд, причем один из них попутно пробегал глазами по циферблату часов у себя на запястье, затем — по сопровождающим, по-прежнему сгрудившимся вокруг начальника, и возвращался к оставленному разговору; шелест голосов был едва слышен, терпеливый, унылый, размеченный звучавшими через определенные промежутки времени раскатами смеха, роскошный нубийский гладиатор, все так же задрапированный в свою тогу, сидел в одиночестве, его царственное бронзовое лицо оставалось бесстрастным, бронзовые губы были сомкнуты на мундштуке трубки, которой он медленно попыхивал, ночь приближалась, длинные белые фюзеляжи самолетов по ту сторону стеклянной стены по-прежнему стояли на месте, никаких приготовлений не было заметно, пока наконец около одной из дверей не произошло какое-то движение, группа сопровождающих разделилась, рассеялась, каждый направился к своему гостю, чтобы отвести его в самолет) — и наконец то ли потому, что разошлись облака, скрывавшие землю, то ли потому, что самолет преодолел-таки эти глухие, пустынные пространства, черные, без малейшего признака жизни, с правой стороны возникло неясное свечение, мало-помалу усиливавшееся, но при этом не предвещаемое одиночными аванпостами, маленькими световыми туманностями, которые обычно окружают города и понемногу множатся, сжимаются, собираются вместе, пока наконец не сольются, а представлявшее собой, если угодно, сгусток, четкое, с точными очертаниями, так сказать, замкнутое на себе пятно, свет, который не мерцал, окруженный в насыщенном влагой воздухе размытым кольцом, но вырисовывался с непреклонной точностью контуров, характерной для засушливых местностей, словно бы безжизненный, лишенный пульсации, кипения, переливов расплавленного металла, на мысль о котором наводит порой вид ночных городов с высоты, неподвижный, застывший, суровый, лежащий в центре или, скорее, на краю тьмы (и как он назывался? в карманах на спинках передних кресел не было карт, которые обычно там лежат и позволяют проследить отмеченный красной линией маршрут полета: одни буклеты для туристов с изображениями девушек в фольклорных костюмах на хлопковых полях, цветущих парков, разливки стали и театров из железобетона: вероятно, так, как называются шелка, ковры и купола — если только он не носил имени какого-нибудь промышленного комбината), медленно уходящий в ночь, одинокий, остающийся — у подножия каких устрашающих гор? на перекрестке каких устрашающих и невидимых пустынь? салон был наполнен гнусавым звуком голосов (голосов, чьи обладатели приехали из Гарлема, Мадрида или Калькутты, но говорили на одном языке, наречии, которым пользуются все без исключения: покрытые платиной знаменитости, рассыльные в гостиницах и торговцы всем, что только в мире может продаваться и покупаться, от автомобилей до облегающих брюк, и в том числе газированными напитками, алкогольными или безалкогольными), напрягавшихся в попытке пронзить мощное шепелявое бормотание воздуха, касавшегося обшивки самолета, толщу ледяного черного воздуха, страшную, нагроможденную над загадочной золотой лужицей, которая по-прежнему плыла в море мрака, понемногу соскальзывая вправо, уменьшаясь, и вновь ничего, чернота, трескотня говорящих в нос голосов (невероятный гладиатор в своем невероятном генеральском костюме жевал ломтик угря или копченого языка из тех, что лежали перед ним на подносе, и одновременно объяснял своему соседу (он уже объяснил, что учился в Оксфорде), что он живописец, то есть художник, то есть (он отодвинул поднос, нагнулся, порылся в элегантной дорожной сумке и вытащил оттуда коробку со слайдами) что им созданы портреты всех руководителей его страны; он по очереди поднимал их к свету, изображения людей с бронзовыми или эбеновыми лицами, облаченных в такие же экзотические одеяния, стоящих во весь рост на фоне утренней зари или грозовых небес, прочерченных тонкими извилистыми дорожками — розовыми, пурпурными, рдеющими (он не сказал, в Оксфорде ли его обучили этому роду живописи — хотя, если судить по манере (сильно напоминавшей ту, в которой обычно пишутся парадные портреты королев и принцев-консортов или чемпионов по игре в поло), это представлялось вероятным); такие же небеса, такие же охваченные огнем облака (или флаги?) равнодушно становились фоном для изображений крестьян, склонившихся над стародавними плугами, или кузнецов, или пастухов), тем временем появлялся второй остров света, все так же с правой стороны, по-прежнему однородный, сверкающий таким же твердым и неподвижным блеском, в свою очередь уплывающий в ночь (он (живописец в генеральской форме), кажется, нарисовал все, что можно было нарисовать в его стране, нарисовал даже (он показывал и их, тоже на слайдах, сопровождая каждую картинку обширным и непринужденным комментарием на своем превосходном английском языке, неистощимый, улыбающийся, обнажающий ослепительно белые зубы) почтовые марки, в манере, как он пояснил, по необходимости более стилизованной, здесь те же самые ткачи, гончары и пастухи, по-разному тонированные, в зеленых, желтых или сиреневых прямоугольниках, мирно уживались с серпом и молотом, также стилизованными), затем многочисленные островки света поплыли бок о бок, словно архипелаг, теперь они медленно поднимались навстречу самолету, потом опрокинулись, исчезли, появились опять, на этот раз ближе, шум моторов и шуршание воздуха снаружи зазвучали иначе, затем огни стремительно заскользили рядом с самолетом, очень быстро, убегая назад, самолет теперь катился по земле, сотрясаемый легкими толчками, все еще сбрасывая скорость, поворачиваясь вокруг своей оси, наконец застывая неподвижно, и когда открыли дверь, ночной воздух, внезапный, чистый, свежий (не холодный — свежий) лампы, которыми было освещено здание аэропорта, обрисовали на посадочной полосе путаницу темных силуэтов, пятнадцать гостей спускались друг за другом по трапу, сонные, окоченевшие, в том полубессознательном состоянии, в каком находятся люди, не спавшие ночь, на рассвете, машинально протягивая руку, которую обеими руками энергично тряс какой-то человек, в темноте казавшийся широкоплечим, с массивной головой, повторявший каждому одни и те же тяжелые слова, дружеские и гостеприимные, немедленно подхватываемые переводчицей, чья механическая речь затем раздавалась в каждой из машин, где они сейчас сидели, с тяжелыми, горящими веками, с затекшими, отяжелевшими руками и ногами, слыша, но не слушая вереницы слов, в которых они даже не пытались обнаружить смысл, произносимых с той смесью упрямства, равнодушия и несокрушимой уверенности, которая иногда звучит в голосах детей, декламирующих вызубренные басни, торговцев подержанными машинами или сиделок, занимающихся безнадежными больными, шум чахлого голоса, старавшегося заполнить ожидание чем-то вроде звукового фона (дверцы машин, одна за другой, со стуком захлопнулись уже довольно давно, но сиденье водителя все еще оставалось свободным, цепочка машин все так же неподвижно стояла на полосе возле самолета с уже погашенными огнями, как если бы это путешествие с двух сторон (до отъезда и после прибытия) должно было попасть в своего рода рамку, в поле мертвого времени, и вот наконец (на востоке небо начинало белеть) снаружи послышались возгласы, приказания, одновременно с этим в головную машину кортежа сели тени в военных фуражках, шофер (человек с лицом забойщика баранов или объездчика диких лошадей, без галстука, одетый в свободную куртку и брюки) занял свое место, хлопнул в свою очередь дверцей и включил сцепление), чахлый, бесцветный голос напрягался, чтобы пересилить шум мотора, а заря теперь разгоралась не на шутку, тьма понемногу отступала, словно бы с сожалением, как тинистая вода, оставляющая за собой ровный слой серой грязи, клочья тени еще медлили кое-где, из них выступали очертания тополей, посаженных вдоль прямой дороги, по которой двигался кортеж машин, при свете, в этот миг, когда предметы не обрели цветов, еще нечетком, в степи можно было рассмотреть пастухов, сидевших на своих лошадках, смутные палисадники по обеим сторонам дороги, домишки с выбеленными известкой стенами, серыми крышами, пейзаж понемногу оживлялся, заполнялся (или, скорее, уже оживился: желтые огни в окнах домиков, силуэты, идущие по обочинам дороги, уже скопившиеся в длинные хвосты на остановках неуклюжих автобусов, волочивших свои животы по шоссе), домишки и садики множились, горизонт был перегорожен чем-то хаотическим, громадным, вначале Серовато-жемчужным, неясным, похожим на скопление облаков, затем, вдруг, над тополями, пастухами верхом на лошадках, домишками, которые еще тонули в полумгле, протянулся первый солнечный луч и коснулся чего-то внезапно засверкавшего, с остро очерченными краями, склонами, гранями, походившего на россыпь бриллиантовых осколков, снег заискрился ледяными огнями, внушающими ужас, неподвижными: сейчас кортеж больших автомобилей, во главе которого шла полицейская машина, ехал через город (город, выросший посреди степи, чьим языком некогда был китайский, затем китайский с письменностью, созданной в первый раз на основе латиницы, во второй — кириллицы, где, не считая двух десятков наречий (наречия потомков погонщиков верблюдов, монгольских всадников, тех, кто спустился с чудовищных гор, татарских караванщиков, афганцев, киргизов, туркмен, узбеков, прежних рабов, недавних переселенцев — здесь даже была, как сказала переводчица, какая-то немецкая колония…), сейчас говорили на двух официальных языках, причем оба пользовались кириллической графикой), который за шестьдесят лет до того был всего-навсего небольшим селением (а может, и тем не был: почтовая станция, передышка на краю бесконечной степи, перед преодолением ужасающих гор) и в котором сейчас насчитывалось около миллиона жителей всех рас, с желтой или обычной кожей, раскосыми или обычными глазами (или слегка раскосыми, или с едва заметно приподнятыми скулами), в этот час они, как можно было видеть в рассветных сумерках, плотными ручейками торопливо двигались по обеим сторонам невероятной ширины улиц со зданиями из ажурного цемента, обсаженных деревьями, шли вдоль вездесущих полос красного ситца с непонятными призывами и наказами, развернутых на газонах или площадях, не обращая на них никакого внимания, втискивались в уже набитые автобусы (теперь стало видно, какого они цвета: они были желтые, помятые, пыльные и, трогаясь с места, выплевывали назад облака черного дыма), по знаку полицейских останавливавшиеся на перекрестках и пропускавшие кортеж машин с гостями, шины визжали на поворотах, автомобили на полной скорости неслись мимо зданий с перистилями, колоннами, фронтонами, возведенных здесь, в сердце ужасающего континента гор и степей, объезжали эспланады, форумы, площади-агора, скверы, и все это было таким, каким оно возникло за три тысячи километров отсюда на ватмане какого-нибудь получившего государственный диплом архитектора, поклонника восточного стиля, мегаломана и филантропа, творившего во славу бронзового всадника на горячем коне: его статуя возвышалась на главной площади, а сам он некогда дал городу свое имя, подобное шуршанию, хлопкам знамени на ветру.
Произведения
Критика