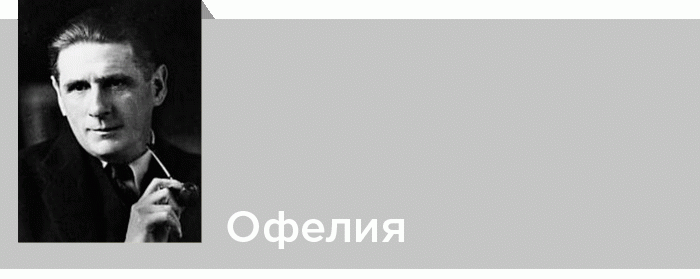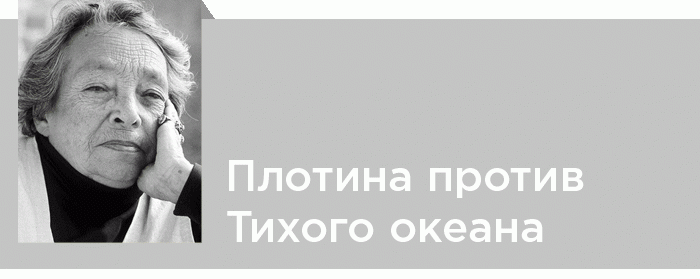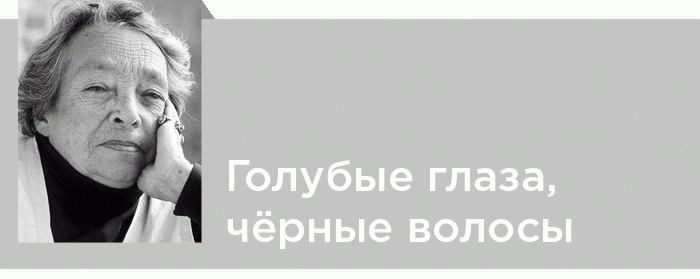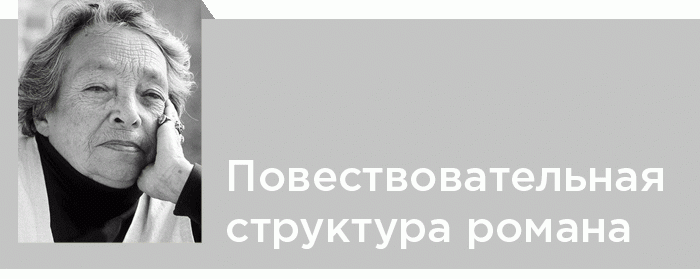Маргерит Дюрас. Боль
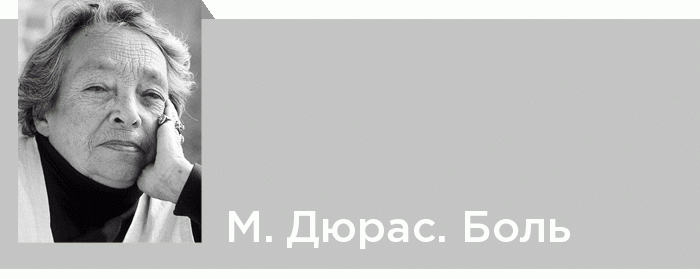
В. Ерофеев
После автобиографического романа «Любовник», повествования о первой девичьей любви, разворачивающегося на фоне семейных драм и расового антагонизма, писательница публикует дневники и новеллы военного времени, собранные под единым названием «Боль».
«Я знаю, — пишет она в предисловии к дневникам, — что я написала их, я узнаю свой почерк и подробности того, о чем рассказываю... но я не вижу саму себя, пишущую этот дневник. Когда я могла его написать, в каком году, в какое время дня, в каком доме? Ничего не помню». Тем не менее «Боль» — «это одна из самых важных для меня вещей. Слово «повествование» едва ли подходит. Я очутилась перед страницами, тщательно исписанными мелким, удивительно ровным и спокойным почерком. Я очутилась перед невероятным беспорядком мыслей и чувств, до которого не смела дотронуться: рядом с ним мне стало стыдно за литературу».
В XX веке стыд за литературу — нередкое писательское чувство. Разнообразная, изощренная «боль» действительности подавляет плоды литературного вымысла, размах подлинных катаклизмов превращает художественное воображение в смехотворные потуги индивидуального сознания. Писатель, отдающий себе в этом отчет, стремится скорее к добросовестному свидетельству, нежели к беллетристическому творчеству. Это вынужденное признание собственной слабости не только своеобразный род протеста против трагедий века, оно породило сомнение в возможностях традиционных жанров адекватно отразить современный мир.
Вот почему Дюрас, не доверяясь романному жанру, отдает предпочтение писательскому дневнику, сущность которого состоит в совмещении свидетельства и стиля.
Я не удивлюсь, если мы окажемся перед лицом литературной мистификации. Несмотря на заверения писательницы о том, что она не «смела дотронуться» до первозданного текста, сам характер опубликованного текста, пластика его композиции, отстраненность повествовательницы в оценках происходящего, порождающая довольно серьезные обобщения, — все это наводит на мысль об искусной игре с читателем или, во всяком случае, о возможности подобной игры. Быть может, эта игра или подозрения о ней и оказываются последней данью литературе, ослабевшей от тяжбы с реальностью, неким прощальным приветом скептического автора. Хотелось бы в это верить, ибо тогда прощание становится не окончательным, предвещает новую встречу, очередное литературное воскрешение.
Как бы то ни было, перед нами шесть разнохарактерных фрагментов текста о времени нацистской оккупации и освобождении Франции, текста о моральных, психологических перегрузках и парадоксах, рожденных военным гнетом.
Первый фрагмент, собственно, и представляет собой дневник — дневник мучительного, отчаянного ожидания. Робер Л., муж повествовательницы, депортирован в Германию за участие в Сопротивлении. О нем ничего не известно, кроме того, что он в каком-то немецком концлагере. На дворе апрель 1945 года; союзные армии в ходе наступления обнаруживают лагеря смерти, общественное мнение потрясено, уцелевшие узники, живые мощи, возвращаются на родину. Вернется ли Робер Л.?
Чем ближе победа, тем меньше надежд. Ждущая женщина сама становится похожа на тень. Она не ест, не спит, жизнь превращается в бредовое сновидение. Каждый день она ходит в Центр, куда возвращаются узники, расспрашивает их, никто ничего не знает. Голлистская бюрократия рождается у нее на глазах — смесь обходительности, высокомерия и салонности. Чужие люди. Новая власть. Вера в радикальные общественные перемены, связанная с Освобождением, все больше выглядит иллюзией. Однако живая ненависть к немцам еще не знает границ. Она распространяется даже на немецких детей — все это видит повествовательница, заносит в дневник, пораженная тем, как могла «одна из самых великих цивилизованных наций мира, столица музыки всех времен» превратить убийство в государственную индустрию, и ждет, ждет, ждет.
Наконец, на пределе отчаянья, слабая зарница надежды. Приехавшая группа депортированных видела Робера Л. в лагере всего несколько дней назад. Он жив, но истощен до крайности. Он не продержится и нескольких суток. Друзья по Сопротивлению достают военный грузовик и едут в Дахау спасать его. В освобожденном лагере карантин по случаю тифа. Друзья обманывают американских часовых и умыкают умирающего Робера. «Как только они отъехали от Дахау, Робер Л. заговорил. Он сказал, что знает, что живым до Парижа не доедет. Тогда он стал рассказывать, чтобы успеть выговориться перед смертью. Робер Л. никого не обвинял, никакую расу, никакой народ, он обвинил человека».
М. Дюрас, очевидно, соглашается с его мнением. Пока еще не время для философских дебатов. Робер Л. не умер по дороге. Но в Париже, уже дома, началась настоящая битва со смертью. Тщательное описание этой битвы — лучшие страницы книги: здесь и предельное эмоциональное напряжение, и показ всех стадий умирания, семнадцатидневной агонии, которой, однако, Робер Л. не поддался. На восемнадцатый день температура спала. Он начал есть, это было страшное зрелище, он постоянно хотел есть, его сдерживали, заботясь о его жизни, и тогда он впал в бешенство.
Когда Робер Л. окреп и встал на ноги, повествовательница — она тоже не проста! — сообщила ему, что любит другого, одного из тех двух, что ездили за ним в Дахау. Робер Л. пережил и это потрясение и написал книгу о лагерях смерти «Человеческая порода», название которой подтверждает верность Робера своему тезису. Он разочаровался не только в человеке, но и в христианстве. «Когда мне будут говорить о христианском милосердии, я скажу: Дахау».
Рассуждения самой Дюрас порождены стыдом скорее не за человеческую породу вообще, а за Европу. «Мы из расы тех, — читаем в ее дневнике, — кого сожгли в крематориях и удушили в Майданеке, но мы также из расы нацистов». В качестве единственного ответа на преступление Дюрас предлагает сделать его «преступлением всех», «разделить преступление». Здесь звучит идея примирения, свойственная определенной части французского общественного мнения 80-х, но отнюдь не 40-х годов. Однако ведь когда виноваты все, то, по сути дела, не виноват никто.
Итак, европейская цивилизация породила, что верно, и мучеников совести, и палачей. Их столкновение особенно зримо во втором фрагменте книги: «Господин X., названный здесь Пьером Рабье»: «речь идет о подлинной, вплоть до мельчайшей подробности, истории».
Хронологически эта история произошла раньше первой. Робера Л. только что арестовали, и повествовательница тщетно пытается получить разрешение на передачу. Наконец в парижском гестапо она знакомится с неким Рабье, сотрудником этой организации, который заинтересовался молодой женщиной.
Его интерес двояк. С одной стороны, он стремится завести с ней знакомство, чтобы нащупать следы основных деятелей Сопротивления, и прямо заявляет ей, что в обмен на руководителя парижского Сопротивления он освободил бы ее мужа; с другой же стороны, он увлечен ею как женщиной. Повествовательница вступает, с разрешения руководителей Сопротивления, в опасную игру: она хочет перехитрить гестаповца, выудить из него нужную для Сопротивления информацию. Психологический портрет Рабье любопытен. По своей натуре это миролюбивый человек, мечтающий о приобретении книжного магазина. Он убежден в непобедимости Германии и ждет лишь окончания войны, чтобы посвятить себя любимому делу — собиранию книг и редких предметов искусства. Но пока победа не наступила, он работает палачом и даже рисуется. Повествовательница ходит с ним по ресторанам, где собираются коллаборационисты, он помогает доставать ей продукты (она от них отказывается или отдает консьержке) и рассуждает обо всем на свете, лишний раз подтверждая ту старую мысль, что в обычной жизни палачи могут быть мирными и даже застенчивыми людьми. В последнюю встречу с Дюрас, когда союзники уже стоят под Парижем, он, сильно конфузясь, предлагает ей переспать с ним. Дюрас собрала о нем достаточно информации, чтобы после войны выступить в суде в качестве главного свидетеля обвинения. Благодаря ее показаниям эту застенчивую сволочь казнят. Дюрас, по-моему, его чуть-чуть жалко.
Чем дальше, тем более беллетризованной становится книга. В следующей новелле повествовательница берет имя Терезы, активной участницы Сопротивления, которая после освобождения Парижа оказывается в сложной моральной ситуации. Ей поручают провести допрос французского доносчика, грузного пятидесятилетнего мужчины. У Терезы муж в немецком концлагере (тот самый, которого она потом бросит), ее ненависть к врагу бескомпромиссна, и на вопрос о том, как заставить доносчика говорить, она отвечает, что любой способ годится. Два ее помощника по следствию приказывают доносчику раздеться, и вот «первый раз в своей жизни она оказывается перед мужчиной, раздетым не для любви». У него дряблые члены, он плохо пахнет. Он боится тех, кто боялся его, но ни в чем не желает признаваться. Помощники Терезы начинают его бить. Его сильно бьют.
В комнату заглядывают товарищи: мужчины и женщины. Зреет раскол. Моральное единство Сопротивления после победы уже не то. Некоторые, особенно женщины, хотя и не совсем уверенным голосом, выражают свое возмущение таким методом допроса. Доносчик наконец не выдерживает и признается. Тереза идет в бар объявить об этом друзьям. Ее никто не поздравляет. Тогда «ломается» сама Тереза.
«Нужно его отпустить, — говорит Тереза... Роже не уверен, что его нужно отпускать.
Чтобы духа его больше не было, — говорит Тереза.
Такую птицу, — говорит Роже, — они не захотят отпустить.
Я им объясню, — говорит Д.
Тереза начинает плакать».
Нужно ли было доносчика бить? Нужно ли было его отпускать? Где пределы дозволенности насилия? Когда вчерашние мученики становятся сами мучителями? Дюрас здесь ставит больные вопросы любой войны, но вместо ответа лишь катятся слезы: слезы обиды, бессилия и покаяния. Враг в следующей новелле молод, красив, обаятелен. Он бывший сотрудник фашистской полиции. Зовут его Тер. Он участвовал в налетах на еврейские кварталы. Он не знает, убил ли он кого-нибудь, стреляя из револьвера. Он во всем признается и считает, что заслуживает расстрела. И Тереза, и Д. испытывают к нему слабость. Он им нравится куда больше, чем человек из светского общества, который куда менее виновен, чем Тер, но которого они не без удовольствия третируют. Они везут Тера на машине через освобожденный Париж, по улицам которого можно ездить как угодно, поскольку еще нет полиции, и Тер в восторге от быстрой езды. «Тер был неисправим... Тер не был гордым, у него ничего не было в голове, кроме детства». Что стало с этим милым детенышем — неясно. Ясно, правда, что писательница сумела сказать о своем герое в конце новеллы гораздо точнее и жестче. «Но если Тер на свободе, — пишет Дюрас, — он должен быть с той стороны общества, где деньги делаются легко, где короткие мысли и где мистический образ начальника занимает место идеологии и оправдывает преступление».
Две последние новеллы, по словам Дюрас, «выдумка», «литература». И, надо сказать, «литература» в этой книге слабее дневника. Здесь ощущается надуманная метафизичность, некогда свойственная проходным вещам экзистенциалистской прозы. Особенно это касается первой «выдумки», в которой привлекательно-отталкивающий образ Тера превращается в некоего загадочного «постороннего» (здравствуй, Камю!), который, очевидно, бежит из Парижа, опасаясь возмездия, и за городом обжигается крапивой, которой никогда не видел. Его вымученная беседа с рабочим, созданная для показа двух чуждых друг другу миров, слишком абстрактна, чтобы иметь какой-либо социальный или человеческий смысл.
Во второй «выдуманной» новелле трогательно показана любовь французской женщины к семилетней еврейской девочке, которую она скрывает у себя дома от фашистов. Однако и здесь образы условны, схематичны, диалог претенциозен.
Л-ра: Современная художественная литература за рубежом. – 1986. – № 4. – С. 93-96.
Произведения
Критика