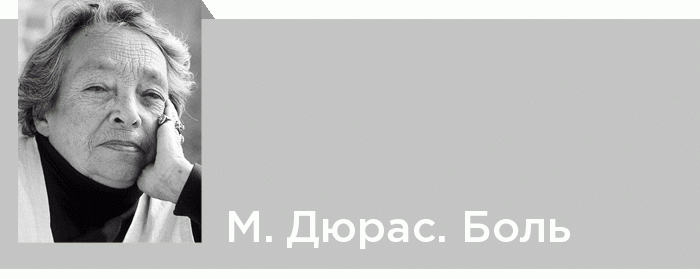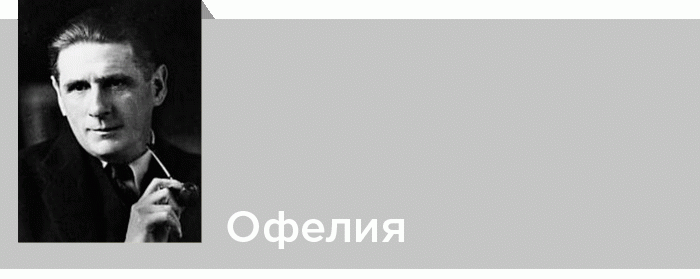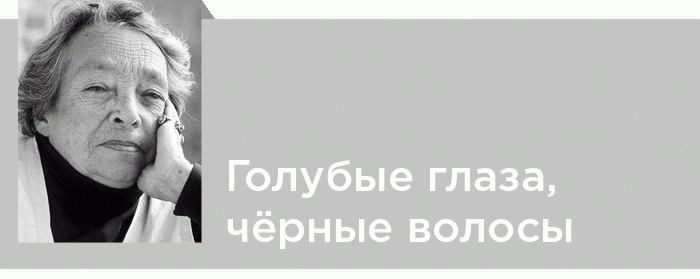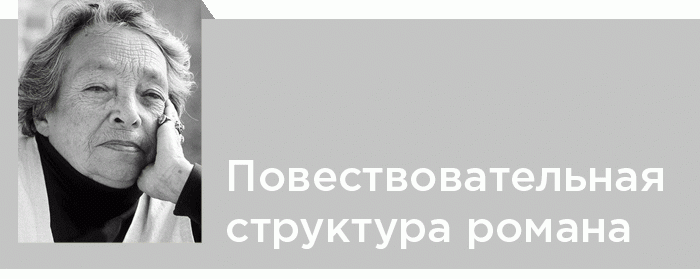Маргерит Дюрас. Плотина против Тихого океана
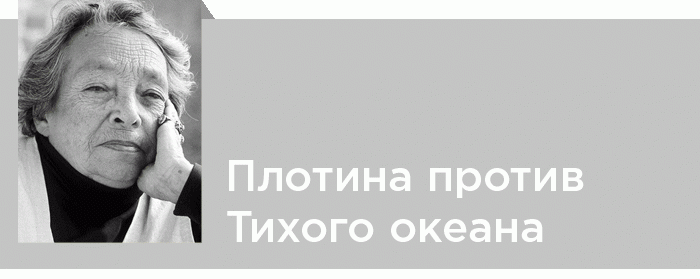
(Отрывок)
Посвящается Роверу
Часть первая
Идея купить эту лошадь понравилась им тогда всем троим. Пусть хоть затем, чтобы заработать на курево для Жозефа. Во-первых, это была какая-никакая, а все-таки идея, и это значило, что у них еще могут возникать идеи. К тому же лошадь хоть как-то связывала их с внешним миром, и они чувствовали себя менее одинокими, еще способными что-то получить от этого мира, пусть немного, даже ничтожно мало, но все-таки получить нечто, чего у них до сих пор не было, и забрать к себе, на пропитанную солью равнину, где сами они давно пропитались тоской и горечью. Такая это штука, перевозки: даже из пустыни, где ничего не растет, можно что-то вытянуть, перевозя через нее тех, кто там не живет, людей из большого мира.
Это продолжалось неделю. Лошадь оказалась слишком старой — гораздо старше, по лошадиным меркам, чем мать, — настоящей столетней старухой. Она честно пыталась делать то, что от нее требовали и что было явно выше ее сил, потом околела.
Когда они снова остались без лошади на этой дикой равнине, им стало тошно, так тошно среди вечного бесплодия и одиночества, что они тут же решили отправиться назавтра в Рам, поглядеть на людей и хоть немного развеяться.
Их ожидала там встреча, которой суждено было изменить всю их жизнь.
Выходит, всякая идея хороша, если только она заставляет человека шевелиться и что-то делать — пусть даже шиворот-навыворот, например, покупать издыхающих лошадей. Да, всякая идея хороша, даже если она оборачивается жалкой неудачей, потому что по крайней мере обостряет жажду перемен, которая никогда не овладела бы ими с такой силой, если бы они с самого начала считали свои идеи никуда не годными.
Итак, в тот вечер, около пяти часов, издали, со стороны Рама, в последний раз раздался жесткий стук повозки Жозефа.
Мать покачала головой.
— Что-то рано, наверно, желающих нашлось не много.
Вскоре послышались крики Жозефа, щелканье кнута, и повозка появилась на дороге. Жозеф сидел впереди. Сзади — две малайки. Лошадь шла еле-еле, даже не шла, а волочила ноги, царапая копытами дорогу. Жозеф нахлестывал ее кнутом, но он мог с тем же успехом хлестать дорогу. Поравнявшись с бунгало, Жозеф остановился. Женщины слезли и двинулись пешком по направлению к Каму. Жозеф спрыгнул с повозки, взял лошадь под уздцы и свернул на дорожку, ведущую к бунгало. Мать ждала его на площадке перед верандой.
— Она вообще не желает больше идти, — сообщил Жозеф.
Сюзанна сидела в тени под бунгало, прислонясь к свае. Она встала и подошла к ним поближе, не выходя, однако, на солнце. Жозеф распряг лошадь. Ему было очень жарко, по щекам из-под шлема стекали струйки пота. Покончив с этим делом, он отступил от лошади на шаг и принялся ее осматривать. Мысль затеять эти перевозки, чтобы попытаться хоть чуть-чуть подработать, пришла ему в голову на прошлой неделе. За двести франков он купил все, что нужно, — лошадь, повозку и упряжь. Но не мог же он знать, что лошадь попадется такая старая? По вечерам, когда ее распрягали, она неизменно отправлялась на покрытый молодыми всходами склон перед бунгало и стояла там часами, свесив голову. Изредка она принималась щипать траву, но словно по рассеянности, как будто дала себе зарок больше никогда не есть, но на секунду вдруг забылась. Никто не понимал, что с ней, даже учитывая ее старость. Накануне Жозеф принес ей рисовую лепешку и несколько кусков сахара в надежде пробудить у нее аппетит, но, понюхав угощение, лошадь равнодушно вернулась к сомнамбулическому созерцанию всходов риса. Наверняка за всю предыдущую жизнь, прошедшую в перевозках древесины из леса на равнину, она никогда не ела ничего, кроме желтой высохшей травы на раскорчевках, и в теперешнем своем состоянии уже не имела желания пробовать что-то новое.
Жозеф подходил к ней, гладил по холке.
— Ешь! — кричал он. — Ешь!
Лошадь не ела. Жозеф вначале говорил, что у нее, наверно, туберкулез. Мать говорила, что нет, просто лошадь, вроде нее самой, хочет тихо подохнуть, потому что ей надоело жить. И все-таки до сих пор она не только каждый день проделывала путь от Рама до Банте и обратно, но и отправлялась сама по вечерам на склон — еле волоча ноги, но все-таки сама. Сегодня — нет, сегодня она стояла перед Жозефом неподвижно. Только время от времени слегка пошатывалась.
— Дело — дерьмо, — сказал Жозеф. — Она даже не хочет идти пастись.
Подошла мать. Она была босиком, в большой соломенной шляпе, надвинутой до бровей. Жидкая седая косица, перехваченная резинкой, вырезанной из автомобильной камеры, свисала ей на спину. Широкое гранатового цвета платье без рукавов, сшитое из местного производства материи, было вытерто на выпуклостях груди, низкой, но все еще полной, свободно колыхавшейся под платьем.
— Я говорила тебе, не покупай ее! Двести франков за подыхающую клячу и полуразвалившийся драндулет!
— Заткнись, если не хочешь, чтоб я свалил отсюда, — сказал Жозеф.
Сюзанна вышла из-под бунгало и тоже подошла к ним. На ней, как и на матери, была соломенная шляпа, из-под которой выбивалось несколько каштановых прядей с рыжеватым отливом. Она была босиком, как Жозеф и мать, в черных штанах до колен и голубой кофте без рукавов.
— Свалишь — правильно сделаешь, — сказала Сюзанна.
— Тебя забыл спросить, — огрызнулся Жозеф.
— А напрасно!
Мать бросилась на дочь, пытаясь дать ей оплеуху. Сюзанна увернулась и снова укрылась в тени под бунгало. Мать принялась хныкать. У лошади, видимо, почти отнялись задние ноги. Она не шла. Жозеф бросил недоуздок, за который тянул ее, и стал подталкивать сзади. Рывками, по-прежнему шатаясь, лошадь доковыляла до склона. Там она остановилась и уткнулась мордой в нежную зелень всходов. Жозеф, мать и Сюзанна застыли, с надеждой глядя на нее. Но напрасно. Она потерлась мордой об зелень, еще один раз, последний, приподняла голову, потом уронила ее снова, и голова безжизненно, тяжело повисла на длинной шее, так что толстые губы касались верхушек стеблей.
Жозеф постоял в нерешительности, круто повернулся, закурил и зашагал к повозке. Он свалил упряжь в кучу на переднем сиденье и поволок повозку к дому.
Обычно он оставлял ее у лестницы, но сегодня затащил под бунгало и поставил в глубине, между центральными сваями.
Потом задумался, что бы еще такое сделать. Он обернулся, взглянул еще раз на лошадь и двинулся дальше к сараю. Тут он словно впервые заметил сестру, которая сидела, прислонясь спиной к свае.
— Какого черта ты тут торчишь?
— Жарко, — сказала Сюзанна.
— Всем жарко.
Он вошел в сарай, вытащил мешок карбида и отсыпал в жестянку. Потом отнес мешок назад в сарай, вернулся и стал разминать карбид пальцами. Он потянул носом воздух и сказал:
— Оленухи ужасно воняют, надо их выкинуть. Не понимаю, как ты можешь здесь сидеть.
— Они воняют меньше, чем твой карбид.
Он встал и снова направился к сараю с жестянкой в руках. На полпути передумал, вернулся к повозке и изо всей силы пнул ногой колесо. После чего решительным шагом поднялся по лестнице в бунгало.
Мать снова взялась за прополку. Она уже в третий раз сажала красные канны на склоне, примыкавшем к площадке перед бунгало. Они неизменно засыхали, но мать упорствовала. Впереди капрал перекапывал политую предварительно землю. Он глох с каждым днем, ей приходилось кричать все громче и громче, давая ему указания. Недалеко от моста, почти у самой дороги, жена и дочь капрала ловили в болотце рыбу. Уже не меньше часа они сидели в грязи на корточках и удили. Эта рыба, вечно одна и та же, которую жена и дочь капрала вылавливали для них каждый вечер все в той же луже перед мостом, была их основной пищей уже больше трех лет.
Под бунгало можно было посидеть более или менее спокойно. Жозеф оставил сарай открытым, оттуда веяло прохладой и воняло оленухами. Их было три, и один олень. Жозеф подстрелил оленя и одну из оленух позавчера, а двух других три дня назад — эти уже не кровоточили. У позавчерашних сквозь разжатые зубы сочилась кровь. Жозеф охотился часто, иногда через ночь. Мать ругалась, что он зря переводит порох, убивая оленух, которых через три дня приходится выбрасывать в речку. Но Жозеф был не в состоянии вернуться из леса с пустыми руками. И все трое делали вид, будто собираются их есть, подвешивали под бунгало и ждали, пока они протухнут, чтобы выбросить. Их уже тошнило от этих оленух. С некоторых пор они предпочитали темное мясо длинноногих ибисов, которых Жозеф стрелял в устье речки, в больших соленых болотах, окружавших концессию со стороны моря.
Сюзанна ждала, когда Жозеф позовет ее купаться. Она не хотела первая выходить из-под бунгало. Лучше подождать. Когда рядом был Жозеф, мать не так ругалась.
Жозеф спустился.
— Давай быстрей! Ждать я тебя не буду.
Сюзанна побежала наверх надевать купальник. Не успела она переодеться, как мать, видевшая, что она поднимается по лестнице, уже начала кричать. Она кричала не для того, чтобы ее лучше расслышали. Она орала просто так, что в голову придет, ни к кому не обращаясь, без всякой связи с происходящим. Когда Сюзанна вышла, она обнаружила, что Жозеф, не реагируя на вопли матери, снова воюет с лошадью. Он изо всех сил тянул вниз ее голову, пытаясь пригнуть морду к траве. Лошадь не сопротивлялась, но и не ела. Сюзанна подошла к нему.
— Ну, пошли.
— Похоже, всё, — печально сказал Жозеф. — Она подыхает.
Он отошел скрепя сердце, и они вместе двинулись в сторону деревянного моста, к самому глубокому месту речки.
Когда дети видели, что Жозеф идет купаться, они бросали свои игры на дороге и неслись к воде. Те, кто подбегали первыми, ныряли вслед за ним, остальные сыпались гроздьями позади в серую пену. Обычно Жозеф играл с ними. Он сажал их на плечи, подбрасывал, а иногда, позволив кому-нибудь из них уцепиться себе за шею, плыл по течению с замирающим от восторга мальчишкой чуть ли не до самой деревни за мостом. Но сегодня у него не было настроения играть. Он кружил в узкой глубокой заводи, как рыба в банке. Лошадь вдали, на склоне, не шевелилась. Среди выжженной солнцем каменистой равнины она казалась неодушевленным предметом.
— Не знаю, что с ней, — сказал Жозеф, — но она подыхает, это точно.
Он снова нырял, и вслед за ним ныряли дети. Сюзанна плавала хуже, чем он. Время от времени она выходила из воды, садилась на берегу и смотрела на дорогу, тянувшуюся мимо бунгало от Рама к Каму, и дальше, намного дальше, к городу — самому большому городу в колонии, столице, лежащей за восемьсот километров отсюда. Настанет день, когда перед бунгало наконец остановится автомобиль. Из него выйдет мужчина или женщина, чтобы что-то спросить или попросить помощи у нее или у Жозефа. Она не представляла себе, что именно они могут спросить: на всей равнине была одна-единственная дорога, которая вела в город из Рама через Кам. Сбиться с пути было невозможно. Однако нельзя предугадать всего, и Сюзанна не теряла надежды. Может быть, какой-то мужчина — почему бы и нет? — остановится просто потому, что заметит ее с моста. Вполне возможно, она понравится ему, и он предложит ей уехать с ним в город. Но, не считая автобуса, машин по дороге проезжало мало, две-три в день, не больше. Это были одни и те же машины охотников, которые ехали в Рам, за шестьдесят километров отсюда, и через несколько дней возвращались назад, непрерывно гудя, чтобы разогнать с дороги ребятню. Задолго до того, как они в облаке пыли выезжали на открытое место, из лесу доносились их приглушенные, но мощные гудки. Жозеф тоже ждал автомобиля, который остановится перед бунгало. За рулем будет женщина, платиновая блондинка, накрашенная и курящая сигареты «555». Она могла бы, скажем, попросить его для начала помочь ей подкачать колесо.
Примерно каждые десять минут мать выглядывала из-за канн и, размахивая руками, что-то кричала.
Когда они были вдвоем, она к ним не подходила. Только орала. После крушения плотин она почти ни о чем не могла говорить, не срываясь на крик. Раньше Жозеф и Сюзанна не тревожились, когда она выходила из себя. Но после истории с плотинами она заболела и даже, если верить доктору, могла умереть. У нее уже было три приступа, и каждый из трех, по словам доктора, мог оказаться смертельным. Ей можно было дать покричать, но не слишком долго. Это грозило новым приступом.
Доктор считал причиной ее болезни крушение плотин. Наверно, он был не совсем прав. Такое озлобление могло накопиться только из года в год, постепенно, день за днем. Тут была не одна какая-то причина. Их было сотни, в том числе и крушение плотин, несправедливость мира, беззаботный вид собственных детей, купающихся в речке…
Между тем начинала мать вовсе не как неудачница, и ничто не заставляло предположить, что к концу жизни ее невезение приобретет столь сокрушительный размах и у врача будет повод сказать, что она от этого умирает, — умирает от невзгод.
Она родилась в крестьянской семье и так хорошо занималась в школе, что родители дали ей возможность учиться дальше. Получив педагогический диплом, она два года учительствовала в деревне на севере Франции. Был 1899 год. По воскресеньям, в мэрии, она иногда мечтательно останавливалась перед колониальными рекламными плакатами. «Вступайте в колониальную армию!», «Юноши и девушки! В колониях вас ждет богатство!» В тени банановых ветвей, гнущихся под тяжестью спелых плодов, молодые супруги-переселенцы в белоснежных одеждах качались в креслах-качалках, а вокруг хлопотали улыбающиеся туземцы. Она вышла замуж за учителя, которому тоже не сиделось в северной деревне, — такую же, как и она, жертву сумрачных писаний Пьера Лоти. Вскоре после свадьбы они подали прошение о приеме их в штат колониальных учителей и получили назначение в огромную колонию, именовавшуюся в те времена Французский Индокитай.
Жозеф и Сюзанна родились уже там, в первые два года после переезда. Когда родилась Сюзанна, мать бросила работу в государственной школе. Она давала теперь лишь частные уроки французского. Муж ее был директором школы для туземцев, и, по ее рассказам, они жили тогда на широкую ногу, хотя имели двоих детей. Это были, бесспорно, лучшие годы ее жизни, счастливые годы. Во всяком случае, так она говорила. Она вспоминала о том времени как о счастливом периоде надежд, об острове в океане. Она говорила о нем все меньше и меньше, по мере того как старела, но когда все-таки говорила, то всегда с той же страстью. И всякий раз находила новые совершенства в этом беспредельном совершенстве, какое-нибудь до сих пор неизвестное им достоинство своего мужа или новое доказательство их былого богатства, которое постепенно приобретало в ее рассказах черты роскоши, в чем Жозеф с Сюзанной все же слегка сомневались.
Когда муж ее умер, Сюзанна и Жозеф были еще совсем маленькие. О времени, наступившем после его смерти, она всегда рассказывала неохотно. Говорила, что было трудно и что она до сих пор не понимает, как ей удалось тогда выкарабкаться. В течение двух лет она продолжала давать уроки французского. Но этого не хватало, и к урокам французского прибавились уроки фортепиано. Потом и этого стало не хватать, дети росли, и она устроилась в кинотеатр «Эдем» тапершей. Там она проработала десять лет. За это время ей удалось скопить некоторую сумму денег, и она подала в Генеральное управление колониального кадастра прошение о покупке концессии.
Ее вдовство, былая принадлежность к учительскому сословию и то, что на ее иждивении находилось двое детей, давали ей право первоочередности в приобретении концессии.
И вот шесть лет назад она приехала сюда, на равнину, вместе с Жозефом и Сюзанной, в стареньком «ситроене В. 12», который был у них, сколько они себя помнили.
В первый год мать сразу обработала половину всей земли. Она надеялась с первого же урожая возместить большую часть расходов на постройку бунгало. Но июльский прилив, наступая на равнину, затопил посевы. Сочтя, что она случайно пострадала от какого-то исключительного по своей силе прилива, и не слушая местных жителей, пытавшихся ее переубедить, она на следующий год начала все сначала. Море опять все затопило. На сей раз ей пришлось посмотреть правде в глаза: купленный участок был непригоден для обработки. На нее ежегодно обрушивалось море. До какой отметки доберется в тот или иной год вода, предсказать было невозможно, но почва все равно оказывалась отравленной. За вычетом примыкавших к дороге пяти гектаров, где она построила бунгало, ее десятилетние накопления были смыты волнами Тихого океана.
Все произошло из-за ее невероятной наивности. Десять лет она самоотверженно трудилась в «Эдеме», получала гроши, но зато жила спокойно и чувствовала себя защищенной. Она вышла из этого десятилетнего заточения такой же, какой вступила в него, — невинной, одинокой, не испорченной соприкосновением с силами зла, но безнадежно несведущей в делах колониальных хищников. Пригодные для обработки участки продавались, как правило, лишь за двойную цену. Половина этой суммы негласно вручалась чиновникам, ведавшим распределением наделов. Именно они реально держали в руках весь рынок концессий и становились день ото дня все более и более ненасытными. Настолько ненасытными, что мать все равно не сумела бы удовлетворить их зверский аппетит, который не могли умерить никакие ссылки на особые обстоятельства. Поэтому, будь она предупреждена и пожелай она избежать покупки непригодной земли, ей пришлось бы отказаться от приобретения какой бы то ни было концессии вообще.
Когда мать, хоть и с опозданием, но все-таки поняла это, она отправилась к землемерам Кама, от которых зависело получение земель на равнине. Она и тут оказалась настолько наивна, что начала оскорблять их и грозить жалобами в высшие инстанции. Но они лишь недоуменно разводили руками. Вероятно, в этом недоразумении виноват их предшественник, давно отбывший в метрополию. Мать упорно продолжала наседать на них, и, чтобы отвязаться от нее, они пустили в ход угрозы. Если она не уймется, они отберут у нее землю раньше положенного срока. Это был их самый действенный довод, чтобы заткнуть своим жертвам рот. Последние, естественно, предпочитали иметь хоть какую-нибудь концессию, пусть даже призрачную, чем никакой вообще. Участки предоставлялись в пользование всегда лишь условно. Если по истечении определенного срока они не были полностью возделаны, земельное ведомство имело право их отобрать. Ни одна концессия на равнине не была окончательно передана в собственность владельцам. Существование таких концессий позволяло земельному ведомству с легкостью наживаться на продаже других, действительно плодородных участков. Пользуясь правом нарезать наделы по своему усмотрению, землемеры с выгодой для себя распоряжались огромными площадями непригодных земель, регулярно передаваемых во владение и не менее регулярно отбираемых, которые и составляли их постоянный капитал.
На пятнадцати наделах равнины Кама они поселили, разорили, выгнали, снова поселили, снова разорили и снова выгнали около сотни семей. Те немногие концессионеры, которые удержались на равнине, жили перепродажей перно или опиума и покупали соучастие земельных чиновников, выплачивая им долю со своих нерегулярных — «нелегальных», как те говорили, — доходов.
Праведный гнев матери не избавил ее два года спустя от первой земельной инспекции. Эти инспекции, чисто формальные, сводились к посещению владельца концессии, дабы освежить ему кое-что в памяти. Ему напоминали, что первый срок истек.
— Ни один человек в мире, — молил несчастный, — не мог бы ничего вырастить на этой земле…
— Неужели вы полагаете, — вопрошал чиновник, — что правительство колонии могло выставить на продажу участок, непригодный для обработки?
Мать, которая уже начала кое-что понимать в тайнах коррупции, выдвинула в качестве довода существование бунгало. Оно было недостроено, однако бесспорно представляло собой начало освоения земли, что давало право на продление срока. Чиновники вынуждены были это признать. Впереди у нее оказался год. Этот год, третий по счету, она решила не тратить на бесплодные труды прошлых лет и предоставила океану полную свободу. Впрочем, если бы она и захотела сеять, у нее не нашлось бы на это средств. Чтобы довести до конца постройку бунгало, она уже раз или два обращалась за кредитом в банк. Но банки ничего не предпринимали, не запросив земельное ведомство. Получить кредит матери удалось лишь под залог недостроенного бунгало, для достройки которого она и просила денег. Бунгало, по крайней мере, принадлежало ей, было ее полной собственностью, и она каждый день радовалась, что затеяла это строительство. Чем больше она нищала, тем большую ценность приобретало бунгало в ее глазах.
За первой инспекцией последовала вторая. Это произошло через неделю после крушения плотин. Но Жозеф был уже достаточно взрослым, чтобы вмешаться. И отлично владел ружьем. Он хорошенько пугнул им инспектора, тот сразу сбавил тон и укатил прочь на маленьком автомобильчике, на котором обычно совершал свои разъезды. С этого дня они на время оставили мать в покое.
Получив, благодаря бунгало, отсрочку, мать осмелела и поставила в известность чиновников Кама насчет своего нового проекта. Она задумала предложить крестьянам, прозябавшим в нищете на соседних участках, организовать вместе с ней строительство плотин против морских приливов. Это выгодно всем. Плотины протянутся вдоль океана и вверх вдоль реки до границы июльских приливов. Чиновники удивились, сочли затею невыполнимой, но возражать не стали. Ей было дозволено изложить свой план в письменной форме и выслать им почтой. В принципе, заявили они, осушение земель находится в компетенции правительства, но, насколько они знают, нет такого закона, который запрещал бы людям строить плотины на своем участке. При условии, однако, что Генеральное управление поставлено в известность и местное земельное ведомство дало соответствующее разрешение. После нескольких бессонных ночей, проведенных за составлением этой бумаги, мать отослала ее и стала ждать разрешения. Ждала она очень долго, не отчаиваясь, потому что уже привыкла к таким ожиданиям. Эти ожидания были единственными незримыми ниточками, связывающими ее с могущественными силами внешнего мира, от которых она зависела целиком и полностью, — с земельным ведомством и с банком. Прождав много недель, она решила сама отправиться в Кам. Да, служащие земельного ведомства получили ее проект. А отсутствие ответа объясняется тем, что осушение ее участка их совершенно не касается. Тем не менее они дали молчаливое согласие на строительство. Мать уехала, гордая достигнутым результатом.
Для плотин нужны были бревна. Эти расходы она, естественно, полностью взяла на себя. Она как раз только что заложила недостроенное бунгало. Все деньги, полученные в банке, ушли на покупку бревен, и достроить бунгало так и не удалось.
Доктор был не так уж неправ. Вполне вероятно, что именно с той поры все всерьез и началось. Да и кто, в самом деле, мог бы сохранить хладнокровие и смотреть, не впадая в отчаяние и ярость, как эти плотины, трепетно возводимые сотнями крестьян, пробужденных наконец от тысячелетнего оцепенения внезапной и шальной надеждой, рушатся как карточный домик, прямо на глазах, за одну ночь, под стихийным и неумолимым натиском океана? И, не желая задумываться о том, как вообще могла возникнуть столь безрассудная надежда, любой, наверно, склонен был бы объяснить всё — начиная с извечной нищеты этой равнины и кончая болезнью матери — событиями той роковой ночи и держаться за это поверхностное, но соблазнительное объяснение, свалив всю вину на разрушительные силы природы.
Обычно Жозеф заставлял Сюзанну купаться подолгу. Он хотел, чтобы она научилась как следует плавать и могла купаться вместе с ним в море, в Раме. Но Сюзанна уклонялась. Иногда, особенно в сезон дождей, когда весь лес затопляло за одну ночь, течение несло трупик какой-нибудь утонувшей белки, мускусной крысы или птенца павлина, и это действовало на нее угнетающе.
Поскольку мать не прекращала свое нытье, Жозеф вышел из воды. Сюзанна оторвалась от ожидания автомобилей и последовала за ним к бунгало.
— К черту все это дерьмо, — сказал Жозеф, — завтра едем в Рам.
Он посмотрел издали на мать.
— Мы идем, — крикнул он. — Не ори так!
Он перестал на время думать о лошади, потому что думал о матери. Он торопился к ней. Мать стала плаксивой с тех пор, как начала болеть. Она стояла вся красная и продолжала жаловаться.
— Чем ругаться, ты бы лучше таблетки приняла, — сказала Сюзанна.
— Чем я прогневила небо, — вопила мать, — почему у меня такие паскудные дети?
Жозеф прошел мимо и поднялся по лестнице в бунгало, потом спустился со стаканом воды и таблетками. Мать, как обычно, сначала стала отказываться. И как обычно, в конце концов приняла. Каждый вечер после купания им приходилось давать ей лекарство, чтобы ее успокоить. Потому что в глубине души она не могла вынести, когда они хоть ненадолго отвлекались от тягот их общей жизни на равнине. «Она стала вредная», — говорила Сюзанна. Жозеф молчал, ему нечего было возразить.
Сюзанна пошла в кабинку для мытья, облилась водой из кувшинов и оделась. Жозеф не обливался; он так и оставался в плавках до следующего утра. Когда Сюзанна вышла из кабинки, на веранде играл патефон, Жозеф лежал в шезлонге и уже не думал больше о матери, а снова думал о лошади, поглядывая на нее с отвращением.
— Невезуха, — сказал Жозеф.
— Продай патефон и купи себе другую, хорошую, тогда ты сможешь делать три ездки вместо одной.
— Если я продам патефон, я свалю отсюда в тот же день.
Патефон занимал серьезное место в жизни Жозефа. У него было пять пластинок, и он заводил их каждый вечер после купания. Временами, когда ему делалось совсем тошно, он крутил их без конца одну за другой чуть ли не до полуночи, пока мать не вставала во второй или в третий раз и не грозила выкинуть патефон в реку. Сюзанна взяла кресло и села рядом с братом.
— Если ты продашь патефон и купишь лошадь, то через полмесяца ты купишь себе новый.
— Полмесяца без патефона — и я сваливаю!
Сюзанна отстала от него.
Мать готовила в столовой ужин. Она уже зажгла ацетиленовую лампу.
В этих краях темнело быстро. Как только солнце скрывалось за горой, крестьяне разводили огонь, чтобы отпугивать хищников, а дети, визжа, бежали домой, в хижины. Едва они начинали что-то понимать, родители приучали их остерегаться страшной малярийной ночи и диких зверей. Впрочем, тигры в этих местах были куда менее голодны, чем дети, и нападали на них очень редко. Не из-за хищников гибли дети в болотистой низине Кама, омываемой с западной стороны Южно-Китайским морем, которое мать упорно именовала Тихим океаном, — название «Южно-Китайское море» казалось ей несколько захолустным, ибо в юности она грезила о «Тихом океане», а вовсе не о каких-то там морях, которые только все запутывали, — и обнесенной с востока длинной горной цепью, которая начиналась далеко в глубине азиатского континента, дугой тянулась вдоль побережья и спускалась к Сиамскому заливу, где уходила под воду и вновь выныривала на множестве островов, становившихся все мельче и мельче, но одинаково густо покрытых темными тропическими зарослями. Дети гибли здесь вовсе не из-за тигров, а от голода и от болезней, вызванных голодом, да на дороге, попадая под колеса машин. Дорога пересекала узкую равнину по всей ее длине. Она была задумана и проложена для того, чтобы перевозить будущие богатства равнины в Рам, но равнина была настолько бесплодна, что там не оказалось никаких богатств, кроме детей с розовыми ротиками, вечно разинутыми от голода. Так что дорога служила, в результате, только охотникам, которые проезжали по ней не останавливаясь, и детям, собиравшимся там для игр в голодные стайки: дети, даже голодные, не могут не играть.
— Пойду ночью в лес, — неожиданно объявил Жозеф.
Мать бросила возиться у плиты и встала перед ним.
— Не пойдешь! Я говорю, не пойдешь!
— Пойду, не спорь, это бесполезно.
Когда Жозеф слишком долго сидел на веранде лицом к лесу, его охватывало непреодолимое желание охотиться.
— Возьми меня с собой, — попросила Сюзанна. — Возьми, Жозеф.
Мать раскричалась еще больше.
— Не хватало еще брать женщин на ночную охоту, — рассердился Жозеф. — А ты кончай орать, а то я уйду сию же минуту.
Он отправился к себе в комнату и занялся маузером и патронами. Мать, причитая, вернулась в столовую и снова принялась за готовку. Сюзанна осталась на веранде. Когда Жозеф уходил на ночную охоту, они ложились поздно. Мать пользовалась случаем, чтобы, как она выражалась, «привести в порядок свои счета». Какие счета — неизвестно. Но, во всяком случае, в эти ночи она не спала. Время от времени она отрывалась от бумаг, выходила на веранду, прислушивалась к лесным звукам, вглядывалась во тьму, стараясь высмотреть свет от фонаря Жозефа. Потом снова усаживалась за работу, за свою «безумную бухгалтерию», как говорил Жозеф.
— Идите есть! — позвала мать.
На ужин опять были ибисы и рис. Жена капрала принесла несколько поджаренных рыбешек.
— Опять бессонная ночь, — сказала мать.
Она казалась еще бледнее от фосфоресцирующего света лампы. Лекарство начало действовать. Она зевнула.
— Не волнуйся, мама, — ласково сказал ей Жозеф, — я вернусь непоздно.
— Так ведь я не за себя боюсь! Что будет с вами, если меня удар хватит?
Она встала, вынула из буфета коробку соленого масла и банку сгущенного молока и поставила перед ними на стол. Сюзанна щедро полила рис сгущенкой. Мать сделала себе несколько бутербродов с маслом и ела их, окуная в чашку с черным кофе. Жозеф ел ибиса. Сочное темное мясо с кровью.
— Рыбой воняет, — сказал Жозеф, — зато хоть сытно.
— Это как раз то, что нужно, — сказала мать. — Будь осторожен, Жозеф.
Когда ей надо было впихнуть в них еду, она всегда бывала с ними ласкова.
— Не волнуйся, я обещаю тебе быть осторожным.
— Значит, сегодня мы опять не поедем в Рам, — сказала Сюзанна.
— Поедем завтра, — сказал Жозеф. — Но в Раме ты все равно никого не подцепишь, они там все женатые, кроме Агости.
— Ни за что не отдам ее за Агости, — сказала мать, — даже если он станет в ногах валяться.
— Он и не просит, — заметила Сюзанна. — Но искать действительно надо не здесь.
— Он бы умер от счастья, — сказала мать, — я знаю, что говорю, но у него ничего не выйдет.
— Он даже не думает о ней, — сказал Жозеф. — Да, это дело трудное. Бывает, конечно, что некоторые выходят замуж, не имея ни гроша, но тогда надо быть очень красивой, и то это редкий случай.
— Ладно, — сказала Сюзанна, — я не только из-за этого хочу в Рам. Когда приходит пароход, в Раме весело, в буфете горит электричество, и там потрясающий патефон.
— Да отвяжись ты со своим Рамом, — сказал Жозеф.
Мать положила на стол рисовый хлеб, который каждые три дня привозила машина из Кама. Потом начала расплетать косу. Между ее огрубелыми пальцами волосы шуршали, как сухая трава. Она уже поела и теперь смотрела на своих детей. Когда они ели, она садилась напротив и следила за каждым их движением. Ей хотелось, чтобы Сюзанна еще подросла, и Жозеф тоже. Ей казалось, что это еще возможно, хотя Жозефу уже исполнилось двадцать, и он был намного выше ее самой.
— Поешь ибиса, — сказала она Сюзанне. — Сгущенка — это не еда.
— Вдобавок от нее портятся зубы, — сказал Жозеф. — У меня из-за нее все задние зубы сгнили. И теперь гниют передние.
— Будут деньги, вставим тебе новые, — сказала мать. — Возьми ибиса, Сюзанна.
Сюзанна положила себе ибиса. Ее мутило от этого мяса, и она с трудом ела маленькими кусочками.
Жозеф кончил есть и теперь заливал масло в охотничий фонарь. Продолжая переплетать косу, мать готовила ему кофе. Наполнив фонарь, Жозеф зажег его, прикрепил к шлему и надел шлем на голову. Затем он вышел на веранду проверить, удобно ли падает свет. Впервые за весь вечер он, кажется, забыл о лошади. Но тут он увидел ее снова в падавшем из окна свете лампы.
— Проклятье! — крикнул он. — Она, кажется, и правда сдохла.
К нему подбежали мать и Сюзанна. В круге света они тоже увидели лошадь. Она рухнула на землю всем телом. Голова лежала на самом верху склона, и зарывшаяся в посевы морда касалась серой воды.
— Ужасно, — сказала мать.
Она горестно поднесла руку ко лбу и неподвижно застыла рядом с Жозефом.
— Ты бы подошел, посмотрел, — сказала она наконец. — Может, она еще жива.
Жозеф медленно спустился по ступенькам и направился к склону, впереди скользил свет закрепленного на шлеме фонаря. Не дожидаясь, пока он подойдет к лошади, Сюзанна вернулась в бунгало, снова села за стол и попыталась доесть свой кусок ибиса. Но аппетит у нее пропал окончательно. Она не стала доедать и пошла в гостиную. Там она села, поджав ноги, в ротанговое кресло и повернулась к лошади спиной.
— Бедное животное, — стонала мать. — Подумать только, ведь еще сегодня днем она прошла всю дорогу от Банте!
Сюзанна слышала ее сетования, не видя ее. Она наверняка стояла на веранде и не спускала глаз с Жозефа. На прошлой неделе в деревушке за бунгало умер ребенок. Мать сидела возле него всю ночь и, когда он умер, причитала точно так же.
— Какое несчастье! — кричала она. — Ну что, Жозеф?
— Она еще дышит.
Мать вернулась в столовую.
— Что делать? Сюзанна, сходи возьми в машине старое клетчатое одеяло.
Сюзанна спустилась под бунгало, стараясь не смотреть в сторону лошади. Она взяла с заднего сиденья одеяло, вернулась и подала его матери. Мать пошла с одеялом к Жозефу, и через несколько минут они вместе вернулись в бунгало.
— Ужасно, — сказала мать. — Она посмотрела на нас.
— Хватит про лошадь! — сказала Сюзанна. — Завтра поедем в Рам.
— Что? — переспросила мать.
— Так Жозеф сказал, — ответила Сюзанна.
Жозеф надевал теннисные туфли. Он ушел очень злой. Мать убрала со стола и засела за счета. За свою «безумную бухгалтерию».
Произведения
Критика