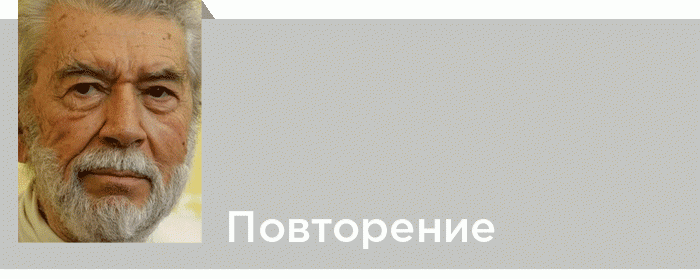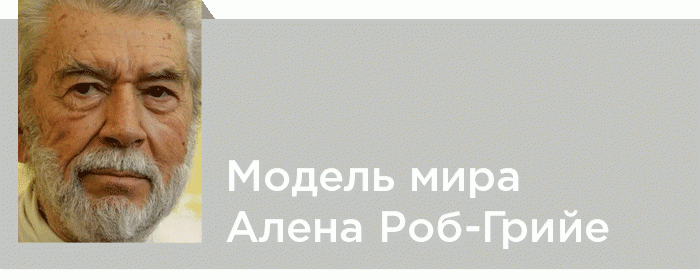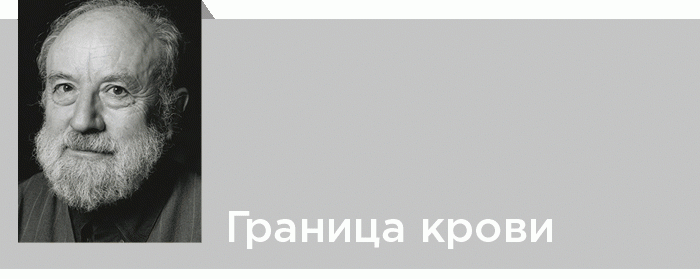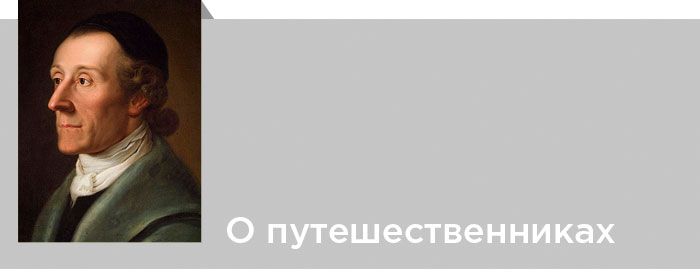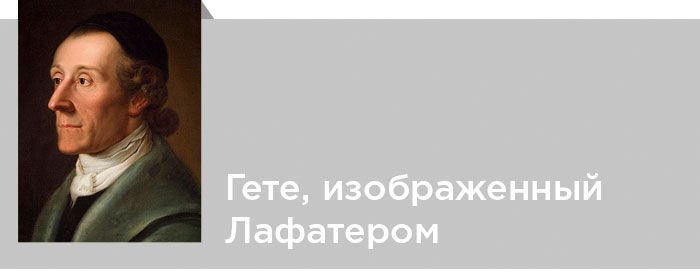Движение времени в романах Мишеля Бютора
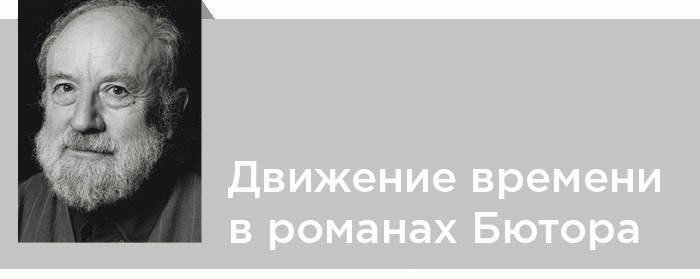
Т. В. Балашова
Перу Мишеля Бютора (Michel Butor, род. в 1926 г.) принадлежит сборник стихов «Следы» («Les Traces», 1959); романы: «Миланский проезд» («Passage de Milan», 1954). «Времяпрепровождение» («L’Emploi du temps», 1956, премия Фенеон за 1957), «Изменение» («La Modification», премия Реводо, 1957), роман-композиция «Ступени» («Degrés», 1960); репортаж «Движение» («Mobile», 1962) и текст для радио под заглавием «Воздушные линии» («Reseau aétien», 1962). Литературно-критические статьи Бютора собраны в двух книгах «Репертуар» («Répertoire», 1960-1964).
Ни один диспут о современном романе не обходится без упоминания Мишеля Бютора. И все-таки основные творческие принципы Бютора отличны от ведущего направления «нового романа» — это и заставляет посвятить ему отдельную главу — вне общего разговора о том, что предлагает «новый роман».
До сих пор имя Мишеля Бютора настойчивостью литературоведов прочно связано со школой «нового романа». Сам Бютор то удивляется такому сближению, то молча приемлет его. Впрочем, всякий самобытный художник либо уходит вперед, расставаясь с материнским кровом «школы», либо сам начинает определять ее лицо. Редко теоретическим постулатам удается обуздать живой талант.
Судьба Мишеля Бютора пока не опровергла этого правила. Сотни раз появлялось его имя рядом с именами Сэмюэля Беккета и Алена Роб-Грийе, но ни апокалипсическое уныние первого, ни холодное равнодушие второго не победило Бютора окончательно. Манифестами «нового романа» стали сентенции:
«Сегодня мир меньше уверен в себе, скромнее, потому что отказался от идеи могущества личности» (Ален Роб-Грийе). «Все мы слепцы во вселенной, лишенной света» (Клод Мориак). Бютор предполагает обратное: «Мир расширился в пространстве и времени, стал доступнее. Очертания его меняются со сказочной быстротой. Способы отношений и связи становятся точнее, быстрее, многочисленнее. Благодаря им мы вступаем в контакт с гораздо большим количеством людей, движений, событий, чем прежде».
Уважая общественную миссию художника, Мишель Бютор стал в 1962 году членом руководящего Совета Национального Комитета французских писателей.
Призыв к формальному новаторству, «новаторству во что бы то ни стало», хотя и поддержанный Бютором, довольно часто в его теоретических статьях уступает место раздумьям о гражданском долге художника, об отношениях людей в обществе и т. п. — т. е. интересы Бютора идут от проблем художественно-технических к общечеловеческим. В статье, экстравагантно озаглавленной «Творчество для меня — становой хребет», Бютор объясняет, почему он пришел к профессии романиста. Он получил философское образование и с увлечением преподавал философию, а в свободное время писал стихи.
Но ощущал, — по его собственным словам, — какой-то душевный разлад: философским занятиям не хватало поэтичности, стихам не удавалась глубина мысли. Замысел первого романа неожиданно оказался «решением этой личной проблемы», помог слить поэзию с философией, — мечта, прямо скажем, странная для неороманиста, чуждая программе «нового романа». «С помощью романиста, — заявляет он, — реальность познает себя, критикует, преображается».
Бютора занимает соотношение личности с коллективом. Работа «Индивидуум и группа в романе» содержит много весьма приблизительных, далеких от истины суждений о романе, но зато необычайно целостна по мироощущению, радости признания своего единства с огромным миром, по настойчивости интереса к «движению групп, частью которых мы являемся».
В этом движении, ощущаемом Бютором почти физически, его особенно интригует текучесть, изменчивость времени. Но метод романической трактовки движения времени отражает и силу и слабость Бютора: вдумчивый художник-гуманист постоянно спорит с холодным изобретателем, не избавившимся от горького скепсиса по отношению к человечеству. Талант Бютора пытлив, схватывает и колоритно-сочный материальный мир и путаные процессы психики. Но все это окрашено по-личному острым интересом к движению времени.
Далеко не всегда отказ от традиции оправдан у Бютора, далеко не всегда художественная форма его произведений действительно передает «вновь возникающие отношения», но новаторство Бютора отражает желание запечатлеть кардиограмму времени — так, как оно ему видится. Писатель взволнован и немного напуган ритмом XX века, инстинктивно чувствует, что в испытанной столетиями «машине времени» что-то сломалось и ей нужна новая программа, чтобы функционировать нормально на благо человека. Ключа к машине Бютор не ищет — но работу ее, ход времени — то величаво неторопливый, то нервно-стремительный, — старается зарегистрировать максимально точно. Время бывает эпохальным — когда ломаются границы краткой человеческой жизни, вступает в права История, перекликаются столетия. Бывает банальным, суетным, значимым лишь в пределах человеческой памяти — как я жил 10 лет назад, что делал вчера, чем заняться сегодня, куда отправиться через год.
Голос какого же времени волнует Бютора? Начал он с изучения просто времени, будничного, смешного и грустного, нестерпимо однообразного. Написал «Миланский проезд» (1954) и «Времяпрепровождение» (1956), книгу, скоро объявленную художественным манифестом «нового романа». Новым в нем было смешение, вернее совмещение, временных планов. Субтитры глав содержат указание на два месяца: май — октябрь, июнь — ноябрь, сентябрь — август и т. п., т. е. месяц, когда происходило рассказываемое событие, и месяц, когда герой по тем или иным побудительным мотивам вспомнил о нем. Книга имеет форму дневника. Октябрьским промозглым днем прибыл француз Жак Ревель в Лондон на должность экспедитора крупной фирмы «Матеюс и сын». Десять месяцев герой прожил в чужом городе, терзаемый заботами об уютной комнате, сносном обеде, тоскуя по друзьям (самым отзывчивым среди которых оказался негр Гораций Буч), волнуясь за судьбу известного писателя, случайно вошедшего в узкий круг его знакомств.
Таинственная интрига (прочитанный Ревелем роман «Убийство в Блестоне» описывает реальное место преступления и находящегося на свободе убийцу) лишь оттеняет жуткую однотонность бытия героя. Город давит, душит, оплетает паутиной обыденности. Человек «ползает по поверхности города как муха по шторе, натыкаясь снова и снова на стену, упираясь в иллюзорные двери, в иллюзорные тела». Он «бредет по зыбкой почве, отыскивая смысл своего существования, ... движется ощупью, спотыкается у края бездны...». Город, иссушивший, обескровивший героя, виноват в том, что Ревель не смог объясниться в любви, не смог распутать узел преступления, не смог победить равнодушия окружающих и уезжает на родину таким же чужаком, как приехал. Совмещение событий — происходящих и вспоминаемых, нелепая похожесть мая, июня, марта, ноября — способ затянуть петлю вокруг мятущейся души, отрезать ей дороги в иной мир — тепла и радости. Время течет, но по жуткому круговому руслу «...даже во мне что-то прошло сквозь строй этих времен года не изменившись — не выросло, не уменьшилось...». В движении времени Бютора есть своя гармония, но какая жалкая, механическая, убийственная! Время отчуждено от человека, стало орудием бездушного порядка, то и дело напоминающего о себе. Время стоит над природой, над личностью, оно обесчеловечено. Неумолимо однообразным движением оно перемалывает человека, делает его существование на земле попросту бессмысленным.
Страшная стихия обыденности «Времяпрепровождения», объективно обличающая механическую цивилизацию Запада, конечно, не может быть отнесена только к капиталистическому городу, только к деятельности фирмы «Матеюс и сын». Бютору кажется, что гармонию вообще отыскать трудно. Он возвращается к этому грустному выводу в следующем своем романе, хотя там время смиряет свою норовистость, дается человеку в руки.
Жака Ревеля река времени несла как щепку. Герой «Изменений» находит в себе силы «выбирать». Париж символизирует для него прозу жизни — однотонная работа, никчемные приобретения, постаревшая жена и шумные дети. Рим — в ореоле романтики, Рим — мерило красоты, поэзии, гармонии. Союзом с Прекрасным станет свободная от двуличия любовь к Сесиль. С этой мечтой, оставив семью, герой садится в поезд Париж-Рим. Купе третьего класса, пассажиры — такие разные! — голос проводника, за окном леса, станции ... В сознании героя проплывают (именно проплывают медленно, неторопливо, размеренные вынужденным бездействием никуда не спешащего пассажира) воспоминания и воображаемые сцены — как нудно свершался дома ритуал обеда, как завтра он будет бродить с Сесиль по праздничным римским площадям... К одной ночи стянута, по существу, вся жизнь — что было в ней и что будет. Сюда же вливается время, принадлежащее другим людским судьбам. Наблюдения за соседями по купе вовлечены в процесс размышлений героя. Он все видит сквозь призму своей драмы, и наоборот, переживания его питаются мимолетными впечатлениями. В этом приеме нет ничего необычного; необычна лишь настойчивость его повторения: слитность размышлений, воспоминаний и наблюдений — музыкальный ключ всего романа, определяющий психологическое «изменение» в сознании героя от вечера к утру.
Двенадцать ночных часов становятся экзаменом на прочность, чистоту чувства. «Силы, собиравшиеся издавна, взорвались в вашем решении отправиться в путешествие, но результат взрыва не был еще понятен, потому что в процессе осуществления лелеемой мечты, вы вынуждены были отдать себе отчет, что любовь к Сесиль для вас озарена светом далекой звезды... Романский миф (Рим — Roma.— Прим. ред.) разлетается в прах, если попробовать воплотить его».
Завтра герой вернется в Париж, оставив мечту нетронутой. Он сумеет обмануть время, не позволит ему превратить прекрасное грядущее в убогое настоящее. «Изменения» светлее предыдущей книги — человеку дано право на мечту, хотя бы иллюзорную. С лица времени снята маска убийственной фатальности. Прозрачнее здесь и почерк Бютора-психолога. Бегут минуты, будничные, неяркие, но трогательные своей человечностью. Их движение лишено нарочитой хаотичности, милой сердцу других неороманистов.
Ощущения абсурдной бессмысленности не возникает — мозг героя не регистрирует пассивно происходящее (как, например, «В лабиринте» Роб-Грийе), а напряженно анализирует, упорно ищет причины.
Изящество и содержательность психологического портрета у Бютора во многом объясняется тактично найденными художественными пропорциями: ситуация «Изменения» предстает частным случаем человеческой жизни, а не аллегорией абсурдной Вселенной (как, например, в «Планетарии» Натали Саррот, где мизерное возведено в, ранг космического). Воспоминания, мечты, воображаемые сцены, Наблюдения за соседями по купе, переплетаясь причудливо, образуют все-таки в «Изменении» ступени познания жизни.
Продолжая идти по этому пути — психологических этюдов, — Бютор, возможно, добился бы еще более неоспоримых удач. Но дальнейшие его искания говорят об интересе не просто к времени, но к Времени с большой буквы, к движению Истории, а здесь уже трудности множатся.
В 1962 г. появилось «Движение. Этюд для знакомства с Соединенными Штатами Америки». Многие особенности книги обусловлены жанром. Это скорее записная книжка романиста, нежели роман: назывные фразы, почти конспективный лаконизм описаний, характеристик. Впрочем, жанровые границы романа в современной французской литературе довольно условны, а книга Бютора, в отличие от целой серии «романов о романе», где сумбурные рассуждения автора выдаются за некое жанровое новаторство (см. «Золотые плоды» Н. Саррот, 1963; «Увеличение» К. Мориака, 1963), оставляет впечатление внутренней целостности: художественная завершенность соединена здесь с попыткой философского осмысления Истории.
Книга вся построена на контрастах — такова ее основная тональность. Бескрайняя — отвратительная и прекрасная — Америка мчится за стеклом автомобиля в «Движении». День-ночь, черное-белое, красоты ландшафта — грязь резерваций, чудеса техники — дикость расизма... Америка в «бютораме», по удачному выражению одного критика. Горизонты необъятны, движение стремительно, контрасты сногсшибательны.
Вместо однообразия, открытого предыдущими книгами, — кричащие противоречия, столкновения прекрасного с низменным, гармонии с автоматизмом, человеческого благородства с жестокостью. Страна, поразившая мир уже самим фактом своего существования, «континент, выросший на горизонте там, где его не должно было быть»... «невообразимая страна, здесь понедельник, там еще воскресенье, интригующая, страшная страна с неожиданными запусками спутников и кошмарами, преследующими вас ночью».
Первая мелодия контрастов развивается в пределах настоящего. Лаконичные зарисовки природы вмещают буйное многообразие красок, линий, ароматов.
Море — символ безбрежности, гармонии, неисчерпаемости жизни. Его красивые привольные волны набегают на страницы книги, и часто рисунок строк графически воспроизводит смену приливов и отливов:
Море — надежда на дружбу и любовь
Море позволит мне к тебе приблизиться
Тебя почувствовать, тебя потрогать,
Тебя ласкать, тебя обнять.
Но море далеко, как «романский миф» «Изменения» («Море ... Мы так далеко от моря, мы никогда не видели его...»), потому что на его берегах люди «догадались» устроить резервации. Буйство красок, форм, движений заковано в колючую проволоку — это резервации, загоны для индейцев, впрочем ..., «невежливо сравнивать их с концентрационными лагерями. Даже несправедливо — некоторые резервации ведь открыты для туристов». В мажорный хор голосов природы, поющий о разном, всеобщем, необозримом, врывается жесткое жадное «only» («только»).
«Штат Конкордия ... атлантическое побережье (только для белых). — В Южных штатах на автобусах и трамваях цветным ехать запрещено...
Мадисон... — Алабама. Глубокий Юг — (только белые).
Кливленд, Итон, крайний Запад — резервация кошаремских индейцев».
Как отвратительный скрежет посреди прекрасной симфонии это дикое слово — only ... ,whites only ... for whites only... — только ... только белые ... только для белых...
Вторая мелодия контрастов прорывается из настоящего к прошлому, развивается в историческом аспекте. Бег современности истеричен, сбивчив, обезображен автоматизмом помыслов и осуществлений. Движение истории мудро-неторопливо, полноводно. Рядом с издевательскими пометками: «желтый бюик перевернулся у обочины, надо бы набрать бензина у ближайшей колонки»; «Алло, мне срочно Лебанон, Иллинойс»: «на дороге томатного цвета шевроле (скорость не больше 65 км!)»; «надо набрать бензина»; рядом с убийственными рекламами «эта книга отвечает на все вопросы, как поступать, что одевать по различным поводам, интимным и торжественным» или «через Сирс Робик и К0 вы можете приобрести электрическое одеяло с двойным терморегулятором, позволяющим каждому супругу выбирать подходящую ему температуру» — мудрые народные легенды, славящие благородство и честь — легенды, особенно красивые, особенно человечные, потому что перебиваются механицизмом чувств цивилизованного мещанского мира. Ирокезский индеец, старейшина рода изобретает письменность, девушка отправляется на поиски брата и природа защищает ее от отчаяния, умирающие исцеляются от болезней, чтобы принести своим соплеменникам избавление от братоубийственных войн — везде ощутимы сердце, страсть, подвиг личности. А в разноцветных бюиках, выстроившихся у бензоколонки — куклы, запрограммированные на скорость. Как жалка марионеточная торопливость по сравнению с безграничным простором веков! Не менее чем завистливое слово «оnlу» среди щедрых даров природы. Автор не уточняет этих интонаций, не задерживается для пояснений. Его повествование — само по себе — движение. Короткие фразы, мгновенные впечатления, быстро меняющиеся картины, образы, бегущие словно за стеклом машины.
Стиль «Движения» ассоциативен — гораздо в большей степени, чем во всех других книгах Бютора. Мостики между образами автор перебрасывает редко. Он надеется на внимание читателя. Это в сознании читателя должны соединиться певуче-красочные виды природы и грубо-яркие рекламы, строгие легенды и зрелище перевернутых вверх колесами машин. Книга вся построена на такой игре ассоциаций. Ассоциативны даже цвета (индейцы «бежали на Кубу. Черные. Ракушки отмели Св. Жака. Черные... Наша религия бела, а они ее сделали черной, в своих церквях, выкрашенных в белый цвет — более черный, чем просто черный»).
«В одной деревеньке Шелбурна, — рассказывает автор, поясняя замысел своей необычной книги, — воспроизвели несколько старинных домиков, предназначенных на слом рядом... Устроили таким образом своеобразный музей. Самое интересное в нем сшитые из кусочков одеяла — «кильты» — мозаика из тканей. Мое «Движение» построено отчасти по принципу «кильтов».
Слово «мозаика» неплохо определяет форму «Движения». Лишь издали мозаика слагается в цельную картину. Книга Бютора тоже требует известной дистанции, чтобы случайно соседствующие тона вдруг составили целое.
Чем привлекла Бютора именно такая форма? Конечно, прежде всего, возможностью передать движение — по дорогам Америки и дорогам Истории. Движение, при котором контрасты, сближаемые скоростью, говорят сами за себя, а бег времени становится поступью Истории. Эволюция веков, эволюция человечества интересует автора «Движения» не меньше, чем обыденная череда дней автора «Времяпрепровождения» или «Изменений».
Но законы «большого» времени уловить, конечно, труднее, и Бютор не берется за эту задачу, удовлетворяясь пока передачей мгновенных впечатлений, первых тревожных мыслей. Композиция, стиль «Движения» оказываются очень удобными — форма «движущегося этюда» не предполагает развернутых философских обобщений, авторских отступлений. А Бютор как раз и не стремится к ним, не стремится к полному выявлению авторского взгляда на Историю. Картины «Движения» открывают смятенность его представлений о мире.
Мечта о прекрасном утратила иллюзорное спокойствие финала «Изменения». Авторская интонация тревожна, взволнованна.
В нервном беге сменяющихся картин — смятение писателя, постоянно звучащий недоуменный вопрос — «Почему?» Ответить на него Бютору не под силу, потому что не все несомые историей потоки, не все водовороты времени открылись его взгляду.
Но в этом тревожном недоумении больше живительной силы, чем в грустном фатализме «Времяпрепровождения».
Предсказать, чем разрешится эта тревога, — трудно: книги, хронологически обрамляющие «Движение», — роман. «Ступени» и радиотекст «Воздушные линии» (1962) — разочаровывают. Здесь уже формальный поиск подавил художественную мысль.- Интрига «Ступеней» искусственна. Учитель истории и географии Пьер Вернье задумал написать книгу о своем классе, о тридцати мальчуганах, столь непохожих друг на друга. Ему вызвался помочь племянник, ученик того же класса. Но авторы не выдерживают трудности замысла. То, что для мальчика увлекательная игра, для посторонних глаз — фискальство. Пьер-младший больно ранен подозрениями в шпионаже, а переживания Пьера-старшего приводят к трагическому исходу. Не вынеся сложности отношений с племянником и учениками, он тяжело занемог. У его постели, которая каждый миг может стать смертным ложем, — возлюбленная, принесенная им в жертву пресловутой книге, маленький Пьер да Анри Журэ, вынужденный продолжать дневник брата и племянника, чтобы закончить эту печальную историю для читателя.
Внутренняя задача книги, конечно, не в этих, достаточно надуманных перипетиях, а в самой идее невозможности для одного человека понять другого.
Сравнительно краткий временной отрезок повторен в романе трижды — рассказывает Пьер Вернье, потом его брат Анри Журэ, затем подросток Пьер Эллер. Каждая из трех частей книги имеет, таким образом, своего повествователя, который в соответствии с собственным опытом и знаниями старается домыслить факты жизни другого. Даже внешняя канва событий всякий раз как бы смещена по сравнению с первоначальной. А мотивы поступков кажутся подчас прямо противоположными, словно речь идет об иных днях, иных людях — подлинный смысл переживаний другому ведь непонятен. Время, повторяясь, предстает сильно измененным. Оттенки его смутны, неуловимы. Появляется в общем чуждая почерку Бютора зыбкость рисунка. Вместо боли за простые человеческие судьбы, перемалываемые гнетущей фатальностью времени, — холодок равнодушия, смирение, жизнь впервые в творчестве Бютора возникает хаотичной, беспорядочно-непознаваемой. Одновременный показ разных сюжетных линий, внезапные явления прошлых веков на уроках истории или латыни, столкновение убогого настоящего со столь же убогими мечтами — все усиливает ощущение хаоса, сменой картин подчеркнуто не закономерное, как в «Движении», а случайное.
Время — эпохальное и обыденное — соткано из случайностей, не имеющих значения, складывается из кубиков, каждый из которых может быть увиден «другими глазами», т. е. получить иной цвет, иную форму.
Таков философский итог «Ступеней». Но самый обидный итог — победа формализма. Форма подавляет здесь содержание, создавая резкий контраст между напряженностью художественно-технических новшеств (параллелизм сюжетных планов, быстрое переключение от истории к обыденности, «тройной» угол зрения на один и тот же временной отрезок) и пустотой содержания.
Но все это было в 1960 г., за два года до создания «Движения». Может быть, для автора «Движения» увлечение формальной игрой стало уже пройденным этапом? Увы! 16 июня 1962 г., через четыре месяца после выхода в свет «Движения», по радио прозвучала написанная Бютором «постановка» — «Воздушные линии».
Поначалу «Воздушные линии» способны увлечь. — Почему бы не попробовать, ловя обрывки разговоров, составить впечатление о судьбах, профессиях, отношениях пассажиров, высказать предположения о их характерах и мечтах? Когда Бютор берет читателя с собой на борт самолета, направляющегося с парижского аэродрома Орли в Нумею, читатель настраивается именно на такое занятие. Даны только реплики — лаконичные или пространные, малозначительные или многообещающие, реплики между мужем и женой, знакомыми и незнакомыми попутчиками. Читатель узнает, что чета педагогов направляется в Нумею учить ребятишек, что другая пара, коротающая время над кроссвордами, наоборот, возвращается домой. Забавны трогательные заботы молодожена-студента и пререкания опытных супругов: ворчливый, недовольный «он» и терпеливая, тяготящаяся обществом мужа «она». Персонажи обозначены буквами: А, В, С, D, Е. Заглавные буквы — мужчины, строчные — женщины.
Мы согласны уже продолжить путешествие с этими необычными «буквенными» персонажами. Но автор полагает, видно, что и это был бы слишком легкий «жанр». Скоро над вами уже не один, а множество самолетов, движущихся по разным направлениям, собеседников — не десять — сотни. За одной буквой теперь скрывается несколько персонажей. Идентичность несет оттенок иронии. «Твои гибкие губы, твои нежные губы, твои горячие губы... Зелень твоих глаз, живость твоих глаз, зеленые розы твоих глаз», — слышит одна h от D, потом другая h от А: «Ты спишь в лесу, я унесу тебя в лес, где змеиные глаза, змеиное шипение, рычание вулканов, стук птичьих клювов», — как неизобретательны влюбленные! Хаотический туман гораздо более плотный, чем в «Ступенях». Время разбито на массу осколков, перемешанных где-то под облаками. Оно движется не по прямой, не по спирали, не по кругу, а бьется в беспорядочном вихре, каждая взметенная им частица претендует на значимость, целое абсурдно.
Экспериментаторство снова сковало художника. «Радиофонический текст» (таков подзаголовок «Воздушных линий»), может показаться забавно-странным. Новаторским его не назовешь.
Что же победит в последующих поисках Бютора? Увлеченность формальной игрой или реальными жизненными контрастами? «Философское» равнодушие или тревога искателя, открывающего людям непознанное? Пока же с уверенностью можно сказать лишь одно: Бютор обещает больше, чем кто-либо из неороманистов. Это к нему в первую очередь должны быть отнесены ожидания Арагона на близкий раскол современного «Парнаса», на скорый отход молодых «модных» писателей от проблем художественно-технических к общественным, национальным.
Это очень интересно и увлекательно — изучать тревожное и величавое время сегодняшнего дня в многообразии социальных и этических битв, его определяющих. Если Бютор решится дать ему место в своем творчестве— обретут смысл его надежды на создание новаторского романа, который выразил бы мироощущение человека XX столетия и сумел бы повлиять на ход истории.
Л-ра: Балашова Т. В. Французский роман 60-х годов. Традиции и новаторство. – Москва, 1965. – С. 69-82.
Произведения
Критика